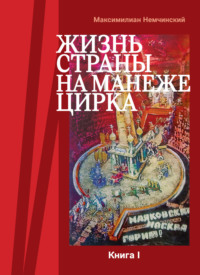Полная версия
Невероятный советский цирк. Краткий обзор стремлений мастеров манежа поставить свое искусство на воспитание нового общества

Максимилиан Немчинский
Невероятный советский цирк
Краткий обзор стремлений мастеров манежа поставить свое искусство на воспитание нового общества
© Немчинский М. И., 2024
© Издательство ГИТИС, 2024
* * *Памяти наставников, коллег, учеников, сотворивших это чудо
…Если бы ничто не проходило,
не было бы прошлого времени;
если бы ничто не приходило,
не было бы будущего времени;
если бы ничего не было,
не было бы и настоящего времени.
Аврелий АвгустинОт автора
Чтобы воссоздать историю становления необычного циркового искусства нашей страны, следовало бы проанализировать работу всех артистов, выходивших на манежи республик Советского Союза с 1920-х гг. до последнего десятилетия минувшего века, или хотя бы назвать их. Это не удалось даже составителям двух энциклопедий: «Цирк» (1973 г., переиздание исправленное и дополненное 1979 г.), самокритично названной «маленькой энциклопедией», и «Цирковое искусство России» (2000 г.), книги заведомо неполной.
На такую трудновыполнимую задачу не решился и я.
Хочется надеяться, что в этой монографии передана – пусть и вынужденно пунктирно – упрямая вера цирковых артистов в свои способности, их готовность добиваться поставленной цели, несмотря на любые трудности и запреты. Цирк убежденно стремился (как стремится и сегодня) доказать и себе, и всем остальным, что он равноправное с другими, полноценное искусство своего времени. Поэтому, своеобразно следуя завету Ж.-Б. Мольера, он всегда старался, развлекая, все-таки поучать своего зрителя.
Созданию монографии помогла многолетняя помощь коллег по цирку, сотрудников Музея циркового искусства Санкт-Петербургского цирка и Научной библиотеки ГИТИСа, а также Инги Лозовой.

Эмблему советского государственного цирка держат силовые жонглеры Игнатий и Александр Нелипович (Нельгар)
Поиск стиля.
1918–1941
Широко известно ленинское утверждение: «Из всех искусств важнейшим для нас является кино»[1]. Но и в наши дни жива еще убежденность, что передано оно не полностью. Якобы было сказано: «…кино и цирк».
Если это и не так, достоверно известно, что в декрете Совета Народных Комиссаров (СНК) «Об объединении театрального дела», подписанном его председателем Владимиром Ильичом Ульяновым (Лениным) и наркомом просвещения Анатолием Васильевичем Луначарским, цирки были отмечены как «предприятия, с одной стороны, доходные, с другой стороны, демократические по посещающей их публике»[2].
Цирки, таким образом, сочли в 1919 г. пригодными для воспитания народа. Они наряду с государственными театрами (так с Февральской революции начали именовать бывшие императорские театры) попали под административные и художественные распоряжения Центротеатра Наркомата просвещения (Наркомпроса).
Так в ХХ в. возник первый в мире государственный цирк.
Первый в мире, но не впервые в нашей стране.
Еще в 1847 г. по личному указанию Николая I в столице Российской империи приступили к строительству каменного здания Цирка-театра и одновременно учредили при Санкт-Петербургском театральном училище Дирекции императорских театров цирковой класс. Учеников назначили из числа русских пансионеров. Они обучались всем принятым в училище дисциплинам, а также цирковому мастерству. О значении, которое придавалось этому начинанию, свидетельствует то, что обучал будущих циркачей глава и премьер гастролировавшей в столице французской труппы Поль Кюзан, а его переводчиком выступал сам глава Дирекции императорских театров Александр Михайлович Гедеонов. Спустя 25 месяцев первый в мире государственный цирк, Санкт-Петербургский цирк Дирекции императорских театров, выстроенный по планам парижского здания братьев Франкони и с той же роскошью, был открыт дивертисментом, в котором принимали участие русские выпускники. Еще год спустя в императорском цирке была осуществлена постановка первой русской военно-батальной пантомимы. При этом пантомимы, обреченной на зрительский успех, потому что основывалась она на реальных, подробно освещаемых прессой сражениях императорских полков с отрядами Шамиля, в 1848 г. взявшими в жесткую блокаду аул Ахты. Русский гарнизон выстоял.
О значении, придаваемом этой работе, говорит высочайшее повеление разрешить участие в ней действующих войск (как конных, так и пеших), использование артиллерии и православного богослужения (что строжайше запрещалось театрам до февраля 1917 г.). Цирку предстояло, присоединившись к патриотическим постановкам императорских драматического и оперного театров, содействовать своим репертуаром воспитанию общества в духе русской национальной идеи.
Победа Октябрьской революции поставила перед страной совсем другие идеологические задачи.
Если придерживаться мнения, что цирк – искусство (автор в этом убежден), то он обязан пусть своеобразно, в средствах своей выразительности, но отображать на манеже действительность. Значит, реалии жизни, тем более современной, обязательно должны входить в цирковое мастерство и цирковое зрелище. Это в равной степени касается также использования всех достижений культуры, а значит, и востребованных в каждый исторический период эстетических и идеологических позиций.
Принято считать, что современный профессиональный цирк возник в конце XVIII в. как цирк конный. И начал он формироваться благодаря стараниям Филипа Астли[3] – владельца одной из бесчисленных, разбросанных по всему миру школ верховой езды. Стремясь заполучить как можно больше учеников, он, в отличие от коллег, догадался организовывать показательные выступления берейторов своей школы. Та м Астли с компаньонами демонстрировали виртуозные достижения наездничества и выездки. Желание подхлестывать зрительский интерес (и увеличивать число обучающихся) вело к тому, что профессиональное мастерство всадников обогащалось всеми возможными способами. В этом неоценимую помощь оказал недавно выделившийся из оперы балетный театр. Наездники, встав на седла, приспособились воспроизводить на них последние хореографические премьеры. Цирк, еще не ставший цирком, уже драматизировал показ своего профессионального мастерства. Все ширящийся успех нового конного зрелища, приносящего солидные доходы, позволил со временем окружить манеж бывшей школы тремя ярусами зрительских мест (под которыми расположили стойла) и перекрыть все это пространство, как в престижном театре, расписным потолком.
Та к появился в лондонском предместье Тампль «Амфитеатр Астли» и началась долгая славная история нового зрелища, равно привлекательного для любителей конного спорта (им всегда гордились англичане) и почитателей стремительно развивающегося балетного искусства. К тому же Астли и его компаньон Билл Саундерс догадались перемежать выступления на лошадях сценками клоунов, без которых в Англии не обходились ни простонародные гуляния, ни высокие трагедии Уильяма Шекспира.
Родилось новое искусство.
Эдмон де Гонкур, поражавший современников четкостью тщательного проникновения в любой материал, который он вместе с братом Жюлем исследовал и излагал, сформулировал самую его суть:
«Англия – первая в Европе страна, вздумавшая одухотворить акробатический трюк. Та м гимнастика превратилась в пантомиму, там бессмысленный показ мускулов и мышц стал чем-то забавным, грустным, иногда трагичным; там гибкость, проворство, ловкость тела впервые задались целью вызвать смех, страх, мечты – так, как это делает театр»[4].
Theatre hippique («Театр лошадей») – написали на фронтоне своего заново отстроенного стационара в предместье (уже парижском) Тампль братья Лоран и Анри Франкони, поднявшие образную содержательность нового искусства до подлинно театральных высот. Правда, просуществовало это название недолго. Указом Наполеона, ревностно насаждавшего «большой стиль» в своей империи, всем зрелищным коллективам в столице, кроме «Комеди-Франсез» и «Одеона», было запрещено именоваться театрами. Братья, вспомнив о европейском увлечении античностью, вызванном публикациями о походах французских войск в Египет и Италию, назвали свое детище неожиданно и зазывно – «Олимпийский цирк».
Название прижилось, сократившись со временем до «цирк».
В новом искусстве неразрывно переплелись профессиональная выучка исполнителей, их индивидуальность (как физическая, так и духовная) и актерская одаренность.
Парижский стационар Франкони собрал со временем лучших исполнителей. Они, совершенствуя свое мастерство, спустились из седел и с крупов лошадей на манеж, в партер, как это принято говорить у профессионалов. В отличие от постоянно уходящего из-под ног крупа лошади развернутая в 13-метровый круг устойчивая игровая площадка позволяла свободнее строить трюковые комбинации, мизансцены, все усложняющиеся разножанровые и образные взаимоотношения партнеров.
Владельцы, они же премьеры (сегодня их назвали бы продюсерами), парижской труппы Франкони и лондонского «Амфитеатра», заручившись поддержкой коллег, разъезжали с гастролями по всем столицам мира. Удивительное цирковое мастерство (тем более впервые увиденное) обретало все новых поклонников, становилось востребованным на всех континентах, во всех странах.
Полюбилось оно и в России.
Премьеры, уверенные в выучке своих вольтижерок и вольтижеров, стремились всячески подчеркивать уважение к национальным вкусам нового зрителя. Та к поступил и ученик Астли, но при этом сторонник реформ Франкони – Жак Турниер, построивший в Санкт-Петербурге первый в России постоянный стационар под названием «Олимпический цирк». Сохранилась афиша-программа его открытия в 1827 г. с гравюрой, на которой дети патрона Бенуа и Луиза Турниер, одетые в сарафан и армяк, танцевали, подвязав косу и бороду, «русскую пляску на лошадях». Цирк сразу же доказывал новому зрителю, что он самостоятельный, вобравший все лучшие средства выразительности других искусств и выучки театр, что он уважает и разделяет патриотизм своих зрителей.
Интернациональное по сути своей цирковое искусство, завоевывая мир, преображалось в каждой стране, вбирая ее культуру и идеологию. Более того, в те далекие времена артистические коллективы возглавляли, а их художественную политику определяли подлинные премьеры ведущих жанров (как правило, дрессировщики лошадей и наездники). Выбрав страну пребывания, они ухитрялись не просто соответствовать требованиям тех мест, в которых намеревались обосноваться, но и найти, завербовать, воспитать своего зрителя, чьим культурным запросам стремились соответствовать. Поэтому представления санкт-петербургского цирка Гаэтано Чинизелли, остававшиеся высокопрофессиональными, отличала подчеркнутая роскошь, привычная аристократически-чиновной столице. Альберт Саламонский в деловой фабрично-заводской Москве, напротив, избегал показной красивости, делая упор на несомненную сложность любого зрелища, вынесенного на манеж. Точно так же братья Никитины в крупнейших волжских городах, особенно в Нижнем Новгороде, ежегодно собирающем на свою всемирно известную ярмарку предпринимателей со всего света, предоставляли отечественным негоциантам возможность похваляться не только богатствами местной природы и промыслов, но и достижениями артистов на манеже «Русского цирка».
Способностью к преображению при выходе к зрителю обладали многие артисты (а стремились к этому все). Они, используя профессиональные навыки того или иного жанра, разыгрывали на манеже своеобразные сценки, за которыми угадывались конкретные бытовые ситуации. К этому побуждал своих вольтижеров еще Астли. Правда, его артисты заимствовали сюжеты своих сценок уже в адаптированном виде с балетной сцены.
Как раз в годы создания «Амфитеатра» ее труппу возглавил Жан Жорж Новерр, и тогда же вышли в английском переводе его прославленные «Письма о танце и балетах».
«Поскольку балеты есть театральные представления, они должны состоять из тех же элементов, что и произведения драматические. Всякий балетный сюжет должен иметь экспозицию, завязку и развязку, — безапелляционно заявлял балетмейстер. – Успех этого рода зрелищ отчасти зависит от удачного выбора сюжета и правильного распределения сцен»[5].
Почти наверняка Астли не читал это сочинение. Но он, безусловно, был вынужден доверять вкусу своих лондонских зрителей, которые с не меньшим профессионализмом, чем о статях лошадей, судили о вариациях танцовщиц. Поэтому, начав с приглашения балетных хореографов для адаптации их премьер к исполнению на крупах лошадей, Астли следовал этому правилу и в дальнейшем. Гастрольные программки свидетельствуют, что зрителям предлагались «Галантная цветочница» и особо популярная «Шотландец и сильфида». И в дальнейшем, когда новое искусство завоевало континент, последние постановки на балетной, драматической, позже кабаретной сценах существенно преображали цирковые номера, сообщая им дразнящий привкус современности, другими словами новизны, сиюминутности, открытия. Афиши Франкони сохранили названия и этих сценок, а сочинения современников – их содержание: «Песни Беранже», «Отелло, или Венецианский мавр»… Такие же театрализованные (точнее, все-таки драматизированные) сценки продолжали исполнять и лошади под всадниками: «Девонширский менуэц», «Гвардейский маневр», «Маневр мамелюков», «Кадриль Людовика XIV», позже «Пасторальный контрданс». Стремление соответствовать художественным и социальным пристрастиям зрителей диктовало и выбор тем для пантомим, в том числе патриотических, от «Сражения и смерти генерала Мальборо» у Астли до «наполеоновского цикла» в цирках Франкони.
Это повышенное внимание к интересующим потенциальных зрителей темам и проблемам зрелище на манеже сохраняло и развивало всегда.
Цирк, сознавая, точнее утверждая себя как искусство, постоянно обращал самое серьезное внимание на свою образную содержательность. Весь построенный на различных, казалось, физических навыках, он проявлял их, выстраивая четкую цирковую драматургию. Можно утверждать, что зрелище цирка всегда было театрализировано. В этой двойственной природе цирка – его притягательность.
Хотя в том, что цирк – искусство, у нас продолжают сомневаться в самых высоких и властных (значит, ведающих распределением бюджетных средств) инстанциях, но с тем, что он явление многожанровое, всегда привычно соглашаются. Однако, как ни отличны друг от друга гимнастика и акробатика, жонглирование и эквилибр, иллюзионизм и дрессура, профессиональные приемы их воплощения принято именовать во всех странах одним и тем же термином. У нас он пишется и произносится как трюк[6].
Что же стоит за этим обозначением профессионального мастерства? Почему именно им принято именовать зрелища, создаваемые на манеже, эти действия, выражающие самую суть цирковой выразительности?
В нашей стране любые рассуждения на эту тему сводятся, по существу, к варьированию или цитированию (иногда раскавыченному) утверждения Евгения Михайловича Кузнецова из опубликованного в 1931 г. фундаментального исследования «Цирк»:
«Цирковой трюк представляет собой отдельный законченный фрагмент любого циркового номера, хотя бы самый обыкновенный по технике и кратковременный по выполнению, но вполне самостоятельный и в себе замкнутый, и является простейшим возбудителем реакции, воздействующим на зрителя таким реально выполняемым разрешением задания, которое лежит вне обычного круга представлений и в этом кругу кажется неразрешимым»[7].
Утверждая, что цирк – искусство, следует прежде всего понять, что же представляет собой это уникальное явление – трюк, без которого невозможно вообразить ни номер любого жанра в цирке, ни представление на его своеобразной круглой сцене, ни каждого выступающего на ней артиста (будь то человек или животное), ни само цирковое мастерство.
Парадокс кроется в том, что, кроме демонстрации владения конкретным профессиональным (в контексте рассматриваемой темы – ремесленным) навыком, трюк несет в себе несомненное образное содержание. И в этом своем качестве он является специфическим манежным действием (аналогом действия сценического), формирующим манежный образ артиста цирка.
Ведь образное насыщение номеров, взаимоотношений партнеров, профессиональных навыков всех жанров и есть глубинная суть искусства цирка. Но партнером циркового артиста может быть и снаряд, на котором он выступает, и реквизит, позволяющий проявить свое мастерство, не говоря уже о животных. Не случайно еще прославленный Владимир Леонидович Дуров, склонный к научным изысканиям, а следовательно и к использованию терминологии, анонсировал своих четвероногих и пернатых питомцев как труппу «антропоморфных животных». Цирк с самого начала постоянно драматизировал свои трюки, номера и представления. Он последовательно утверждал себя как своеобразный театр на открытой со всех сторон круглой сцене.
Технические изобретения, всегда изменчивая мода, новые духовные идеалы, капризы общественного вкуса постоянно воздействовали на образность манежа. Разумеется, она менялась, отвечая жизненному укладу и духовным потребностям зрителей: другие времена – другие нравы – другой цирк. Особо значимые достижения любого жанра все же оставались в неприкосновенности. Их даже подчеркнуто оберегали, демонстрируя как «классику». Это понятное без слов искусство развивалось как явление интернациональное.
Даже в годы Первой мировой войны цирковые представления Петрограда, Москвы, да и других крупных городов нашей страны, состояли в основном из номеров западноевропейских артистов, являвшихся уроженцами стран Антанты[8] (подданные враждебных государств были интернированы). Сердечное согласие объединяло всех, без различия национальности и гражданства, артистов цирка.
Но вдруг случилось, казалось, невозможное: Российская империя развалилась. Безвозвратно исчез привычный зритель. Иностранные гастролеры один за другим покидали голодающую Россию. Цирки продолжали давать представления, уже целиком составленные из номеров русских или давно обрусевших мастеров. Чтобы выжить, не умереть от голода, требовалось во что бы то ни стало сохранить то, что давало пропитание и кров. Артисты, самой профессией приученные рассчитывать сами на себя, на свою выучку и талант, создавали работающие на паях Колларты и Колрабисы (так в телеграфном стиле эпохи именовались Коллективы артистов и Коллективы работников искусства) и всячески стремились заполнить залы. Каждый старался как мог. Непосредственной – текущей, как в те годы начали говорить, – организационной и художественной работой вынужденно занимались сами артисты цирка. Самыми деятельными, самыми прогрессивными уже в силу своей профессии повсюду становились клоуны.
Зрелищные предприятия, и цирки в том числе, не отапливались. Оркестранты, как и зрители, сидели в шубах. Но гимнастам и акробатам, дрессировщикам, да и клоунам сама их профессия выйти на манеж в шубе не позволяла. У них была одна лишь возможность согреться – работа, один способ сохранить рабочую форму – репетиции. И они усердно трудились во все дни недели, кроме понедельников, объявленных днями отдыха для артистов.
Разумеется, мастера манежа, как и их коллеги из театров, не отдыхали в этот день. Они искали любой случайный заработок. Это была единственная возможность прокормиться. Ведь восьмушка непропеченного хлеба, скверная селедка, щепотки соли и махорки, положенные по продовольственным карточкам, выдавались далеко не каждый день. А если и удавалось «отовариться», утолить этим голод, свой и близких, уж точно не было возможности. Вот и приходилось в 30-градусные морозы пешком (лошади были съедены, трамваи не ходили) идти через весь город в районные фабричные и красноармейские клубы, чтобы отработать там за «паек». Часто приходилось соглашаться и на бутерброды с повидлом, на морковный чай с сахарином или изюмом.
Кроме работы в представлениях и «халтуры» часто приходилось по разнарядке разгружать вагоны с дровами, с продовольствием, ходить на прочие трудовые повинности. Но при этом вечерами распахивались занавесы форгангов, выходили двумя колоннами униформисты, начинались цирковые представления. Под бравурную музыку, как до революции. И артисты старались выглядеть праздничными и ловкими – как вчера, как всегда.
Еще с Февральской революции большинство цирков управлялись самими артистами на правах товарищества (участники делили выручку между собой по маркам). В Петрограде, тогда еще столице Страны Советов, исполнители номеров, законтрактованных цирком Сципионе Чинизелли, в 1918 г. тоже задумали взять управление в свои руки, создать Коллектив артистов (Колларт), но руководители города мастеров манежа не поддержали.
Тогда председатель Петроградского отделения профсоюза «Сцена и арена» музыкальный клоун Юрий (Георгий) Константинович Костанди отправился на заседание Комиссии по организации зрелищ и представлений и внес предложение обсудить вопрос о создании Государственного цирка и устройства при нем Школы циркового искусства. Предложение показалось настолько несвое временным, что его даже не включили в повестку дня. Правда, Всеволод Эмильевич Мейерхольд, член этой комиссии, рекомендовал начать ходатайствовать об организации при Театральном отделе особой секции, «которая бы взяла на себя разработку вопросов, связанных с реформой цирка»[9]. Хотя конкретных решений так и не приняли, посланцы цирка были довольны. Ведь даже председательствующая Комиссии Ольга Давыдовна Каменева заявила, что «искусство циркового артиста революционнее по существу искусства всех других видов театра»[10].
Признанный и обласканный (как всегда, на словах), цирк был предоставлен сам себе. Но здесь издавна привыкли рассчитывать на собственные силы.
Мечислав Станевский (Бом), добившийся выхода мастеров манежа из Российского общества артистов варьете и цирка (РОАВиЦа), возглавил новый, отказавшийся от прежней связи с эстрадниками цирковой профсоюз – Международный союз артистов цирка. Товарищество артистов в Москве, когда Радунский отказался от директорства, возглавили старейший клоун-буфф Сергей Сергеевич Альперов и молодой Леон (Леонард) Танти, который с братом составил дуэт «современных музыкальных клоунов» и успел полюбиться зрителю. Любые организационные проблемы оперативно решали брат Леона, Константин, и сын Альперова, Дмитрий.
Какие бы руководители, какие бы организации ни навязывали цирку свои установки, цирковые артисты, порой уклоняясь, порой изворачиваясь, ухитрялись сами решать свои проблемы. А советчиков хватало. Цирк, настоящий, проказливый, ошеломляющий сменой ритмов и вышколенностью, высочайшим мастерством, жадным интересом ко всему новому, тотчас используемому на манеже, постоянно привлекал внимание и собратьев по искусству, и почитателей.
Поэтому ничего сверхординарного не было в том, что ни в чем не схожие друг с другом люди собирались по понедельникам (этот день с декабря 1917 г. был объявлен всеобщим выходным днем зрелищных предприятий Москвы) в Доме цирка. Маленький зал столовой Международного союза артистов цирка был традиционным местом импровизированных концертов, розыгрышей, спонтанно возникающих обсуждений.
О некоторых из них, названных «диспутами», газетные публикации сохранили свидетельства. На одном из них нарком просвещения А. В. Луначарский (правительство уже переехало в Москву) поделился своими представлениями о существе и возможностях цирка. На другом театральные деятели (как составившие уже имя, так и добивающиеся еще признания) рассказывали о своем понимании путей развития цирка. Все их отверг В. Э. Мейерхольд, изложив свой, представляемый историками цирка как единственно правильный: «…цирковым артистам нечему учиться ни у актеров, ни у режиссеров драмы».
«Диспуты» эти, воспринимающиеся в наши дни как некий руководящий партийно-хозяйственный актив, в действительности были вольной импровизацией на заданную тему. Собравшиеся по обычаю тех лет на чай с бутербродами рассуждали вслух. Речь Луначарского была не запланированной декларацией (как она воспринимается при чтении), а просто рассуждением вслух в меру эрудированного любителя всяческих искусств, цирка в том числе. Да и остальные участники говорили о проблемах, волновавших непосредственно их в собственной профессиональной жизни. Отсюда и рассуждения о «театре-цирке» увлеченного старинной французской буффонадой Н. Фореггера, о «царстве мускулов» В. Шершеневича, вспомнившего свои переводы манифестов футуриста Т.-Ф. Маринетти, о «новаторском цирке» В. Л. Дурова, издавна им пропагандируемом как искусстве, воздействующем «уже не только как цирковое, на зрение, но и на ум, и на душу посетителя».
Но все эти мечтания перечеркивало безапелляционное утверждение Мейерхольда, расправившегося со всеми выступавшими до него: «…театра-цирка нет и его не должно быть»[11].