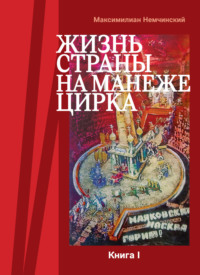Полная версия
Невероятный советский цирк. Краткий обзор стремлений мастеров манежа поставить свое искусство на воспитание нового общества
Магия непререкаемого в наши дни авторитета Мейерхольда столь высока, что никто не удосужился проверить место бесконечно цитируемого фрагмента в контексте выступления. А то, что речь, произнесенная в «Доме цирка», была важна для петербургского гостя, подтверждает уже его авторство анонимной заметки, которая и осталась единственным свидетельством «диспута». Случайно зашедший на огонек к друзьям (мастер жил и работал в Петрограде), он сформулировал наконец, чего сам ждал от театра и, главное, от воспитания новой породы артистов.
Обычной в мировой практике смены цирковых номеров между всеми континентами и странами Россия была лишена с начала войны с Германией и ее союзниками, перешедшей в столкновения с войсками Антанты. По сути, в цирках последние почти 10 лет сборы держали русские артисты и немногие оставшиеся иностранцы. Это удавалось потому, что цирковые мастера владели, как правило, несколькими жанрами, а кроме того, их актерская одаренность позволяла за счет изменения облика и взаимоотношений партнеров многократно менять и сами номера. Начавшаяся Гражданская война усложнила и так непростую ситуацию. Многие артисты перебрались к восточным границам, к более сытой и спокойной жизни. На уговоры вернуться в Москву они не поддались. Оставшимся в столице пришлось, меняя костюмы и комбинируя свои возможности, создавать новый цирк старым составом. Разумеется, рассчитывая при этом на новый, так же часто меняющийся сатирический репертуар.
Через два года после провозглашения России советской республикой – раньше не до того было: пришлось сражаться и с войсками германских противников и бывших союзников, и с протестующими внутри страны – правительство вспомнило об учреждениях культуры. Среди прочих важных государственных постановлений был принят и декрет «Об объединении театрального дела».
Национализация, проведенная, казалось, в целях улучшения жизни мастеров манежа, именно им никакой пользы не принесла.
Декрет лишил цирковые труппы каких бы то ни было прав, а богатые запасы манежных ковров, скопившихся за десятилетия костюмов и декораций к пантомимам, конной упряжь и украшений очень быстро были расхищены. Сами же артисты, по терминологии революционных лет, начали числиться мелкими частниками. Но работать в национализированных зданиях, кроме них, было некому.
Для организации традиционных программ не хватало номеров. Большинство пережидающих голодное и холодное лихолетье на Кубани и в Средней Азии артистов, опасаясь наступления белогвардейских войск, возвращаться в Москву не спешили. Заявление о создании «грядущего цирка» было чисто декларативным. Ведь для подлинного превращения цирка в государственный предстояло решить три конкретные проблемы: создать производственную базу, воспитать актерскую смену, подготовить новый репертуар.
В исследованиях о советском цирковом искусстве период этот выписан как время продуманных и последовательных задач, поставленных перед мастерами манежа учрежденной при ТЕО Наркомпроса (началась эра аббревиатур) Секцией цирка.
Специальная литература, посвященная отечественному цирку, приучила считать, что Секция цирка была сформирована из взволнованных проблемами культурного строительства на манеже поэтов, художников, театральных режиссеров и занималась прогнозированием и реализацией преобразования номеров и программ. Из книги в книгу переписывались имена не забытых еще и сегодня профессионалов: поэтов Василия Каменского, Ивана Рукавишникова, Вадима Шершеневича, художников Павла Кузнецова, Владимира Бехтеева, Бориса Эрдмана, скульптора Сергея Конёнкова, балетмейстеров Алексея Горского и Касьяна Голейзовского, создавшего уже себе имя оригинального режиссера Николая Фореггера, даже писателя Ильи Эренбурга…
Как ни престижно числить таких новаторов в своей профессии прародителями возрождающегося цирка, приходится напомнить, что Секция цирка являлась исключительно административно-контрольным отделом Наркомпроса. А что касается причисляемых к членам Секции профессионалов, то они приглашались впоследствии для выполнения по мере надобности конкретных постановочных работ.
Будучи людьми искусства, они цирк любили, но не знали и, приглашенные позже к практической работе в нем, совершенствовали в основном свое профессиональное мастерство.
А предстояло создать принципиально новый советский цирк для нового зрителя.
Грандиозную задачу облегчило лишь то, что из всех стационаров бескрайней страны, охваченной Гражданской войной, национализированы были только три – два московских (бывшие Саламонского на Цветном бульваре и Никитиных на Садовой-Триумфальной площади, в его перестроенном здании располагается теперь Театр сатиры) и почти тут же сгоревший Тульский. В этой безвыходной, казалось, ситуации требовалось найти выход.
Та к уже повелось, что клоуны, понуждаемые профессией быть в курсе социальных и политических новостей (публика ждала острого слова с манежа), становились инициаторами всех художественных и организационных перемен в цирковых номерах, представлениях, жизни цирка. Именно клоунов Нарком-прос включил в Комиссию по национализации цирков.
Заведующей организованной в марте 1919 г. Секцией цирка была назначена Нина Сергеевна Рукавишникова, страстная любительница верховой езды, поклонница Чемпионатов по борьбе и жена поэта. Появлению человека, фактически не сведущего в цирковом искусстве, никто не удивился. Ведь Секция цирка предполагалась всего лишь органом контроля деятельности цирковых профессионалов.
И действительно, Секцией тут же была создана Временная комиссия по реорганизации московских государственных цирков (другие национализации избежали), которую перед открытием зимнего сезона предполагали преобразовать в директорию по управлению этими цирками.
Такое решение успокоило недовольных. Ведь к работе привлекались ведущие мастера и профессиональные администраторы обоих цирков столицы. Кому, как не самим мастерам манежа, знать, что и как следует усовершенствовать в их непростом искусстве? Артисты, предвкушая творческие перемены, с энтузиазмом принялись решать запутанные организационные проблемы.
Руководители Секции цирка конкретно влиять на сложившуюся на манеже ситуацию не могли (каждый артист был полноправным владельцем своего номера). Поэтому занялись проблемами внешнего облагораживания цирка, или же, как неоднократно формулировал нарком просвещения, «очищением его от грязи и безвкусицы».
Был объявлен конкурс на костюмы униформиста и «рыжего». С эскизами появились один из известных художников русского авангарда В. Г. Бехтеев, юная и уже поэтому левая О. А. Карелина, Б. Р. Эрдман, тогда еще артист Камерного театра.
Благодаря еще одному конкурсу на роспись циркового купола пришли прославившийся своими станковыми работами, оформлением «Сакунталы» в Камерном театре и революционных празднеств П. В. Кузнецов и скульптор С. Т. Конёнков, создавший мемориальную доску «Павшим в борьбе за мир и братство народов», установленную в годовщину революции на Сенатской башне Кремля. Дружба с борцами Чемпионата (они, подрабатывая, позировали для этюдов обнаженной натуры в его мастерской) пробудила в нем интерес к цирку.
Декрет, провозгласивший национализацию цирка (23-й из 27 параграфов документа), был подписан 26 августа 1919 г., а уже 12 сентября А. И. Деникин, один из руководителей белого движения, отдал директиву о наступлении на Москву. Хотя белогвардейцам удалось захватить Воронеж, Орел, подступить к Туле, арсеналу Красной армии, Секция цирка ТЕО Нарком-проса даже опубликовала 2 ноября информацию о начале реорганизации цирка:
«Основа реформы: уничтожение отдельных цирковых номеров и сведение циркового представления к единому действу. Типом такого представления явится пантомима, основным содержанием которой будет демонстрация силы, ловкости, бодрости и отваги»[12].
Терминология постановочного цирка в те годы только складывалась. Ею весьма свободно пользовались сами артисты, еще произвольнее звучала она в изложении журналистов. Поэтому к свидетельству журнальной информации следует подходить весьма осторожно. «Цирковым номером» легко мог именоваться трюк. Тогда, соответственно, под представлением подразумевалась не вся программа, а лишь одно из ее двух или трех отделений, то есть пантомима.
Впрочем, до конкретных мероприятий по созданию этого «единого действа» дело тогда не дошло.
Открытие Первого государственного цирка (так стал именоваться бывший цирк Саламонского), намеченное на середину ноя бря, не состоялось. Еще не успели отремонтировать разбитые во время бесчисленных митингов кресла амфитеатра.
Цирковые представления начались только в декабре в бывшем цирке Никитиных (ставшем Вторым государственным). Никакими новшествами эта первая программа национализированного цирка не поразила. Правда, началось представление не с традиционной увертюры оркестра.
На манеж вышли два клоуна. Популярные в Москве отец и сын Альперовы появились из-за занавеса без обычных выкриков, приветствий, кунштюков. Они остановились посреди закрывающего опилки ковра и призвали публику к вниманию. Мощный баритон Дмитрия Альперова заставил замолчать весь амфитеатр, от лож до галерки:
– Сегодня цирк вступает в новую фазу своей деятельности!..
Никого не удивило, что клоун в гриме «рыжего» и карикатурном костюме разразился митинговой речью. Время было такое, что поражались не новшествам, а их отсутствию. Молодой Альперов зычно провозгласил:
– Цирк станет на новую дорогу!
А потом его отец, Сергей Сергеевич, старейший из русских клоунов, в традиционном балахоне, с набеленным лицом, призвал зрителей приветствовать народного комиссара просвещения, почтившего своим присутствием первое представление первого в мире государственного цирка. И весь зал, поднявшись, разразился аплодисментами.
Та к первой овации в национализированном цирке удостоился не артист, а сам факт признания государством популярнейшего демократического искусства, общественный деятель, принимавший в том непосредственное участие.
Этим, впрочем, исчерпывались все новшества программы, открывшей первый сезон государственных цирков. В дальнейшем на манеж стали выходить с прежними, уже не первый год известными номерами. Несмотря на предлагаемые выгодные контракты, заполучить новых артистов не удалось. Правда, все номера без исключения оказались чисто цирковыми. Освобождение программы от засилия всего «кафешантанного суррогата» было, по свидетельству прессы, заявлено сразу же и решительно. Однако характер номеров, их оформление, композиция трюков, манера их подачи остались без малейшего изменения. Больше того, остались в неприкосновенности «унижающие человеческое достоинство оплеухи, плоскость шуток клоунов»[13], без критики которых не обходились ни одно выступление, ни один документ о реформах цирка.
Через неделю после открытия сезона была наконец показана давно обещанная «Политическая карусель» по либретто И. Рукавишникова, занявшего должность литературного консультанта Секции.
Оформлением пантомимы уговорили заняться П. Кузнецова, соорудившего по просьбе Н. Фореггера посреди манежа своеобразную – всю в тюремных решетках – башню власти. Она на глазах у зрителей из оплота притеснения превращалась в праздничный символ победы трудящихся. В пластическом пересказе как равноправные чередовались патетические (народная борьба) и пародийные (взаимоотношения угнетателей всех рангов) эпизоды.
Цирка как такового было мало. Рецензии упоминают юмористические похороны Старого Мира (явный парафраз классического клоунского антре), в котором плакальщиков подгоняла стилизованная фигура Истории с метлой в руках. Кроме того, известно, что предводитель восставших взлетал на башню притеснения, исполняя сальто-мортале. И все.
Постановка соответствовала плакатно-агитационным требованиям эпохи. Но проблемы формирования современной цирковой пантомимы, как и собственно циркового репертуара, она не решала и решить не могла.
Совсем иной была показанная через месяц работа Конёнкова. «Поэма „Самсон“» явилось подлинной работой скульптора. Реклама так ее и представляла: «Постановка, лепка, реквизит, бутафория и костюмы в исполнении автора».
Конёнков показал девять «живых» скульптурных групп, иллюстрирующих всем тогда известный библейский сюжет борьбы израильского богатыря Самсона с притеснителями-филистимлянами: победу над захватчиками, предательство любимой им Далилы, его пленение, ослепление, унижение и новую победу над врагами. «Глиной» Конёнкова стали участники Чемпионата по классической борьбе (оставшиеся тогда без работы) и юная жена одного из них. Несмотря на то что каждому эпизоду-группе (перестановки происходили в темноте) предшествовал пояснительный текст, это было подлинно цирковое зрелище, не нуждающееся в каких бы то ни было объяснениях. Главными в нем становились даже не столько эффектно выстроенные статичные позы исполнителей, сколько ярко выявляемая их мощная внутренняя энергия. Те м неожиданнее и эффектнее был сюрприз последней картины, когда Самсон в замедленном, напряженном движении разрывал связывающие его цепи.
Как скульптор-профессионал, Конёнков подарил цирку идею вращающегося пьедестала (аналога скульптурного станка), а как художник, стремящийся подчеркнуть выразительность игры света и тени в своих работах, – локальный свет прожектора. Желая избавиться от общего освещения, единственного тогда в цирках (лампы-абажуры заливали равномерным светом и манеж, и ряды), он использовал армейские прожектора, которые раздобыл в подшефной части. Точно отрепетированное в мастерской напряжение мышц участников каждой композиции особо эффектно прорисовывалось в концентрированных лучах, меняя отбрасываемые ими тени при вращении, что придавало происходящему особую драматургию[14].
Конечно, это была не большая обстановочная пантомима, а развернутый пластический аттракцион. Те м не менее именно «Самсон» заслужил единственную рецензию, написанную наркомом просвещения о конкретном цирковом произведении. «Это есть настоящий цирковой номер, – подчеркнул А. В. Луначарский в большой статье, целиком посвященной работе Конёнкова, – но номер того цирка, о котором мы можем мечтать, цирка исключительно благородной красоты, умеющего непостижимо связать физическое совершенство человека с глубоким внутренним содержанием»[15].
Хотя «Самсон» и «Политическая карусель» продержались в репертуаре цирков достаточно долго, свидетельствовать о популярности этих постановок количество сыгранных спектаклей не может. Ведь билеты были отменены. Теперь зрелищные мероприятия посещали по жетонам, которые выдавали профсоюзы. Поэтому все театры, а уж тем более цирки зрителями были заполнены каждый вечер. К тому же вполне возможно, что новые постановки удерживались в репертуаре только благодаря настояниям руководства Секции цирка ТЕО. Впрочем, достаточно быстро стало понятно, что чуда не произошло. Цирк в Советской России фактически не перестраивался, не возрождался, а просто-напросто выживал.
Национализация цирков не затронула личного реквизита и аппаратуры артистов. Номеров – тем более. Но все-таки, получив рычаги экономического воздействия, Секция цирка ТЕО, как в прошлом и владельцы этих заведений, не удержалась от вмешательства в творческий процесс. В театрах это проявляется в подборе репертуара. Но цирковые номера и их трюковой костяк изначально воспринимались как стоящие вне какой бы то ни было идеологии и политики. Оставалась одна лишь возможность «эстетизации» – заняться внешним видом артистов и их поведением между трюками. Воздействие это принимало порой самые анекдотические формы. В. Лазаренко в своих «Воспоминаниях» упоминает, например, как заведующая Секцией, вызвав в манеж застрявших в Москве борцов одного из Всемирных чемпионатов и выстроив их в шеренгу, лично наставляла, как прилично отвешивать поклоны, представляясь зрителям.
Конечно же, руководителям хотелось более существенного личного вклада в творческий процесс. Должность предоставляла неограниченные возможности, и Рукавишникова совместно со своей подругой Э. И. Шуб, присланной из ТЕО для укрепления Секции, написала даже либретто цирковой пантомимы, которую назначила к немедленному осуществлению.
На постановке «Любви с превращениями» следует остановиться не из-за ее режиссера (постановочную работу, как и главную роль, Жениха, взял на себя Л. Танти), или авторов (Рукавишникова скрылась вместе с Шуб за псевдонимом «Р. Ш.», но это был секрет Полишинеля), или оригинального сюжета (это был узнаваемый пересказ выпущенного Камерным театром «Ящика с игрушками»). Главное, что юный П. А. Марков не устоял перед напором Рукавишниковой и мало того что пришел смотреть пантомиму, так еще и опубликовал рецензию. Благодаря этому появился самый обстоятельный разбор цирковой пантомимы начала 1920-х гг.
Рецензия Маркова позволяет понять, как видели или, точнее, какими хотели увидеть пантомимы нового цирка. Оговорив, что высказывает «впечатление случайного зрителя», Павел Александрович отмечал, что эта работа стремится решить проблему «создания подлинно циркового зрелища-представления»:
«Хочется, чтобы каждый цирковой трюк, входящий в пантомиму, был использован до конца: жонглер показывал самые трудные номера своего репертуара, комик – буффонил со всем ему присущим юмором. Цирковой пантомиме не приходится бояться невероятностей, они оправдываются самим существом циркового зрелища. И еще: цирковое действие непременно монументально: интимность и лирика ему чужды; оно искусство больших построек. Цирковое зрелище – в непрерывной динамике, в преодолении всех, даже непреодолимых препятствий».
Наиболее действенной проблемой современного цирка он считал «создание подлинно циркового (выделено автором. – М. Н.) зрелища-представления, объединяющего в богатое красками целое длинный ряд цирковых номеров, подчиненных определенному драматическому сюжету»[16].
Как видно из контекста, автор под «номерами» имеет в виду гордость цирка, его образный язык – трюки.
К концу первого сезона национализированного цирка стало очевидно, что необходимы не столько новые идеи, сколько новые артисты. Переодевания, имитирующие замену номеров, себя исчерпали. Иностранные артисты, отработавшие свои контракты, возвращались на родину. К тому же новый цирк все-таки следовало превратить из зрелища просто занимательного в нечто большее: ведь ему предстояло стать – воспользуемся формулой наркома просвещения – «академией физической красоты и остроумия»[17].
Эту задачу разделяли и руководители Секции цирка, и мастера манежа. Требовалось готовить следующий сезон.
Л. Танти, как член директории, отвечающий за художественную часть, заручившись подписанным А. В. Луначарским мандатом о предоставлении отдельных вагонов для переезда ангажированных артистов в Москву с их семьями, реквизитом, багажом и животными, отправился по стране уговаривать коллег, осевших в теплых и хлебных краях. Остальные разъехались по ближайшим городам на летние заработки.
Секции цирка осталось разрабатывать свой план спасения следующего сезона.
Ставка вновь была сделана на пантомиму. Та к как опыт приглашения театральных режиссеров не сработал, решено было обратиться к балетмейстерам. Выбрали лучших, известных своими новаторскими постановками и, что важнее всего, возглавлявших собственные танцевальные коллективы. Считалось, что это позволит одновременно решить и острую проблему нехватки кадров.
Был приглашен А. А. Горский, первый (по современной терминологии – главный) балетмейстер Большого театра. Алексей Александрович согласился реализовать в исполнении группы своих балетных воспитанников карнавальное действие «Шахматы», сценарий которого успел написать И. Рукавишников.
Один из наиболее известных хореографов-экспериментаторов, К. Я. Голейзовский, принял предложение перенести на манеж недавно поставленную им со студийцами «Московского камерного балета» пантомиму-балет «Укрощение Панталона, или Любовь Арлекина».
Оба хореографа были назначены руководителями Художественных советов (попросту говоря, постановочных групп) того цирка, в котором предстояло осуществлять работу.
Когда обоим приглашенным балетмейстерам стало ясно, что ожидать появления обещанных новых артистов бессмысленно (те и не прибыли) и открытие сезона может быть сорвано, они, не сговариваясь, предложили пополнить программы развернутыми пластическими номерами в исполнении уже имеющихся цирковых артистов и приведенных ими с собою балетных участников. Хотя Горский и Галейзовский заключали контракты на создание больших балетов-пантомим, занимающих целое отделение, они фактически создали нечто большее – две достаточно своеобразные целостные программы. Более того, им удалось привнести в цирковое зрелище определенную современную заостренность, не только пластическую, но и политическую.
Представляется само собой разумеющимся, что государственные цирки должны демонстрировать на своих манежах то, чего ждет от них государство. Но в том-то и заключалась основная трудность, что ничего конкретного от цирка не требовали. Даже газеты, изредка откликающиеся на показ того или иного дополняющего программу номера, не заметили, никак не отметили первые премьеры второго сезона госцирков.
Объяснение этому найти просто. В 1920-е гг. в необходимости какого-либо изменения циркового зрелища не были убеждены ни его поклонники, ни недоброжелатели.
«Думаю, что особенно привлекает в цирк толпы народа отсутствие психологической мотивации, зрелищность всего показываемого, ибо существует оно только как демонстрирование мастерства, без сатиры, без психологии, часто даже с одной только цирковой (не сценической) логикой»[18], — писал в своей рецензии один критик.
«Искусство цирка склонно развиваться по традиционным путям своего мастерства, — теоретизировал другой. – Разрозненные элементы циркового искусства могут быть соединены в большом представлении только путем полного соблюдения своих автономных интересов»[19].
Третий вообще был предельно категоричен: «Цирк только зрелище. На его арене ничего не представляется, не перевоплощается, а только подается: в реальном оформлении – свойства человеческой ловкости, храбрости и остроумия». А так как этот автор, А. М. Ган, возглавлял Секцию массовых празднеств и зрелищ ТЕО, то и завершал он свой анализ однозначным утверждением: «Пролетарскому государству цирк нужен в его здоровом состоянии»[20].
Как известно, на четвертом году революции была провозглашена программа «Театральный Октябрь». В. Э. Мейерхольд, ее инициатор, был авторитетом непререкаемым, причем в те годы не столько профессиональным, сколько административным. Поставленный А. В. Луначарским во главе Театрального отдела Наркомпроса, он попытался сосредоточить в своих руках все рычаги управления сценической жизнью страны. А стремился он к тому, чтобы театры следовали путем, который представлялся ему единственно правильным и необходимым. Не зря же театр, который он возглавил, именовался «РСФСР Первый». Те м самым всем остальным предписывалось, разобрав порядковые номера, выстроиться в затылок друг другу. С инакомыслящими Всеволод Эмильевич был категоричен и безжалостен. Не обошел он вниманием и цирк. Одним из первых распоряжений нового завТЕО стал роспуск Художественных советов московских госцирков.
Специальная литература приучила всех к мысли, что этим распоряжением с проблемой, получившей на страницах журналов и газет наименование «театрализация цирка», было покончено. На деле все обстояло не столь однозначно.
Всеволод Эмильевич увлекся идеей Н. И. Подвойского призвать работников искусства принять самое активное участие в художественном воспитании масс юношества в процессе всеобщего допризывного военного обучения.
«Необходимо сблизить занятия физической культурой с массовым театральным действом, – убеждал начальник Центрального управления Всевобуча, выступая в „Доме Печати“. – Физическая культура, близость к природе и массовое театральное действо – вот факторы создания нового коллективистического человечества»[21].
Идею сразу и увлеченно поддержал Мейерхольд. Он увидел в допризывниках резерв для воспитания театральной смены, готовой к утверждению революционного театра. «Физкультура должна служить орудием для проведения чисто политико-агитационных задач, – заявлял теперь мастер. – Театр и цирк должны стать ареною насаждения физкультуры, рассадником политического и художественного воспитания». Поставив конкретную цель, он делал единственно верный, с его точки зрения, вывод: «Необходима театрализация спорта»[22].
Очевидно, что, призывая к театрализации спорта, Всеволод Эмильевич, как и в том случае, когда в «диспутах» 1919 г. выступал против театрализации цирка, ратовал не столько за преображение физкультуры, сколько за необходимость реформы театральной школы. Теперь он был убежден, что именно широчайшее физкультурное движение (как прежде учеба у ограниченной группы мастеров манежа) позволит создать «нового, сильного актера с большим пафосом, подъемом духа, который бы заражал и преображал зрительный зал»[23].