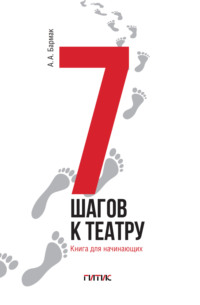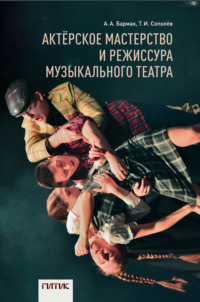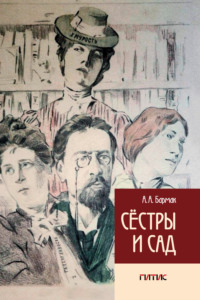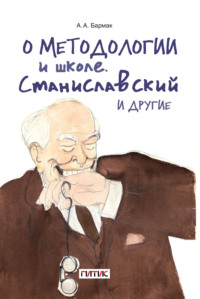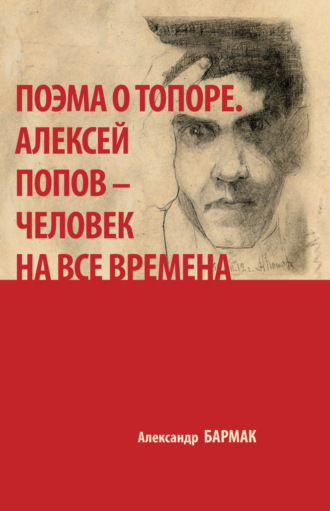
Полная версия
Поэма о топоре. Алексей Попов – человек на все времена
Спектакль «Поэма о топоре» А. Попова стал своего рода знаменьем эпохи; он остался в истории советского театра этапным спектаклем, то есть от него как бы начинался новый отсчет театрального времени. Хотя спектакль был поставлен в те годы, когда еще только в глубокой подоплеке времени, но уже висел топор, скоро начавший вовсю гулять по стране. Вполне возможно выкованный из стали – нержавеющей, кислотоупорной, того самого Златоустовского завода, о рабочих которого писал Погодин. В любой момент он мог сорваться и упасть на кого угодно.
Эта зловещая примета времени, конечно, видна нам четче, чем людям тех памятных лет нашей истории, историческое расстояние улучшает зрение, впритык мало что увидишь, находясь внутри события, как это ни странно, можно и не заметить его истинного значения, забывать об этих десятилетиях нельзя. Но так называемый Большой террор не замечать уже было невозможно. Жить начинали, поеживаясь; под топором, знаете ли, жить некрасиво и не очень удобно, прибегая к нынешнему отвратительному словечку – некомфортно. Но вот что интересно – чем больше ежились, тем сильнее возрастал, как тогда говорили, энтузиазм масс.
В те времена, и это тоже их примета, как-то незаметно исконное и очень дорогое для отечественной культуры, она вся на этом понятии и держалась, понятие – народ, понемножку стало заменяться понятием – массы. Потом уже после исторических катаклизмов, вновь стали говорить о народе, советском народе. Даже о русском народе – знаменитая речь Сталина по окончанию войны, его тост за русский народ. Так что «Поэма о топоре» выглядит двусмысленным названием; это эпическая поэма о героическом, в точном смысле этого слова, труде народа, нашедшая свое воплощение в пьесе Погодина и спектакле Попова; но это сегодня еще и напоминание о топоре в руках палачей.
Как и многие миллионы его соотечественников Алексей Попов был в плену у времени, он был пленником времени. Отдает штампом – «пленник времени», «плен времени», «у времени в плену» и тому подобное, в сущности, ходячий штамп, спасибо великому поэту. Это так, но только не для того, кто находится в плену у времени на самом деле. Впрочем, в плену у времени мы все, но вот острое ощущение этого плена, постоянные попытки вырваться из него и выковать свое время, как топор из златоустовской стали, – это все же привилегия художника.
Все это отсылает нас к известным строчкам Пастернака из стихотворения «Ночь», истертым от частого цитирования как старая медная монета от игры дворовых мальчишек пятидесятых годов, которая называлась игрой в «расшибалочку». Так часто и сильно, с ловкого размаха лупили биткой по медному пятаку, что уже бывало и не различишь, где у него аверс, где реверс, он уже больше не звенел и не подпрыгивал, падая на мостовую подобно знаменитому медному пятаку Достоевского, учившего Григоровича посредством этого пятака азам литературного мастерства. Не звенел, не подпрыгивал пятачок, а криво закатывался в какую-нибудь щель веселой булыжной мостовой.
«Не спи, не спи художник, не предавайся сну! Ты вечности заложник у времени в плену», – призывал поэт.
Но надо сказать, что спали в иные времена, например, в тридцатые, сороковые, начало пятидесятых вообще – мало. Особенно художники и особенно по ночам. Совсем не потому, что именно ночью их посещало вдохновение – нет, просто приходили за ними и арестовывали, как и других, не художников, инженеров, военных, учителей, рабочих, колхозников главным образом по ночам. Автомобиль протарахтел за окном – не спать; лифт загудел – не спать…. Так что в те годы призывать художника не спать было в принципе незачем; он и не спал, как мы уже поняли, по совершенно другим причинам, чем о том говорится в стихотворении Пастернака.
Все знали, что никогда не спит по ночам самый великий художник всех времен и народов – ни в Кремле, ни на своей так называемой «ближней даче».
Так что в достопамятные и страшные тридцатые годы, в годы, в которых А.Д. Попов создавал свои самые великие спектакли, особенно в конце их – этот призыв мог бы быть понят как изощренная ирония. Но знаменитое стихотворение Пастернака написано было в замечательный пятьдесят шестой год – год Двадцатого съезда Коммунистической партии, год стремительно наступавшей «оттепели», и продлилась-то она всего несколько лет, но сумела кардинально изменить художественное время эпохи. Так сильно изменить, что до сих пор мы поддерживаемы на плаву волнами, доходящими до нас из того времени. Они как свет далеких звезд, они давно уже погасли, а свет, рожденный ими, до сих пор пронизывает всю вселенную. Очень многим лучшим в нашем времени мы обязаны той далекой поре, которая вошла в историю под названием «оттепели», так называлась небольшая книжечка И. Эренбурга, вышедшая в начале той эпохи.
Герой стихотворения Пастернака – летчик.
Он ведет свой самолет на недосягаемой высоте, которая позволяет ему охватывать взглядом всю Землю, весь мир, причем в мельчайших деталях. Этот летчик – поэт. Это у него такое мировоззрение, такое миросозерцание, если угодно, позволяющее ему увидеть все мироздание разом, воспринять его целостно, позволяет ему как бы обнять всю Землю, – близкую и родную. В те времена это было неслыханным делом – обнимать всю землю разом, а не только ту ее часть, которую составлял тогда социалистический лагерь. Это был совершенно грандиозный прорыв – к общечеловеческим ценностям, из которых, конечно, мир на земле был одной из важнейших. Поэт как летчик на страшной высоте, он охватывает своим взглядом весь мир; мир становится родным ему; он чувствует ответственность за него, об этом писал летчик и поэт Сент-Экзюпери.
Это мировоззрение художника, позволяющее ему видеть такие горизонты, которые, конечно, не увидит никто другой. Пожалуй, кроме ученого – но ученый тоже всегда своего рода художник, между ним и поэтом много общего, оба они прикасаются к вечности. У физика-атомщика бесконечный минимум становится бесконечным максимумом – как и предвидел это Николай Кузанский; но ведь и у художника это так – одно слово, одна самая маленькая деталь открывают, часто, мироздание, являются ключом к нему. Горизонты событий и ведущие к ним радиусы бесконечны. Великий русский физик Илья Пригожин говорил о радиусе горизонта событий. У художника он – бесконечен. Летчик в те годы, когда Алексей Попов ставил свой знаменитый спектакль «Поэма о топоре», тоже был приметой времени – стать летчиком и подняться высоко в небо было заветной мечтой многих; летчики становились национальными героями. Все они были исключительно интересными людьми – Громов, Водопьянов, Коккинаки, Ляпидевский, Чкалов… они были самыми настоящими поэтами неба.
Стихотворение Пастернака написано в памятный, великий в истории нашей страны пятьдесят шестой год – год перелома в жизни советского общества, перелома, родившего новую «Могучую кучку» советских художников, писателей, поэтов, композиторов, деятелей кино и, конечно, театра. Родилось новое великое русское и советское театральное искусство, новое творчество театральных художников народов СССР. В театре многие из них были учениками А.Д. Попова, если формально не были его студентами, то по существу были его учениками – достаточно назвать хотя бы А. Гончарова, он не был среди студентов Попова, но в театре он был, безусловно, его учеником и последователем. А.Д. Попов успел застать это время – время, полное надежд, он был одним из тех, кто его подготовил. Всей своей жизнью и творчеством. Тогда многие, вернувшиеся, казалось бы, из небытия, могли сказать словами Окуджавы – «я вновь повстречался с надеждой…».
У А.Д. Попова был этот взгляд летчика, на невероятной высоте охватывающий все мироздание. Это мировоззрение выводит художника далеко за пределы данного времени, оно открывает ему невиданные просторы; нисколько не мешая ему быть пристально внимательным к сегодняшнему дню, к его можно сказать сору, вот и еще одна ассоциация – «когда б вы знали, из какого сора растут стихи, не ведая стыда»… Но как по какой-то мельчайшей детали, незаметной невооруженному взгляду в сегодняшнем дне увидеть, прозреть – завтра, большое завтра. Это мировоззрение, эта его способность прозревать во времени бывают и спасительны, и губительны для художника. А.Д. Попову они помогли, он благодаря этой способности, этому, скорее, дару – жил, а не выживал. Но они же и были причиной его художественных утрат; сколько замыслов так и остались замыслами, не получили воплощения его мечты о постановках многих классических произведений, например, он так и не поставил Чехова, пьесы Чехова должны были бы быть поставлены Поповым – это, наверное, изменило бы многое в сегодняшнем отношении к этому автору. Он нес на своих плечах колоссальный груз современной драматургии, а она редко соответствовала его творческому лицу, масштабу его дарования… Рядом с ним многие – не выжили. В пятьдесят же шестом году надежда была растворена в воздухе эпохи, была основной приметой эпохи; «надежды маленький оркестрик» из песенки Булата Окуджавы играл, стараясь изо всех сил, на улочках и переулках больших и малых городов и селений великой нашей страны. Удивительно, впрочем, что же тут удивительного, поэт есть поэт, он видит во времени то, что незаметно, может быть, еще другим, вот Пастернак и увидел крен времени – взлететь. И действительно, те годы были стремительным взлетом советского искусства. Невероятное количество великих произведений было создано в довольно короткий отрезок времени.
Но время измеряется не только линейно, оно внутри себя способно расширяться невероятно, создавать такую великую емкость, в которой можно уместить многое. Этим многим из той эпохи мы, между прочим, живем до сих пор. Через пять лет после написания стихотворения «Ночь», в шестьдесят первом году, весной, как было удачно выбрано время, в космос полетел советский летчик – Юрий Гагарин. И увидел голубой шарик – Землю, нашу общую Землю, мир человеческий, окутанный терпким воздухом весны. Гагарин был – поэт. Эта чудесная оттепель продлилась, как мы уже поняли, очень недолго. Звонкий ручеек постепенно высыхал, промораживался. Он иссяк в тот момент 1962 года, когда были расстреляны в Новочеркасске рабочие, вставшие отстаивать свои права; восстание в Новочеркасске было расстреляно; это была страшная трагедия, но она как бы и не существовала – никакой, абсолютно никакой достоверной информации о том, что произошло – не было. Трагедия звучала полушепотом, их уха в ухо, становилась легендой, притчей, ныла непонятной, но очень ощутимой болью времени. Так начала умирать оттепель, так постепенно исподволь горечью стал отдавать ее воздух. И к концу шестидесятых ее уже не было.
Но сила, которую она пробудила в людях, в художниках – долгое время еще жила. Она жила в книгах Василя Быкова, Г. Бакланова, Ю. Трифонова, В. Распутина, Ф. Абрамова, В. Астафьева; она поддерживала талант А. Володина, В. Розова, гениального, так рано ушедшего А. Вампилова. Она определяла пульс спектаклей Г. Товстоногова, О. Ефремова, А. Эфроса, Ю. Любимова, В. Пансо, Г. Шапиро, З. Корогодского, Ю. Владимирова и многих, многих славных людей нашего театра.
Это кажется странным, но относительно недавно было время, когда поэзия была потребностью времени.
Шестидесятые годы прошлого века, столь много значащие для нашего искусства, начались, помимо прочего, знаменитой и замечательной поэмой Е. Евтушенко «Братская ГЭС»: ее читали все, и не было в театральных институтах поступающего, который не исполнял бы на вступительных экзаменах по мастерству актера отрывки из этой поэмы. Это вообще было время поэзии, стихи читали взахлеб, издавались поэтические сборники, страна узнала заново поэтов, которых ранее от нее скрывали, узнала поэтов-фронтовиков, целое созвездие поэтов воссияло на небосклоне времени. Среди них были гении, были авторы только нескольких гениальных стихотворений, а иногда только гениальных строчек, но вот что просто поразительно – плохих стихов практически не было. Время это называется шестидесятые годы, но начались они раньше, почти сразу же после смерти Сталина в 1953 году – это был грандиозный взлет отечественного искусства. А.Д. Попов умер в 1961 году. Как раз в том году, когда вышла «Братская ГЭС», когда уже вовсю разгорелся этот великий период русской литературы, театра, кино, музыки, живописи…
Некоторые художники успели пережить свое второе рождение, например, Иван Пырьев, автор на редкость фальшивых фильмов «Сказание о земле Сибирской», «Кубанские казаки», сценарий которого, кстати, написал Н. Погодин – уже не тот молодой и горящий правдой времени автор «Поэмы о топоре», «Моего друга». Фильм спасла от забвения, в сущности, только изумительная музыка и песни И. Дунаевского, они пошли в народ. Но по своей фальши фильм, можно сказать, побил все рекорды времени, а сделать это было совсем нелегко. И вот И. Пырьев в 1956 году снимает гениальный фильм по роману Достоевского «Идиот» с Ю. Яковлевым в главной роли. Фильм, ставший событием в нашем кинематографе, а потом «Белые ночи», а потом «Братья Карамазовы», как будто хотел успеть сделать все то, что, наверное, лежало на дне души и что не мог даже надеяться осуществить ранее так, как хотел, верно служа не времени, а режиму. И он становится не просто блестящим профессионалом, он им был давно, но в этих фильмах – поистине великим режиссером в истории советского кино. Потому что над страной снова засияло чистое небо – «Чистое небо», так назывался замечательный фильм Г. Чухрая.
Надо только очень хорошо понимать, что ничего этого не было бы, если бы не такие люди, как А.Д. Попов, которому совершенно ни к чему было «перерождаться», он никогда не изменял своему творческому методу и никогда в своих сценических произведениях не фальшивил; его последней постановкой в театре, который он сделал за двадцать три года своего руководства одним из лучших театров страны, была «Поднятая целина» М. Шолохова 1958 года. Он вновь вернулся к деревенской теме на сцене. Какая все же поразительная парабола художественной жизни: от «Виринеи» Л. Сейфуллиной, поставленной им в Театре им. Евг. Вахтангова, до «Поднятой целины» М. Шолохова. Это Попов, его соратники силой своего духа сохранили правду русского театрального искусства. Это они своей жизнью подготовили возрождение русского искусства, русского и советского многонационального театра в те замечательные годы…
Все многомерное советское искусство шестидесятых годов прошлого века было очень схоже, при всех художественных стилистических различиях, с искусством первого десятилетия Октября – прежде всего искренностью и верой. Никто не ставил под сомнение саму великую идею, которой руководствовалась жизнь страны, – в нее продолжали верить, искренне надеясь на то, что все извращения этой идеи, все спекуляции на ней, все ужасы, которые прикрывались этой великой идеей, канули безвозвратно в Лету. Эта вера – непременная часть атмосферы времени – жила в создаваемых ими произведениях. Одним из знаковых фильмов той поры был «Коммунист» Ю. Райзмана, с незабываемым Е. Урбанским в роли Василия Губанова.
В театр пришла новая драматургия, это прежде всего молодые драматурги, ворвавшиеся в театр и во многом изменившие его лицо, – А. Володин и В. Розов. «Фабричная девчонка» Александра Володина ознаменовала рождение новой драматургии, одним из самых заметных спектаклей по этой пьесы был спектакль Центрального театра Красной Армии, главным режиссером которого был в те годы А.Д. Попов. На его сцене в 1956 году поставил эту пьесу ученик А.Д. Попова, ученик по театру, а не по институту, замечательный режиссер Б. Львов-Анохин. В этом спектакле взошла звезда одной из самых замечательных актрис Театра Советской Армии – Л. Фетисовой, пьеса вызывала у многих начальствующих в искусстве недовольство своей небывалой еще темой, сюжетом, героиней, и то, что она была поставлена в театре, находящемся под сильнейшим идеологическим прессом, в этом великая заслуга А.Д. Попова. В полном смысле слова завоевала сердца зрителей вторая пьеса Володина «Пять вечеров», незабываем великий спектакль Г. Товстоногова в Большом драматическом театре имени М. Горького в Ленинграде, в нем играли ставшие вскоре самыми любимыми артистами страны – З. Шарко, Е. Копелян, Л. Макарова, В. Кузнецов, легендарный П. Луспекаев; в том же 1959 году эту пьесу поставил молодой театр «Современник» в Москве, главные роли играли Л. Толмачева и О. Ефремов, он же вместе с Г. Волчек был постановщиком спектакля. Театр «Современник», составивший эпоху в театральном искусстве второй половины двадцатого века, руководимый в те годы О. Ефремовым, открылся пьесой В. Розова «Вечно живые» – этот спектакль стал легендой сразу же после премьеры, трудно себе представить сейчас, какое значение имел этот спектакль в жизни советских людей. Постановки пьес В. Розова «В добрый час!», «В поисках радости», «Перед ужином», «Неравный бой», в Центральном детском театре в пору его руководства М.О. Кнебель сделали А. Эфроса одним из ведущих режиссеров страны. Шестидесятые годы совсем не были благостными, мы уже упоминали о новочеркасской трагедии; не то, чтобы каждая творческая победа, – каждый шаг давался, мягко говоря, нелегко; но эта относительно короткая эпоха «оттепели» в жизни нашего искусства по масштабу мысли, темпераменту художников, и по замечательным, созданным в те годы художественным произведениям, не имеет равных в нашей истории двадцатого столетия.
В сущности, мы и сегодня живем ее отголосками – поколение шестидесятых уходит на наших глазах, а волны того колоссального, как оказалось, идейно-художественного события все еще докатываются до нас. Что ж, будем надеяться, что мы попали в производственный, несколько затянувшийся «пересменок», что новое возрождение нашего искусства, нашего театра – не за горами. И будем с благодарностью вспоминать людей, трудами которых русское искусство двадцатого века достойно совершило свой путь, завещав веку нынешнему свои великие идеалы.
«Оттепель» возникла не на пустом месте, она была подготовлена мужеством людей искусства всей предыдущей советской эпохи. Таких художников – граждан, каким был А.Д. Попов, – как не хватает сегодня мастеров такого темперамента, такой силы мысли, такого масштабного миросозерцания. Созерцания летчика, сторожащего красоту и покой земли, как в стихотворении Пастернака.
Итак, не спи, не спи художник…
По-разному можно трактовать эти строчки. Но, в сущности, они просты. Художник в плену у времени в самом прямом, так сказать, хронологическом смысле – жизнь коротка, время всегда отпущено столько и не больше, и ничего с этим не поделать; надо не проспать время, тебе отпущенное, надо успеть в этот короткий миг что-то сделать для вечности, коль скоро тебе назначен дар творчества, ведь только благодаря этому дару художник и есть заложник вечности. Дар творчества позволяет ему говорить наперед, прозревать будущее. Ни один писатель-фантаст, если только он не художник, не сравнится с поэтом в этом даре прозревать будущее. Фантаст придумывает будущее; поэт – прозревает, пророчествует его.
Заложник вечности – это когда помимо твоей воли вечность приходит к тебе и берет за сердце. Это и дар, и тяжкий груз ответственности. Этот дар обязывает тебя соскребать грязь сегодняшнего дня и освобождать из-под нее ростки нового времени. После страшных, разрушительных боев в октябре семнадцатого года в самом центре Москвы, эти дни, кстати, отображены в замечательной зарисовке молодого А. Попова, сделанной им по горячим следам событий, которую мы приводим в книге, когда обитатели центральных кварталов города несколько дней прятались где только можно от снарядов, гранат, шальных пуль и осколков, о том, что происходило вокруг площади Никитских ворот, очень хорошо пишет К. Паустовский в книге «Повесть о жизни», когда же стихли бои, учитель и друг Попова, Вахтангов вышел на улицу и первое, что он увидел, это были двое рабочих, которые связывали порванные во время боев электрические провода. Вот эта созидательная сила рабочих-электриков, увиденная Вахтанговым, и стала для него символом начинающейся эпохи. А кто-то увидел не рабочих, восстанавливающих порванные нити жизни, а груды битого стекла и кирпича, разбитые фасады, обвалившуюся штукатурку, выбитую брусчатку, искореженные рельсы – и ужаснулся. И – ничего больше. И стал говорить, и иногда очень талантливо, только о разрухе. Картина одна и та же, обстоятельства одни и те же, но точки зрения не совпадают, художник замечает то, что не вызывает интереса у обывателя, какие бы сильные очки на носу обывателя ни помещались. Впрочем, и художник часто становится обывателем, особенно в минуты страшных катаклизмов.
Куда направлен взгляд художника – от этого зависит многое в искусстве, если не все. Не надо придумывать будущее и в этом придуманном будущем устраиваться поудобнее, коль нет творческого дара провидеть его. Не нужно примерять к нему свои творческие силы, думать о том, а что, дескать, останется от тебя вечности, на века, так сказать, работать, скорее всего, при таком подходе – ничего от тебя не останется. Но есть очень простой на словах и очень трудный на деле шанс соприкоснуться с вечностью. Честно и упорно созидая творчески, совсем не думая о том, как там тебя потом примут, нет ли, вспомнят, нет ли, а, может быть, никогда и не узнают, что вот, был такой скромный работник, оказываешься тем самым заложником вечности в плену краткосрочного времени. «Не хвались завтрашним днем, ибо ты не знаешь, что он принесет тебе». Тебя не узнают лично, может быть, но твое дело, растворившись в общем творческом деле твоей эпохи, конечно, обязательно останется на века. Ну, да, фамилию твою не вспомнят, останешься безымянным, так разве в этом суть? Помните притчу о том, как спросили рабочих, несущих камни, что они делают. Двое ответили – таскаем камни. И только третий ответил – я строю Шартрский собор. Как его звали? Звали его – творец.
Этот третий был творец, в нем жил художник, вечность прикоснулась к нему, хотя, конечно, он не подозревал об этом; но у него было чувство ответственности и понимания смысла своего дела. Кто-нибудь знает его имя? Нет, оно забыто, как и имена его товарищей, не понимавших, какой великий подвиг они совершают. Да, скорее всего, никто его имени и не спрашивал – подумаешь, важность какая – таскать камни для Шартрского собора. Каждый человек должен не проспать свое время, каждый должен таскать камни и строить свой собор камень на камень, каждый может и обязан что-то оставить будущему, пусть и безымянно и не в стихах, которые потом станут ходячей присказкой.
Все исполнилось? – так спрашивает героиня великого фильма Бергмана «Шестая печать» у странного рыцаря, смерть ли, время ли она спрашивает?
Все должно исполниться.
В его жизни все исполнилось.
Он – строил собор.
Он ушел, сказав о себе, что он счастливый человек, тогда, когда совершил свою главную работу – подготовил будущее нашего театра.
Но сколько же он не успел сделать! Сколько не успел, но – все исполнилось.
«Я – время. Я вселяю ужас»
Многие из художников его поколения погибли. Из чудом оставшихся в живых, как Алексей Попов, редко кто дожил до конца великого некогда государства, в котором они прожили свои жизни и которое называлось – Советский Союз. Я не говорю, что они отдали этому государству свои жизни. Нет, это государство взяло их жизни. Они же отдали свои жизни родной стране, народу, с которым были вместе. Они умели различить – где государство, а где родная страна и ее народ. Стоит ли здесь приводить хрестоматийные строки Ахматовой – я была тогда с моим народом, там, где мой народ, к несчастью, был. Когда сейчас задумываешься над этими строчками Ахматовой, то они становятся еще трагичнее – она пишет «там, где мой народ, к несчастью, был». То есть она ощущала себя причастной к народу, частицей его, она не только чувствовала его присутствие, его дыхание, его бытие, она сама дышала вместе с ним в одном ритме, то есть она сама была народом, иначе не могла бы вообще писать.
Где же этот «ахматовский» народ сегодня, как он дышит, и кто слышит его дыхание? И где современный молодой художник, режиссер? Чему и кому причастен он? Как он чувствует дыханье народное, его шевеленье, его бытие и быт? Или он не задумывается об этом? Понимает ли он, кто, собственно, набивает залы на самых нашумевших наших спектаклях?
За редким исключением, это совершенно определенный, очень тонкий, очень, в сущности, малочисленный, полуобразованный, в самую, как говорится, меру политически безопасно возбужденный слой общества потребления.
Или уже и в правду не различимо шевеленье, не слышно даже дыханья…
Тогда плохо, тогда художнику делать нечего.
Иногда создается впечатление, что вот существует где-то в непроходимой тишине огромный народ, раскиданный на колоссальных территориях великой страны, а где-то в стороне, сверху в ловко сконструированном искусственном мире проживают называющие себя художниками люди и дела им до этого народа – нет. У них есть – публика, давно уже приученная к тому, что в театре все должно быть занимательно и с намеками.