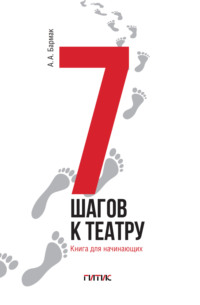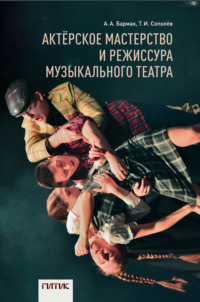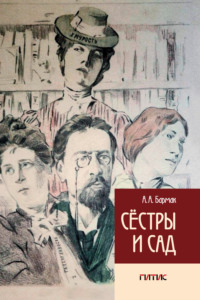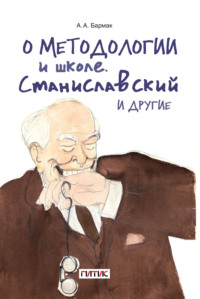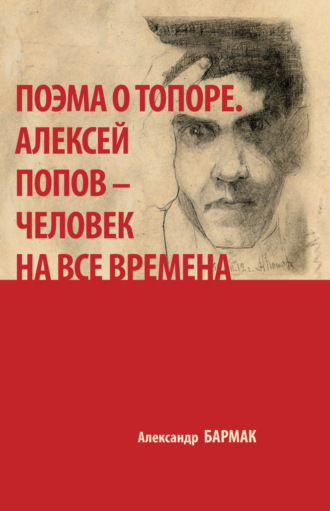
Полная версия
Поэма о топоре. Алексей Попов – человек на все времена
Но это противоречит всей сущности русского искусства – это в нем невозможно. А если возможно, то это что-то другое – не искусство.
Именно этим людям, прожившим, сколько было им отпущено судьбой и властью, советскую эпоху, мы обязаны тем, что театр остался сегодня в своих редких лучших художественных явлениях все-таки живым, что сохранился еще ручеек правды в нынешнем театральном обширном запустении.
Напоминание.
Напоминание кому?
Напоминание о чем?
Напоминание, конечно, молодым людям, которые увлеклись театром и предполагают связать с ним всю свою жизнь, далеко не всегда задумываясь о том, что театр – это служение, а не просто интересное увлечение, главным героем которого являешься ты сам и никто другой. Служение не себе самому, не своему искусству даже, а служение театральным искусством родной стране – во всех перипетиях бытия этой страны, исторически далеко не всегда ласковой к своим художникам. Противное слово – комфортно, просто отвратительное слово, но часто подлинному художнику, живущему одними чаяниями с народом, выражаясь сегодняшним сленгом, очень некомфортно. Тут, конечно, кто-то из нынешних – берем это определение Достоевского – может хлестко возразить – а что, если чаяния-то народные не вполне, знаете ли, хороши, бывает и так? Что же, и их разделять? Это современная лукавая постановка вопроса – преклоняться перед заблуждениями, хоть и освященными временем, не надо, не об этом речь, но вот разделять с народом даже и его заблуждения, потому что ты понимаешь – они и твои тоже, жить ими, ими болеть, их преодолевать и этим наполнять свое творчество, это надо делать непременно.
Только через себя пропустив все обстоятельства народной жизни, можно добиться настоящего в искусстве. Это настоящее, подлинное, увиденное в подоплеке времени, угаданное в коловращении текущих событий – бесценно, это правда эпохи, нашедшая свое выражение в художественном произведении, это правда, которая сама по себе не бывает ни мала, ни велика, но она есть мера всех вещей в искусстве. Что еще надо делать? А что, собственно, делали наши учителя в страшнейшие периоды истории нашей страны – трудились. Цинизм иных современных витий доходит до того, что они в упрек ставят многим советским художникам эту их способность работать, созидать, творить, в то время, как… и дальше начинаются спекуляции на кровоточащие темы. Но уж кто-кто имеет право на такие темы говорить, то только не эти современные циники, готовые оплевать и вычеркнуть из истории страны ее советское, повторяю, великое прошлое. Нет, вот именно эта способность к созиданию в тяжелейшие времена – а она была у А.Д. Попова развита необычайно – и спасла наш театр. И в этом он действительно был счастливым человеком, его поколение было абсолютно свободно от резиньяции, с одной стороны, и от ненужной рефлексии – с другой.
А.Д. Попов был настоящим учеником, другом, соратником Вахтангова и продолжателем вахтанговского направления в нашем театре. Все, что дал ему Вахтангов, все, что он сумел взять у Вахтангова, – прежде всего потрясающую способность видеть во времени его основную доминанту, чаще всего незаметную невооружённым глазом. Вахтангов, когда в годы революции перед художественной интеллигенцией встал вопрос: что делать? – сказал замечательные слова – творить, творить не ради народа, не для народа, а вместе с народом.
Этот завет Вахтангова принял на всю жизнь А.Д. Попов.
А.Д. Попов и его соратники нам оставили не только театральную школу, лучшую в мире, но они оставили нам еще и школу жизни. Жизни, какая она есть: они не приукрашивали ее, но и не молчали о ее достижениях, они умели говорить о них без казенного пафоса и юбилейных обязательств. Когда-то Юрий Олеша – из того же поколения художников, его пьесу «Заговор чувств» в 1929 году блестяще поставил А.Д. Попов на сцене Театра имени Е. Вахтангова, сказал горькие, но правдивые слова о том, что благополучие – враг воображения.
Это интересное заявление сделал гениальный писатель, всю жизнь прожив нуждаясь и умерев нищим.
Он благополучным не был никогда, просто не знал, что это такое. Воображением обладал фантастическим. Но сегодня один из популярных и насаждаемых лозунгов нашего быта, а может быть уже и бытия, получивший свое радикальное воплощение в тошнотворной рекламе, звучащей по радио каждые полчаса, – «сбылась заветная мечта, стало нам красиво и комфортно».
Общество потребления оказалось гораздо страшнее, чем мы предполагали, а социалистическое прошлое кажется сейчас намного более привлекательным, чем мы тогда о нем думали. Это такая издевка времени – на то оно и время. И с ним надо быть осторожным – с течением времени, так, во всяком случае, считают многие, меняется восприятие многих вещей – не всегда оно меняется в сторону большей точности и достоверности.
Время обманывает нас и подсовывает нам прекрасные воспоминания; как не поддаться на эту уловку времени и постараться увидеть в нем правду. Некоторые события эпохи или, если угодно, эпох, в которые жили А.Д. Попов и его сверстники можно назвать ужасными, нисколько не боясь в этом преувеличить. Впрочем, само слово – ужасные не всегда отражает некоторые события того времени, оно слишком деликатно, оно слишком обычно и не объемлет всю меру зла, которое было отпущено той эпохе. Но как за всем этим, прекрасным и ужасным, увидеть подлинную правду времени, довлеющую над ним, как почувствовать доминанту времени – это вопрос для художника, это вопрос его совести. Приятные воспоминания надо фильтровать, но нельзя все время советской эпохи красить в один только черный свет – а это сегодня происходит постоянно, это делают упорно, последовательно, мстительно, как будто хотят лишить страну ее прошлого. Но оно – было, в нем жили люди, люди смелые, добрые, честные, куда же вы, те, кто так старательно чернит прошлое родной страны, куда вы денете этих людей?
Я говорю это только потому, что Алексей Попов – сын этого времени – смог преодолеть его темные страшные пятна, повторяю – преодолеть, а не уйти, не убежать от них, смог в этом времени остаться большим художником и, самое главное, стать настоящим учителем, я бы написал это слово с большой буквы, но не люблю больших букв. Как когда-то В. Катаев вспоминал о первом своем впечатлении от стихов И. Бунина – в одном из его стихотворений слово «осень» было написано в середине строчки с большой буквы, «восходит Осень на крыльцо», и эта большая буква испортила все стихотворение.
Да, с большими буквами надо быть осторожным.
Время может быть каким угодно, можно подгонять время, можно попытаться остановить его, это никому никогда не удавалось, можно растягивать его, превращая во что-то длительно однообразное, резиновое, такое вполне возможно: одно только нельзя делать со временем, нельзя превращать его – в забвение.
Время интересовало и Шекспира, автора, очень близкого Алексею Попову, – два сценических шедевра по шекспировским пьесам он вписал в советскую и русскую шекспириану: «Ромео и Джульетта» и «Укрощение строптивой». Правда, не следует забывать и «Сон в летнюю ночь» – замечательный спектакль, поставленный им в 1941 году в Театре Красной Армии, но оставшийся как-то в тени его предыдущих шекспировских постановок. Может быть, и потому, что обращение к этой пьесе в столь знаменательном году и в столь, казалось бы, далекое от этой шекспировской пьесы время. Но, думается, что этот спектакль на самом деле тоже занимает значительное место в шекспириане Попова. Среди критических высказываний об этом спектакле слышится довольно явственный упрек в излишней психологизации и, как следствие этого, некоторой медлительности действия спектакля. Да, гениальный, темпераментный, искрометный спектакль «Укрощение строптивой», конечно, сильно разнился своим темпо-ритмом и своей атмосферой от «Сна в летнюю ночь» и, пожалуй, в «Сне в летнюю ночь» критики или ожидали, или хотели увидеть как бы продолжение такого прочтения Шекспира. Но хитросплетения сюжета и, главное, линии сюжетов душевной жизни персонажей этой сказочной пьесы, которую часто и сегодня рассматривают только как блестящий материал для своеобразной театральной игры, на самом-то деле полны тончайшей психологией, эта сложная в некотором смысле изощренная психология пьесы растворена в ее атмосфере и, как ни кажется это странным, близка атмосфере великих чеховских пьес. Тут надо сказать о том, что понятие «сценической атмосферы» как очень сильного выразительного средства в руках режиссера представляло для А.Д. Попова серьезный интерес, и это понятие было им блестяще разработано в его теоретических трудах. Сегодня это понятие почему-то целиком и полностью относят к теоретическому наследию актера М. Чехова, но атмосфера – это серьезнейшая тема у Вл. И. Немировича-Данченко и А.Д. Попова. Нисколько не умаляя вклад в изучение этой проблемы гениального артиста, все же следует помнить о конкретной и практически очень важной разработке этой темы Вл. И. Немировичем-Данченко и, конечно, его учеником и соратником А.Д. Поповым.
«Неторопливость» и психологизм «Сна в летнюю ночь» были несомненным открытием в интерпретации этой пьесы великим режиссером. Может быть, если б не страшное время, мы бы больше узнали об этой постановке, и она встала бы в истории театра рядом с «Ромео и Джульеттой» и «Укрощением строптивой». Психологизм «Сна в летнюю ночь» нисколько не мешал ни сказочности, ни «театральности», ни фантастичности пьесы Шекспира, только делал их глубоко человечными. Шекспир и мысли о нем сопровождали А.Д. Попова на протяжении всей жизни: не удалось поставить «Короля Лира» в 1936 году на сцене Украинского театра им. Т. Шевченко в Харькове, с великим А. Бучмой, остались записи бесед режиссера с актерами, до конца жизни он мечтал поставить Шекспира, но так сложилась его творческая судьба, человека, отвечающего за огромный и сложный механизм одного из лучших театров страны, что эта мечта так и осталась мечтой. Он вынужден был тратить огромную энергию и силы на бесконечную текучку очень серых современных пьес, изумительно идеологически правильных, но столь же изумительно бездарных.
Глубокая психологическая разработка сценических характеров вообще была свойственна ему как режиссеру: докапываться до каких-то совсем, может быть, неожиданных черт, какой-то совершенно необычной, ранее не разгаданной сущности характера, умение ткать вместе с актером тончайшую паутину сложной и очень неявной внешне душевной жизни, – это как раз то качество работы режиссера, которое ныне требует к себе повышенного внимания, ибо постепенно исчезает из нашего театра. Забегая вперед, скажем, что в одном из своих последних спектаклей на сцене ЦТСА, а именно в «Ревизоре» Гоголя, он тоже отошел от привычной интерпретации гоголевской пьесы как гротеска, как сатиры, выпуклой и резкой, иногда хлесткой, позволяющей особо не внедряться во внутреннюю жизнь гоголевских характеров. «Ревизор» А.Д. Попова был спектаклем, много предугадавшим в позднейшей интерпретации драматургии Гоголя на нашей сцене. Достаточно назвать «Дорогу» А. Эфроса: само название спектакля заставляет вспомнить гениальный занавес Шифрина в «Ревизоре», и его же незабываемую «Женитьбу», пожалуй, до сих пор непревзойденную интерпретацию этой пьесы. Оба этих спектакля брали гоголевский гротеск прежде всего именно через глубочайшую тончайшую разработку внутренней жизни персонажей – стоит только вспомнить Агафью Тихоновну О. Яковлевой или фантасмагорическую, но глубоко проникновенную человечную работу Л. Броневого в роли Яичницы. «Ревизор» А.Д. Попова был вехой в истории постановок пьес Гоголя на нашей сцене второй половины двадцатого века. Но об этом чуть позже.
К началу четвертого акта «Зимней сказки» Шекспиру понадобился монолог Времени, чтобы хоть как-то свести концы с концами в этой странной и причудливой, как все его последние пьесы, то ли фантазии, то ли сказке, то ли пророчестве – это как посмотреть. Вот Время само себя аттестует в этой пьесе: «Я – Время. Я вселяю ужас. Я – добро и зло. Я – счастие и горе. Я порождаю и караю грех. Неотразим полет мой… Я могу все ниспровергнуть – все законы мира в единый миг во тлен преобразить…»
Это – мощная и устрашающая характеристика. И нечего возразить, кто же может поспорить или еще того больше – опровергнуть время. Но Время с большой буквы, как жутковатый и иронический персонаж Шекспира, лукавит. Нет, законы мира, впрочем, если на самом деле есть таковые, оно, конечно, может преобразить в тлен, с успехом это делает и сегодня, например, успешно преобразуя в тлен тот нравственный закон, который внушал такое восхищение Иммануилу Канту и о котором он говорил с оттенком даже некоторого справедливого благоговейного ужаса.
Что касается звездного неба, то его иногда видно и в нашей полосе, то есть на сырых равнинах и прохладных холмах средней России, где-нибудь, скажем, на невысоких вершинах живописной Клинско-Дмитровской гряды, особенно в редкие июльские безоблачные ночи можно лицезреть его на лесных прогалинах, парящее над верхушками стройных корабельных и ночью розовеющих сосен, недоумевающих – что же еще может быть выше них, зрелище и впрямь величественное. Тогда становятся понятными гордые слова великого астронома Тихо де Браге, сказанные им, видимо, в минуту страшного отчаяния – мое отечество там, где сияют звезды.
Надо сказать, что прекраснее всего они сияют именно в своем отечестве. Об этом хорошо сказал гениальный русский советский поэт Н. Рубцов: «…но только здесь, во мгле заледенелой, она восходит ярче и полней, и счастлив я, пока на свете белом горит, горит звезда моих полей…»
И в хорошую погоду лета и зимы звездное небо могут видеть все, все мы, если, конечно, не поленимся поднять голову вверх и взглянуть на небо, что делаем мы крайне редко. И совершенно напрасно, потому что между звездным небом и нравственным законом внутри нас существует некая трудноуловимая взаимосвязь, какая-то взаимная проекция, впрочем, едва различимая, скорее даже, может быть, и вполне гипотетическая. Впрочем, нет, совсем не всегда гипотетическая, вот, например, в городе Москве есть симпатичная кондитерская, которая называется «Альдебаран», а это, как запомнилось с детских лет после прочтения книги о занимательной астрономии Камилла Фламмариона, имя звезды из созвездия Тельца, самой яркой на нашем родном северном небе.
Может быть, ее-то, пылающую, и видел над родными полями посреди исчезающих лесов Н. Рубцов, не догадываясь, как называется эта звезда, светившая ему с детских лет «во мгле заледенелой», так рано и так страшно погибший, может она-то и согревала его своим светом? Несомненно, что владельцы и посетители этого достойного заведения общепита находятся совсем в других отношениях со звездным небом, чем несговорчивый старик Иммануил Кант или наш русский великий национальный поэт. Где это там еще эта звезда Альдебаран, как ее искать на звездном небе – голову свернешь, а вот как приятно увидеть ее на своей тарелке в виде пирожного, слопать эту кондитерскую звезду под кофеек и разговоры о нравственном императиве – это куда удобнее. Так что отношения наши с звездным небом не астрономические, не нравственные, не даже поэтические, они – гастрономические.
Как незаметно начинает напоминать психология нашей эпохи перехода ко всему лучшему психологию одного милого героя Достоевского из его «Записок из подполья». Как скатывается она к самому главному вопросу бытия – пить мне кофей в кондитерской «Альдебаран» или миру погибнуть, или не пить мне кофею в вышеупомянутой кондитерской и все равно миру погибнуть, пить, пить, пить кофею. Вот и думай теперь, актуален ли вопрос о нравственном законе наивного Канта, всерьез не принимавшего ни французскую великую революцию, ни наполеоновские войны, он самого себя скромно называл истинным революционером и был прав, нет, конечно, что же ставить вопрос о том, чего давно нет и неизвестно, было ли во времена Канта.
Смотреть или нет на звездное небо, в конце концов, дело личное; эта во многих отношениях полезная операция часто бывает затруднена отчасти медицинскими причинами или, если угодно, анатомическими, шея лучше всего умеет все-таки нагибаться, а хребет прогибаться. Но она отлично решается с помощью современных чудес науки и техники. Совершенно не нужно, утруждая больные шейные позвонки, поднимать к нему голову, смотря на него по ночам, умиляясь или ужасаясь, в зависимости от настроения или знакомства с немецкой идеалистической философией, в частности, с работами предшественника марксистской мысли, достаточно упереть глаза в монитор. Так что в данном контексте нисколько не выглядит эпатирующим наименование звезд на небе – «плевочками» в известном стихотворении Маяковского. Понятно, что никакой связи, даже самой слабо гипотетической с нравственным законом обнаружить не придется. Плевочки – и все.
Вообще, что касается нравственного внутри нас закона, о котором говорил Кант, то с ним в иные эпохи, например, в ту, в которой жил А.Д. Попов и его современники, да и мы сейчас проживаем, дела обстоят гораздо хуже – он невидим ни при каком увеличении, не различим ни на каком мониторе, а, главное, не всеми, представьте, внутренне бывает ощутим, даже на сеансе в планетарии, где звездное небо когда-то показывали нам под музыку из «Лебединого озера» П.И. Чайковского, которая должна настраивать нас на сентиментальный лад и заставляет думать о вечном. Да, далеко не всеми, можно даже сказать, не боясь преувеличения, большинством он вовсе не ощутим.
Это досадно.
Лукавство времени заключается в том, что оно о, как порождает грех, об этом оно хвастливо заявляет в своем монологе и это – правда, но, кажется, до сих пор ни разу его не покарало, хоть и утверждает обратное.
Не то, что кары, самого простого квита до сих пор нет.
А квит, поверьте, – великая вещь.
И в этом смысле эпоха А.Д. Попова продолжается до сих пор. Нет, не нравственный закон определяет время, да и когда же определял, делают это чаще всего директивы, а они меняются в зависимости от ситуации. Но всегда ли они совпадают с нравственным законом…
Вспомним еще раз монолог Времени, в данном случае заглавная буква вполне оправдана – ведь это персонаж в пьесе Шекспира «Зимняя сказка» в старом добром переводе Петра Гнедича:
Я – Время. Я вселяю ужас. Я —Добро и зло. Я – счастие и горе.Я порождаю и караю грех.Неотразим полет мой. <…> Я могуВсе ниспровергнуть – все законы мираВ единый миг во тлен преобразить!Нет перемен во мне: таким же былоЯ на заре далекой мирозданья;Я видело начало всех начал, —При мне круговорот века свершали;И наши дни я то ж покрою пылью,И яркое сиянье этих днейВ преданьях назовется старой сказкой…Старой сказкой. Вечной сказкой; у Шекспира Время как будто синоним Вечности. Вечность – какое слово страшное, поет тенор Ленский в популярном музыкальном изложении «Евгения Онегина». Действительно, какое слово – сильное слово, интересное. Особенно если вспомнить опять еще одного героя Достоевского, англизированного, как Троекуров у Пушкина и кобыла у Толстого, – джентльмена Свидригайлова, у которого вечность, несмотря на весь его английский, с ударением на первый слог, шик, выходит очень русская и представляет собой нечто вроде бани с пауками.
Со всем тем Время – какая блистательная роль для талантливого артиста, всего на две минуты появиться в начале третьего акта и исчезнуть – и такой силы монолог!
И после этих строк Шекспира еще пытаться подгонять время, рычать – время, вперед! Куда ж еще?
Но и подчиняться времени – нельзя.
Художник, если он честный, – преодолевает время.
«Если я гореть не буду…»
Стало общим местом утверждение, что человек зависит от воздуха эпохи и атмосфера времени сильно влияет на него. Особенно если этот человек художник и особенно если он режиссер, который работает с живыми людьми-актерами, из которых каждый обладает своим отношением к эпохе, действительности, обстоятельствам жизни и места действия, вплоть до индивидуальной реакции на буквально физический воздух времени, то есть просто-напросто на погоду, направление ветра и перемену давления. Что же, так оно и есть; вообще не стоит пренебрегать так называемыми общими местами, попробуем понять это ходячее выражение, как loci communes древних, как термин высокой риторики, дающий представление о «вечном» и, по словам С. Аверинцева, «неоспариваемом» идеальном выражении содержания вещей.
И в самом деле, разве можно жить во времени и быть свободным от его, скажем так, «категорических императивов». Времена бывают уж очень категоричны и императивны, часто для того, чтобы остаться человеком, то есть не потерять, не погубить свое творческое начало, а оно, собственно, и делает человека – человеком, независимо от его настоящей профессии, необходимо противостоять давлению эпохи. Далеко не все это давление выдерживают, но, в принципе, человек, это подтверждает вся наша история, оказывается способным противостоять давлению атмосферы времени, эпохи; бывает, сопротивление художника эпохе так сильно, что он сам создает свое время. Время, эпоха – становятся его временем, его эпохой. Художник всегда существует, как пели в редкой совместной, кажется, единственной, записи Фредди Меркьюри и Дэвид Боуи – «under pressure». Но он способен это давление преодолеть и создать свое время. Время Льва Толстого, время Станиславского, Вахтангова, Мейерхольда…
Талант художника, если он направлен к добру – это факел, горящий настоящим обжигающим огнем, – освещает все темные закоулки времени и выжигает в эпохе всю гадость ее. Если же талант художника направлен ко злу, а так бывает, увы, все чаще и чаще, то факел художника горит искусственным холодным огнем, он очень эффектно освещает всю гадость времени только для того, чтобы полюбоваться ею, а то и возвести ее в некий идеал, как говорили романтические критики – в перл творения. Вместо того, чтобы возвышать человека – унижает его, отказывает ему в возможности преодолеть трудные обстоятельства жизни, заставляет его опустить руки и смириться с неизбежностью зла в природе вещей. Таких негативных примеров много в истории, причем и в современной истории; для того, чтобы всеми силами бороться с такой позицией художника, который считает себя обязанным рассказать человеку о том, как ему плохо живется и что это плохое есть норма, а не отклонение от нее, который с удовольствием дегустирует зло времени, но оказывается неспособным указать человеку выход из такого положения дел. Здесь опять встает вопрос о свободе художника и о его нравственной позиции – увидеть свет в конце тоннеля. Коридоры кончаются стенками, а тоннели – выводят на свет, – пел в эпоху «застоя» Высоцкий, свободный художник в несвободные времена, потому и свободный, что видел свет в конце тоннеля. А он всю шелуху века сдирал с себя с кровью.
Когда-то в самые темные годы двадцатого века прекрасно сказал Назым Хикмет: «Если я гореть не буду, если ты гореть не будешь, если мы гореть не будем – кто ж тогда развеет тьму». Сказал, очень хорошо зная, какой ценой можно заплатить за то, чтобы быть факелом в темноте – за каждую книгу стихов его сажали в тюрьму, пока, наконец, не посадили на двадцать восемь лет в одиночку, через двенадцать лет его чудом вызволили, и он уехал в Советский Союз. «Голубоглазый турок», как назвал его Ярослав Смеляков, стал заметной фигурой советского искусства, в том числе и театра, написав ряд замечательных пьес, среди которых особое место занимает «Легенда о любви», он жил на своей новой родине, оставаясь самим собою, он и в советской России не стал конформистом.
А.Д. Попов как художник огромного масштаба, как личность, всецело устремленная к добру, был сродни великому турецкому поэту; он был человеком, вокруг которого был свой свет, своя особенная атмосфера, своя, если угодно, суровая поэзия; это привлекало к нему многих людей, этот свет его личности ощущался всеми – не только соратниками по театру, учениками, нет, в его личности было что-то такое красивое, без красивости, и человечное, что привлекало к нему всех; он также горел во времени, согревая и освещая его. Этот свет его личности ощутим и сегодня.
А ведь в жизни он шел по очень тонкой грани, по тонкому льду широко шагал – и не погиб. Жизнь свою прожил не пробежкой из одной спасительной тени в другую тень, не перелетая. Говорят, он был обласкан властью. Да, был, еще как, он обладал всеми возможными тогда званиями и премиями, но остался, в отличие от некоторых обласканных, – человеком. Все его награды и звания, как к ним ни относись, были абсолютно адекватны; он был народный артист СССР, и это было совершеннейшей правдой, уж кто-кто, а он действительно был артистом народным. Случается, хотя и редко, что личное время художника совпадает с временем эпохи, созвучно ему по тональности. Так удивительно сложилась жизнь этого большого советского человека, что в каких-то очень высоких моментах его личное время совпадало со временем эпохи. Это, конечно, было его большой удачей. Ведь чаще всего бывает иначе, не совпадают внутренние часы художника со временем эпохи; они не отстают и не бегут вперед, просто они отсчитывают другое время; из этого конфликта, бывает, рождаются гениальные, а порою и великие произведения, иногда, правда, ценою жизни художника. Но в любом случае взаимоотношения художника и его эпохи всегда конфликтны, чреваты драматическими, даже трагическими коллизиями и вообще это всегда поистине шекспировская драматургия – комедия имеет трагическую подоплеку, а трагедия горько смеется.