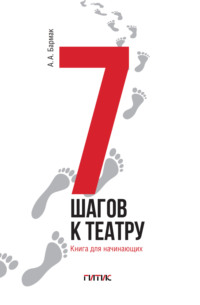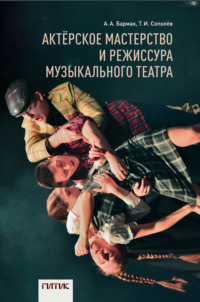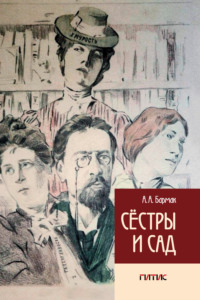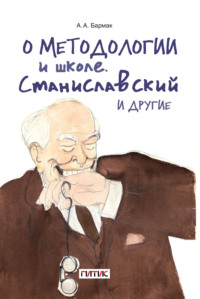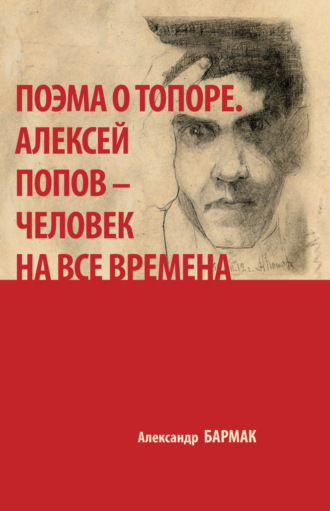
Полная версия
Поэма о топоре. Алексей Попов – человек на все времена
Спектакль зависит от дыхания актера, от того, как работают его ноги – это знаменитая реплика А.Д. Попова актеру: ноги врут! Но это прежде всего означает, что внутренне актер – пустой. Внутренне он ничем не обеспокоен, у него спокойное ровное дыхание, тело его живет лениво. Но обстоятельства жизни роли требуют другого, актер начинает изображать, прежде всего голосом, интонациями, то есть – врать, это вранье отлично выдают ноги, которые живут своей жизнью.
Актер играет без «зерна», которое дает энергию его жизни на сцене. Но что такое «зерно»? Это основное внутреннее противоречие человека, то, что ни на секунду не оставляет его в покое. Как говорила Серафима Бирман, выдающаяся актриса и режиссер, соученица А.Д. Попова по студии МХТ, – «зерно» – это внутреннее противоречие человека, «зерно» всегда связано с чем-то глубоко личным, что живет в актере. Если этого личного импульса нет, то что ж идти на сцену? Притворяться? Играть? Изображать? Так это не русский театр.
Так же и режиссер живет в спектакле, каким-то образом его дыхание, его энергию сохраняет атмосфера спектакля, об этом писал А.Д. Попов в своих книгах.
А Чехов, самый востребованный автор в мировом театре. Он, кажется, ни о чем другом и не писал, как о совести человека. Поэтому никогда, например, не перестанут ставить «Три сестры»; мы сегодня имеем некоторые постановки, совершенно издевательские по отношению к этой пьесе, все равно, никакие изощрения режиссера, никакие плевки в сторону автора не способны заглушить основное в ней – проблему совести и с нею связанную тему труда и ответственности перед жизнью. Как Чехов умудрился вцементировать эту тему в текст пьесы, в тексты всех своих пьес – загадка; но отделаться от нее, выскрести, оставить в стороне, подменить другой не способен никакой режиссер, как бы издевательски и как бы предательски он не трактовал пьесу или, как сегодня модно говорить, – текст Чехова.
Пушкин сказал устами своего Барона: «совесть, когтистый зверь, скребущий сердце». Да, неприятная это вещь. При всей ее эфемерности – очень трудно заглушить ее. Но можно, – если постараться.
Впрочем, если посмотреть с другой стороны, как говорил один забавный персонаж Шекспира: «Совесть? Это что – мозоль? Так я хромал бы!» И то – верно.
На протяжении многих лет автор этой книжки задумывался о том, как хорошо было бы сделать серию очерков о выдающихся людях советского театра. То есть о тех художниках, которые сохранили русский театр, поставили его в советский период на недосягаемую высоту и оставили нам замечательное творческое наследие. Учитывая все вышесказанное, в наши дни это представляется просто необходимым.
О людях, которым современный театр, так легко отвергающий традиции и так далеко умчавшийся вперед, подальше от них в зеленеющую нежной травкой дальнюю даль, возделывать маргинальные поля, обязан своим существованием. Ибо, если сегодня театр имеет творческие удачи, иногда очень интересные, высокоталантливые работы, пусть и вызывающие споры, даже неприязнь со стороны некоторой части критики и публики, а как же может быть иначе, ругань вокруг тех или иных театральных постановок дело совершенно натуральное, то только потому, что наши мужественные и талантливые предшественники в условиях, очень часто губительных для своего творчества, смогли сохранить и передать традиции великого театрального искусства следующим поколениям.
И когда автор думает об этих, еще раз повторяю, мужественных людях, из которых никто не мог бы похвастаться благополучной и безмятежной жизнью, то первое имя, которое приходит ему на ум, – это имя Алексея Дмитриевича Попова.
Так уж случилось, что очень давно, когда только-только пришло увлечение театром, первая прочитанная книга была книга А.Д. Попова «Воспоминания и размышления о театре», вторая, разумеется, «Художественная целостность спектакля». С тех пор прочитано было много прекрасных книг о театре, но эти первые книги не только не потускнели в памяти, а стали еще дороже. Например, никто не раскрыл так точно и образно сущность «Принцессы Турандот», неповторимый трагизм этого спектакля Вахтангова, друга и учителя Попова; никто не смог так пронзительно описать спектакль «Вишневый сад» в Художественном театре, передать атмосферу этого легендарного спектакля, будто бы ты сам видел его, как это сделал А.Д. Попов.
Книга «Воспоминания и размышления о театре» глубоко лирическая, это великолепная театральная проза, но, конечно, это еще и книга о профессии, о режиссуре. «Художественная целостность спектакля», в сущности, учебник режиссуры, но написанный как художественная проза. Ни одна из прочитанных позже книг, до сих пор не дала такого ясного, такого умного, такого честного, такого ответственного, такого обаятельного и, что немаловажно, откровенного взгляда на сущность театрального искусства, театрального мастерства. О нравственном долге человека, этим делом занимающегося, о совести художника, об его обязанностях.
Он был и мастером, и мастеровым, в его личности соединялись высокое искусство, художественный порыв и абсолютное знание своего дела, именно как дела, как производства, как цеха. У Гофмана есть чудесная новелла «Мастер Мартын-бочар и его сыновья». Вот он и был таким мастером; у него была – мастеровитость, выработанная опытом, а талантом возведенная на очень большую высоту мастерства. Эту мастеровитость он воспитывал в своих студентах вместе с М.О. Кнебель; они вырастили для нашего театра блистательную плеяду режиссеров второй половины двадцатого века.
Он так просто и так глубоко объяснил все одновременно и простые, и сложные вещи на страницах своих книг тогда еще очень молодому человеку и дал такое, что подтвердила жизнь позже, верное представление о театре, что, конечно, стал на всю жизнь тем, кого обычно принято называть наставником.
С тех пор не оставляет чувство невыполненного долга и некоторое даже чувство вины, потому что, оглядываясь на фигуру А.Д. Попова, видишь свои отступления от правды, свои не то чтобы ошибки, а малодушие их осознать и исправить.
Летчик
О А.Д. Попове очень хорошо два раза написала Н.М. Зоркая. Две книги с интервалом в несколько лет одна от другой. Это жизнеописание А.Д. Попова. Конечно, с тех пор прошло много времени и многое, наверное, можно было бы добавить к этим книгам, найти какие-то новые факты биографии, новые штрихи к творческим работам, но все это дело театроведческое, дело ученое. Хотелось бы верить, что найдется театровед, историк театра, с горячим сердцем и благодарной памятью, который захочет вернуться к жизни и творчеству Алексея Попова на новом теперь уже этапе, когда все-таки многие факты стали доступнее для печати, особенно те, которые касаются эпохи или, скажем, даже эпох. Царская Россия, революция и Гражданская война, Красный Октябрь в искусстве, уничтожение нэпа, коллективизация и индустриализация, годы репрессий, накатывавшие волнами, Великая Отечественная война, послевоенные годы, смерть Сталина, Двадцатый съезд Коммунистической партии, наконец, начало «оттепели», – вот такие, мягко говоря, интересные периоды нашей истории, в которых жил и работал великий режиссер. Но наша задача иная.
Наша задача – защитить память о великом человеке театра от забывчивости и небрежения нашей эпохи; она забывчива и о, как небрежна к памяти прошлого. И еще наша задача – свое восхищение личностью художника и гражданина передать молодому читателю, будущему режиссеру.
Это все признаки старинного жанра, который когда-то назывался – апология. А чем, собственно, плох этот публицистический жанр? Не хуже, право, других. Конечно, говорить о художнике и времени, о театре во времени и о времени в театре невозможно, не соскальзывая в публицистику. В данном случае это соскальзывание, этот даже крен в сторону современности, как мы уже сказали, – умышленные.
Фигура А.Д. Попова, его жизнь, судьба, театральные свершения, педагогическая школа необходимы нашему времени, которое, несмотря на всевозможные громкие театральные события, происходящие вокруг, на подлинные свершения пока не имеет сил.
Автор назвал свой очерк – «Поэма о топоре», так назывался легендарный спектакль А.Д. Попова по пьесе Н. Погодина. Название, конечно, двусмысленное. Если угодно, это своего рода поэма о режиссере, над которым, как и над многими его сверстниками и соратниками в те времена, был занесен топор времени.
«Поэма о топоре» Н. Погодина был одним из самых знаменитых спектаклей А.Д. Попова. Этот спектакль стал и одним из самых значимых художественных символов времени.
В те годы кино стремительно завоевывало позиции в искусстве; на «Чапаева» братьев Васильевых, фильм вышел на экраны в 1934 году, на два года позже спектакля Попова, ходили демонстрациями – с красными флагами, лозунгами и пением революционных песен. И не надо думать, что эти демонстрации были все сплошь специально подготовленными акциями и люди шли смотреть «Чапаева» по указке начальства, нет, это было не так.
Конечно, театр сравниться с кинематографом по охвату массового зрителя никак не мог, но такие спектакли, как «Поэма о топоре», тоже делали погоду времени, которая никогда не была в ту эпоху штилем, погода была, скажем так, ветреная. Ветер надувал щеки вовсю, как на старинных картографических атласах, и никто не мог предполагать, какие несчастья он надует. Довольно скоро начались бури, а когда они не то, чтобы стихли, а стали привычны, – страна стала как великолепный парусный корабль, огромный, сильный, оснащенный, но бессильный справиться с мертвой зыбью, в которую превратилось время.
Пока же время подгоняли: «Время, вперед!» – так назвал свою книжку о строительстве Магнитогорского металлургического комбината В. Катаев. Такие игривые названия тогда нравились.
Через тридцать три года по этой книге был поставлен фильм «Время, вперед!», к нему написал музыку Г. Свиридов. Из музыки к фильму вышла сюита в шести частях – заключительная часть так и называлась: «Время, вперед!» С тех пор эта музыка, вернее маленький, на двадцать девять секунд фрагмент последней части, отдаленно напоминающий интонации Четвертой симфонии Шостаковича, звучала по радио, а потом и по телевидению – каждый день и несколько раз на дню, надоевши всем до боли. Но подгонять время было уже бесполезно – скоро оно, как его ни подгоняли, остановилось, превратившись в ту самую мертвую зыбь, последствия которой мы ощущаем и сегодня.
Со всем тем, и В. Катаев – прекрасный писатель, и музыка Г. Свиридова замечательная, стоит только послушать всю сюиту целиком. В этой музыке есть своя железная драматургия, и понять по-настоящему смысл последней части можно только прослушав и поняв все предыдущие музыкальные события сюиты, и уральский напев, и частушку, и маленький фокстрот, столь приятный красному маршалу Ворошилову, и зловещие интонации медных в просто феерическом марше, и предпоследнюю часть – ночь, и только тогда ту часть, то событие, которое так и называется – «Время, вперед!».
Музыка этого фантасмагорического марша, третья часть сюиты Свиридова, была бы совершенно невозможна в тридцатые годы прошлого века, как невозможной оказалась и Четвертая симфония Шостаковича, но, созданная композитором в период «оттепели», она полна нервов, страстей, сарказма, дыхания той трагически противоречивой эпохи, тех одиннадцати предвоенных лет. Отрезок очень условный, мы считаем от двадцать девятого года, года начала коллективизации и индустриализации страны, первого года первой пятилетки. Первый пятилетний план был утвержден на Пятом съезде Советов СССР в июле 1929 года – началась эпоха великих свершений, великих трудовых подвигов и великих потрясений, окончательно уничтожался весь старый уклад жизни. Стоило это – десятков миллионов жертв, впрочем, точно до сих пор количество погибших в те времена неизвестно.
«Поэму о топоре» А.Д. Попов поставил в Театре Революции.
Речь в пьесе шла о выплавке стали особого качества.
Прообразом пьесы стали действительные события на Златоустовском металлургическом заводе, пьеса была, в сущности, документальной, рождалась из производственных очерков драматурга. Но из этих очерков в театре родилась – поэма, на такую высоту поднял режиссер, казалось бы, производственную пьесу Погодина. В советском театре бытовала, время от времени становясь на первое место, так называемая производственная пьеса – странный, надуманный, идеологический жанр. Производственной теме посвящены были многие спектакли. Ни один из них не мог сравниться по духовной и художественной силе с такими «производственными» спектаклями Попова, как «Поэма о топоре», «Мой друг».
В семидесятых годах прошлого века, например, в начале того периода истории советской власти, который получил название – «застоя» и который привел к краху некогда великое советское государство, был поставлен на сцене Художественного театра спектакль о сталеварах, уральских сталеварах, то есть просто-напросто потомках героев пьесы Погодина и спектакля Попова, по пьесе Г. Бокарева «Сталевары». Но какая колоссальная разница между этими художественными фактами!
Пьеса Г. Бокарева читалась и обсуждалась на металлургическом заводе, артисты посещали цеха, беседовали с рабочими знаменитого московского завода «Серп и молот» (ныне этот завод прекратил существование, на его месте строится жилой комплекс), первыми зрителями были рабочие завода. И этот масштабный и, казалось бы, очень современный спектакль, с грандиозными декорациями, пылающими мартеновскими печами, с великолепными актерами, которые в нем играли, увы, очень плохо, не стал театральным свершением, хотя рассуждали о нем, и обсуждали его, и писали о нем много. Утверждали, что он подымает злободневные вопросы человеческих взаимоотношений на современном производстве, проблемы, связанные с ролью рабочего класса на данном этапе истории.
Да, все верно, все эти вопросы спектакль действительно подымал и делал это искренне, так же, как и спектакль А.Д. Попова сорокалетней давности. В этой постановке Художественный театр, в то время он еще назывался МХАТ им. А.М. Горького, осваивал, как тогда говорили и писали, тему труда и старался это сделать через живого человека на сцене. Этого не получилось, живой правды – не получилось.
Хуже того, спектакль о сталеварах 1973 года был по-настоящему современным не потому, что в нем отражалась фальшь времени в изломе человеческих судеб, а потому, что он, увы, сам невольно стал частью этой фальши времени, фальши, становящейся нестерпимой. Неверно было бы думать, что выдающийся режиссер второй половины двадцатого века Олег Ефремов, художник предельной честности, всегда в своих ролях и постановках подымавшийся до высот художественной правды (он, кстати, и был инициатором написания пьесы), и актеры театра, занятые в спектакле, а это, повторяю, были актеры замечательные, создавали заведомую фальшивку. Ни в коем случае, об этом даже и подумать невозможно, все они делали свое дело и делали его честно, все считали, что говорят правду о времени и правду нелицеприятную. За эту правду власть их похвалила – спектакль получил Государственную премию.
Но во времени были ощутимы уже процессы, которые стали по-настоящему определять трагическую подоплеку эпохи, болезнь начиналась, болезнь тяжелая, а предлагалось лечить ее паллиативами, в искусстве – вот такими, как этот спектакль.
Так самые искренние усилия режиссера, актеров и, конечно, драматурга, талантливого драматурга, все оказались втуне; при безусловном наличии частной правды вышла неправда общая. Время тогда повернулось таким боком, что никакие самые искренние производственные темы ничего уже поправить в нем не могли.
Был упадок сил времени, страна – уходила.
Но об этой трагедии, разворачивающейся на глазах, говорить со сцены впрямую не было возможности. Тогда стало популярным словечко – аллюзии, да, они стали тогда и, кажется, вновь становятся теперь, некой отсылкой, как сейчас пишут в Интернете, – перенаправлением к правде; иногда их искали сами зрители.
Казалось бы, такая далекая от современности пьеса Тургенева «Месяц в деревне», но в незабываемой постановке А. Эфроса в Театре на Малой Бронной в конце семидесятых годов удивительно воспринималась реплика доктора Шпигельского, в блестящем исполнении Л. Броневого, произносимая им на самом краю авансцены прямо в зрительный зал: «Авангард легко становится арьергардом – все дело в перемене дирекции». Как прикажете понимать слово – дирекция, как направление, а такое значение слова было бы естественным в контексте пьесы, или понимать надо впрямую, то есть именно как дирекцию, как руководство, начальство какого-нибудь учреждения или департамента. Что здесь имеет в виду коварный Шпигельский, на что намекают актер и режиссер в этой реплике – на перемену направления или все-таки на смену руководства, размышляла публика, конечно, внутренне склоняясь ко второму варианту, не отдавая себе отчета, что смена дирекции далеко не всегда означает смену направления. Очень скоро после этого спектакля страна действительно пережила одну за другой смену дирекций, но направление оставалось одно – в тупик. Аллюзия, да еще какая.
А бывало, в те времена, что аллюзия вообще не вызывала вопросов, она была уже даже и не аллюзией, так убийственно было ее впечатление на публику. Вот замечательный роман Ю. Трифонова о народовольцах – «Нетерпение» – начинался словами: «К концу семидесятых годов современникам казалось вполне очевидным, что Россия больна. Спорили лишь о том: какова болезнь и чем ее лечить». В 1973 году, когда вышел в свет роман Трифонова, эта вполне толстовская по духу фраза могла восприниматься как угодно, но вот уж аллюзией ее называть не приходилось.
Сорок же лет назад от спектакля МХАТа, к середине тридцатых, к тридцать четвертому, многое решившему в эпохе году, семнадцатому году советской власти, эпоха была иная. Она была, может быть, трагичнее эпохи семидесятых. Наверняка она была трагичнее, если вообще есть какая-то мера измерения трагизма эпохи. Впрочем, есть, конечно, эта мера – оборванные жизни, тут с ней мало какая эпоха сможет сравниться. Но в том-то и сложность, и каверзность этой эпохи, что она была еще и временем, когда миллионы обманутых людей были охвачены, не будем произносить это надоевшее фальшивое слово – энтузиазм, скажем, радостью строительства новой жизни. Светлое будущее – казалось, вот оно, еще несколько усилий и вот-вот страна к нему придет. Радость была неистова, близка к истерике.
Эта неистовая радость миллионов трудящихся людей была реальностью, и она была огромной силой – это кажется сегодня невероятным, но это так было.
Вообще, нет какой-нибудь одной реальности эпохи – какая-то преобладает в то или иное время. Страна строилась, страна изменялась на глазах. «Человек меняет кожу» так назывался один из знаменитых романов эпохи, о «перековке» американского инженера на строительстве Ферганского канала, автор его Бруно Ясенский, имевший бурную революционную биографию, в своем предыдущем ультралевацком романе сжегший Париж дотла, сгинул в лагерях в тридцать восьмом году, где-то на каторжном этапе. Писатель был искусственный, искренним был, пожалуй, только в своей самой левацкой из самой левой подоплеки, читать его сейчас без чувства некоторой оторопи просто невозможно. Но какое невероятно точное название дал он своему роману – неважно, что там случилось с американцем, но важно, что человек в этом времени действительно как бы «менял кожу». О том, что это процесс болезненный, наверное, можно догадаться, как неизбежность его принимала эпоха, но восхищаться этим процессом трудно.
Выдающийся мастер документального кино Дзига Вертов создал «Симфонию Донбасса», «Три песни о Ленине», позже очень дорого ему стоившую и быстро снятую с экранов потрясающую «Колыбельную». Это фильм, который очень стоит посмотреть, чтобы точнее понять эпоху, это своего рода советский сюрреализм, и как это свойственно сюрреализму, отмеченный траурными тонами…
Шостакович написал веселую и жизнерадостную «Песню о встречном» на стихи Б. Корнилова: «Страна встает со славою навстречу дня… И радость поет, не скончая, и песня навстречу идет, и люди смеются, встречая, и встречное солнце поет…» Удивительные стихи, совершенно грамматически несуразные, но прекрасные своей абсолютной, едва ли не детской искренностью. Десятилетиями страна их пела, не догадываясь, что поэт спился и был расстрелян по стандартному обвинению в троцкистском заговоре…
Но все в его стихах правда – не вся правда об эпохе, но это была его правда и правда миллионов людей, от имени которых он писал, имел право писать, этот человек из народа, так и не сумевший прочно обосноваться во времени.
Легче всего сейчас сказать, что и Дзига Вертов, и Шостакович, и Борис Корнилов, и Алексей Попов, поставивший «Поэму о топоре», «После бала», «Мой друг», и Николай Охлопков, интереснейший и, увы, сегодня почти забытый режиссер с его «Святой дурой», выдающимся, но так и не состоявшимся спектаклем (автор перевода и советского варианта пьесы Бертольта Брехта поэт Сергей Третьяков был арестован, потом очень быстро расстрелян, спектакль закрыли), и Сергей Эйзенштейн, почти уже снявший свой легендарный «Бежин луг» («Мне, – говорил он, – оставалось всего одиннадцать съемочных дней до конца съемок»), фильм, посвященный известному Павлику Морозову, мальчишке-пионеру, донесшему властям о своем отце – кулаке, фильм, которого никогда не было и который считают шедевром, хоть от него осталось всего несколько кадров; сочиняли, писали, ставили, снимали, скрепя сердце, только чтобы попасть в ногу времени, а на самом деле испытывали неимоверные нравственные мучения, тайные сомнения и чуть было не занимались изготовлением художественных фальшивок и прочее, и прочее.
Сказать так – подлость, на которую сегодня очень охотно идут, не понимая, что так говорить – низко. Не понимая просто потому, что, как мы уже выше говорили, неладно сегодня с нравственным законом.
Да, эти великие без преувеличения художники испытывали сомнения, такие страшные и терзающие сердца, которые нынешнему художнику просто даже и не приснятся, но свершали свое дело ожесточенно и искренне. Потому и стали великими, потому мы до сих пор у них учимся и стараемся понять их подвиг в противоречиях эпох. А приспособленцев, причем – талантливых, хватало, всегда с избытком. Иногда, правда, они преобладают в сиюминутных буднях, но потом, – как только прояснится небо времени, редко в нашей истории так бывало, но бывало все же, – быстро забываются и тихо исчезают в его сумерках.
Но не о них речь.
Вот в этой атмосфере, которую, напомним, очень хорошо передает марш из сюиты Свиридова, родился спектакль А.Д. Попова. В начале тридцатых годов репрессии еще не развернулись с такой кошмарной силой, как это произошло в их конце, они еще как бы тонули в общем гуле революционной эпохи, в музыке, как восторженно когда-то писал Блок, революции, до тридцать четвертого, как мы уже говорили, очень важного года. Людям всегда свойственно мечтать о лучшем и стремиться к этому лучшему, это кем-то заложено в человеке, кем-то весьма ироничным; но человек не всегда догадывается о страшных последствиях увлечения утопией; когда же понимает это, если понимает – бывает уже поздно.
В ту эпоху лучшим, к чему стремились мысли миллионов людей, людей, как тогда казалось, навсегда освобожденных от подневольного труда, была коммунистическая идея. Совершенно, кстати сказать, неистребимая в человеческом сознании. А в русском сознании тем более; она у русского человека всегда прежде всего – идея справедливости. Для осуществления этой самой по себе прекрасной идеи нужно было идти на жертвы; и шли на жертвы и неслыханные жертвы; всех тех, кто не разделял эту идею, следовало всеми средствами перевоспитать и заставить эту идею принять. Не говорим о негодяях, которые всегда примазываются к интересным идеям и легко становятся палачами, но даже при всей искренней увлеченности коммунистической идеей средства перевоспитания, как всегда, выходили у нас самые обыкновенные и самые страшные – каторга и казнь.
Палачей нужно презирать, наказать их уже невозможно, но нельзя насмехаться над верой миллионов людей, оплевывать их жизнь и деяния. Как это сейчас ни кажется странным, совсем не мрачная сторона действительности была в начале тридцатых доминантой общественного сознания. В те годы страна превратилась в колоссальную стройку – выполнялся первый пятилетний план. В те годы страна превратилась в большую школу – люди стали получать образование, скажем прямо – неплохое. Студентов называли вузовки и вузовцы. Эти вузовцы были в основном дети рабочих, крестьянские дети. Созидательная энергия нации была неподдельной – это сегодня нам в нашем благополучии так легко анализировать прошлое нашей страны и, кромсая его на куски, черную его засохшую кровь делать основным цветовым тоном всей эпохи. Великолепно передает атмосферу времени картина К. Истомина «Вузовки», вглядитесь в нее; она многое может рассказать об эпохе внимательному взгляду. Живопись тридцатых годов долгое время была открыта для зрителей далеко не вся, какие шедевры были годами спрятаны от народа, шедевры, в которых отразилась эпоха во всем своем совершенно неожиданном разнообразии, да и сегодня сколько интереснейших картин замечательных художников пылятся в запасниках, между тем эта живопись дает потрясающее впечатление об эпохе, без нее оно неполное, недостоверное. Вообще великое советское искусство мы с вами, современники, знаем недостаточно; это большая потеря для нашего времени – отсутствие, так сказать, присутствия в наших днях советского искусства.