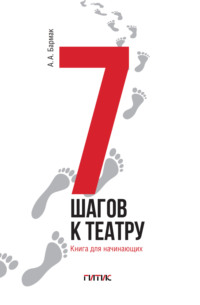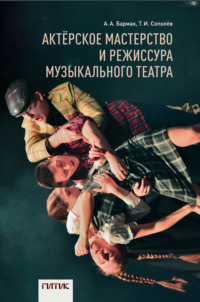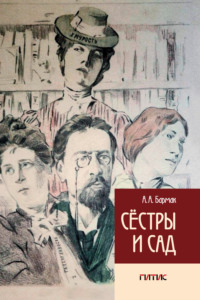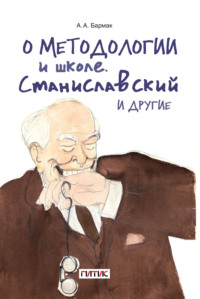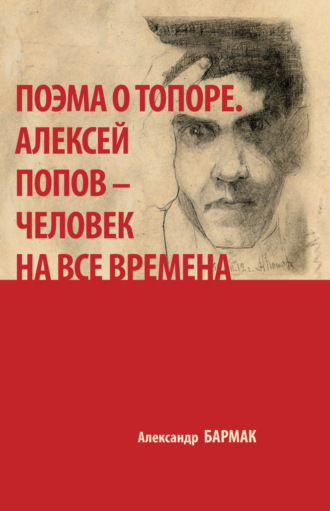
Полная версия
Поэма о топоре. Алексей Попов – человек на все времена
На странице сто двадцать первой – Московский театр Революции.
Один из лучших театров тех лет.
Фотография художественного руководителя – заслуженный деятель искусств А.Д. Попов. Светлое пальто, галстук, элегантная светлая с широкой лентой шляпа, смотрит чуть в сторону, печальные, полные мысли глаза, как будто тень улыбки на благородном лице… Ему сорок три года. Звание заслуженного деятеля искусств – в ту пору для режиссера это самое высокое звание. Да, в эти годы он уже один из признанных лидеров советского театра. В Театре Революции идут его спектакли, ставшие классикой советского театра, школой режиссуры, – «Поэма о топоре», «Мой друг», «После бала», пьесы Н. Погодина и новый спектакль – «Ромео и Джульетта» Шекспира, ставший эпохой в сценической жизни шекспировской трагедии в советском и мировом театре.
Но глаза – грустные.
Может быть, потому, что совсем скоро, в этом же 1935 году, он уходит из Театра Революции, которому отдал несколько лет жизни, сделал его одним из первых театров Москвы, но все-таки вынужден был уйти. Он был максималистом в творчестве, требовал такого же максимализма от других, он упорно создавал коллектив единомышленников, объединенных художественной идеей, он стремился к единой школе, которая могла бы объединить актерский состав театра, очень интересный, но очень разнородный. Он вообще всегда был не только блестящим постановщиком, но всегда – учителем, театральным педагогом, он утверждал, что режиссер не имеет права быть только постановщиком, он просто обязан уметь работать с актером, ибо только через искусство актера возможно образно раскрыть идейно-художественный замысел спектакля, его общественный темперамент, его сверхзадачу.
В театре идея становится подлинно художественной, когда она выражена образно через творчество актера – пропущена через живого мыслящего человека на сцене. Изнутри подлинной сценической жизни актера рождается образная система спектакля – все остальное, все, так называемые выразительные средства театра, сценография, тогда, правда, такого слова не было, музыка, шумы, свет – только важное к ней дополнение. Без абсолютной правды актерского сценического существования образная система спектакля превращается в лучшем случае в аллегорию, в худшем – в набор обозначений.
Он исповедовал театральную веру Станиславского, Немировича-Данченко и Вахтангова и именно в этом был максималистом, но никогда не догматиком. Он понимал Станиславского, Немировича-Данченко, Вахтангова, как никто другой в те страшные для советского искусства годы, в те годы, когда оно достигло вопреки всему своих захватывающих высот. В тяжелейшие годы опалы Мейерхольда, перед его гибелью, он открыто говорил о том, что он учился у великого мастера, он один из очень немногих в то время понимал, что между театральными исканиями Мейерхольда и последними поисками Станиславского нет пропасти, нет непримиримых противоречий.
Как нам важно если не понять, то хотя бы почувствовать ту невероятную, героическую и трагическую эксцентрику эпохи, в которой были смешаны чудовищная тупость и спесь чиновников искусства и стремительный полет смелой художественной мысли великих деятелей культуры; чванство советской партийной номенклатуры, считающей себя главным судьей в художественных вопросах, и беззаветная преданность высоким идеалам Революции замечательных художников, чья деятельность облагородила эту тяжелую эпоху так же, как облагораживал ее неистовый и невероятно тяжелый труд народных масс, труд во имя новой жизни.
Великие художники были всегда вместе с народом, этого нельзя сказать о партийных деятелях, уцелевших в смертельных партийных битвах и успевших стать к середине тридцатых годов новой советской буржуазией. Но что такое, на самом деле, был народ для этих откормленных большей частью новых партийных буржуа? Годы после знаменитого XVII съезда партии, вошедшего в историю под именем «съезда победителей» (двусмысленное, как многое в те годы название), были годами стремительного перерождения партии. Для этих новых победивших алчных партийных буржуа прославление трудового народа было всего лишь ширмой, которой они прикрывали свое, по сути, абсолютно мещанское, если вспомнить «Жизнь Матвея Кожемякина», «Городок Окуров» Горького, хамское, «окуровское» отношение к жизни, людям и культуре.
Это «окуровское» отношение к трудовому народу, который совсем не был им родным, и к художественной интеллигенции, которая исторически была приращена именно трудовому народу, дорого стоило нашим культуре и искусству.
Великая советская культура создавалась не благодаря, а вопреки обстоятельствам эпохи.
Она выковывалась деятельностью великих советских художников, не талантливых приспособленцев, которых было много, очень много, но не о них речь идет, а теми подлинными деятелями культуры, искусства, науки, погибшими, уничтоженными в обстоятельствах времени, и теми, которые каким-то чудом смогли выстоять и выжить, день за днем занимаясь одним делом – становлением, созиданием национальной культуры советской эпохи.
Суровость первых лет революции, ее непримиримое отношение к так называемым «буржуазным ценностям», которые часто просто-напросто были всего лишь самыми обычными человеческими ценностями, к середине тридцатых осталась в пропаганде, а на деле в высоких партийных кругах было иначе. Красный маршал Ворошилов, любимец, если верить пропаганде тех лет, народных масс, – берет уроки фокстрота.
Атмосфера времени была фантасмагорической.
В атмосфере эпохи, на которую пришелся самый расцвет творчества А.Д. Попова, растворены были героизм, подлинный, не придуманный, не сочинённый, а реально существовавший героизм трудового народа, а большинство художников никоим образом себя не отделяли от народа, строившего в больших лишениях новое и, как он надеялся, прекрасное будущее, жестокость власти и… ее безумие.
Одним из припадков этого постоянно тлеющего безумия эпохи была спровоцированная властью в середине тридцатых дискуссия о формализме в искусстве. Надо заметить, что эта дискуссия, по сути дела, не прекращается до сей поры. Но в те годы, из которых смотрят на нас умные и печальные глаза А.Д. Попова, она стала поводом для уничтожения многих художников, стала борьбой со всем мало-мальски оригинальным и свежим в искусстве, стала поводом к недопущению до советского зрителя огромного количества художественных произведений. Только сегодня, например, мы имеем возможность увидеть совершенно необыкновенную живопись тех лет, до сего дня спрятанную в запасниках музеев, чудом сохранившуюся в частных коллекциях, да и то, далеко не все из того, что было создано в те годы, дошло до нашего времени. Что же говорить о театре – остались только легенды…
Именно это слово – безумие – приходит на ум, когда читаешь постановления, резолюции, письма, стенограммы выступлений и докладов на бесчисленных собраниях, совещаниях, конференциях, посвященных борьбе с формализмом в искусстве. Но еще более безумным кажется все проходящее, когда читаешь выступления великих деятелей искусства тех лет на совещаниях, собраниях, конференциях, в газетах, по радио, которые защищались, открещивались от обвинения в формализме. Все понимали, что сам затеянный властью разговор, сама дискуссия, навязанная работникам искусства, – безумны, что все это словоблудие никакого отношения к искусству не имеет, а имеет отношение только к политическому моменту, когда для властей стало очевидным, что искусство, в частности, театральное, надо привести к общему знаменателю и ни в коем случае не давать художнику возможности проявлять свое личное отношение к эпохе и сложным, а часто трагическим обстоятельствам того времени, которые, несмотря на весь неподдельный энтузиазм эпохи, власти скрыть не могли. Надо было нивелировать искусство, но сделать это оказалось властям не по силам. Искусство – выжило, как выживало оно всегда, даже при Батыевом нашествии, правда, с колоссальными потерями. Когда на сцену выходил Мейерхольд и каялся в своих ошибках, все понимали, что никаких ошибок у него не было и быть не могло. Он называл «Турандот» Вахтангова формалистическим спектаклем, а в зале слушали весь этот безумный текст уже приговоренного к смерти человека (о том, что Мейерхольд уже приговорен, знал открывавший конференцию генеральный прокурор СССР А.Я. Вышинский), а потом всерьез, или как бы всерьез, то есть по заказу, обсуждали с трибуны конференции эту трагическую речь великого мастера – это было самым настоящим и чудовищным безумием. А то, что открывал режиссерскую конференцию Вышинский – палач, главный обвинитель на страшных процессах тридцать седьмого года, – палач – занимается проблемами театральной режиссуры, – это все было за рамками добра и зла.
Со всем тем, советская страна строила новое великое счастливое будущее. Но был ведь и нынешний день, но далеко не всегда он был ярок и радостен. Но думать о нем как-то было не принято, – все жили только будущим, во имя будущего, так с тех пор и повелось – все для будущего и ничего для сегодня. А это опасно – еще в Библии было сказано: не хвались завтрашним днем, ибо ты не знаешь, что он принесет тебе. Кто-то сказал о Мейерхольде, что он, дескать, шагает из прошлого в будущее, минуя настоящее. О, какой же вред нанесла эта остроумная фраза режиссеру – его сразу же обвинили в том, что его совершенно не интересуют сегодняшние достижения в строительстве социализма.
Наш очерк не историческое исследование, но все-таки кое-какие приметы времени, в котором пришлось жить и работать Алексею Дмитриевичу Попову, надо бы знать и помнить современным молодым людям, художникам театра в первую очередь.
Да, действительно странная, фантасмагорическая была эпоха.
Во времена Попова такого понятия – «звезды» не было, а если и встречалось кое-где, звучало только иронически, только насмешливо, особенно в театре, какие же «звезды» в театре, основанном на принципах актерского ансамбля; так вот, наши нынешние «звезды» тщательно скрывают от своих почитателей адреса и телефоны, не дай Бог, кто узнает, и, разумеется, правильно делают. Ибо от нынешних почитателей, для которых придумано специальное словечко – фанаты, можно ожидать чего угодно и это что угодно будет, если выбирать слова, только неприятным.
Но театральный справочник за 1935 год дает адреса и телефоны абсолютно всех работников искусства Москвы – актеров, режиссеров, артистов цирка и эстрады, музыкантов, артистов оперы и балета, оркестрантов, администраторов, директоров. Это сегодня кажется невероятным, непонятным – любой мог взять, да и зайти к своему кумиру, ну если зайти не хватало духу, то позвонить. Непонятно, может быть, просто еще сохранялись в те времена какие-то представления о приличиях, сегодня их точно нет, ни представлений, ни приличий. Так что может быть это просто вопрос воспитания.
Попов Ал-сей Дм., засл. деят. иск. – Б. Левшинский п., 8-а, кв. 39, т. Г 3-68-17.
Нет, все-таки духу не хватает…
Люди категорического императива
Это очерк о русском советском художнике, выдающемся режиссере театра; и о его времени – оболганном и уходящем от нас все дальше и дальше, так уже далеко, в такие дальние дали, в почти забвение, что его уже как будто бы и не было.
А оно, это время, – было; без него не было бы и нас.
Если имя А.Д. Попова и известно сегодня узкому кругу нашей театральной молодежи, благодаря учителям, а иногда и собственной любознательности, то о времени, в котором ему пришлось жить и работать, она практически ничего не знает.
Вот поэтому время в некоторых его прекрасных и страшных проявлениях становится еще одним героем этого очерка.
Мы говорим очерка не из ложной скромности, просто это время, и эта колоссальная, на наш взгляд, фигура в нем требуют большого исследования и очень объемного разговора, на который сейчас нет ни сил, ни средств и времени не осталось. Время быстротечно, и хочется успеть сказать несколько слов о человеке, который одну из самых тяжелых эпох пережил хорошо – то есть, нравственно, ни в чем не поступившись художественно, ни в чем не солгав. Автор не историк, потому все его слова о времени – абсолютно субъективны и, наверное, для многих возмутительны, но все же не опрометчивы. Впрочем, наверняка многие из малого числа прочитавших эту книжку, с удовольствием поправят автора и ткнут пальцем в противоречия, но надо сказать, что и эпоха, которая предстает в некоторых своих изломах на страницах очерка, достаточно противоречива для того, чтобы о ней рассказывать гладко и беспристрастно.
Автор пишет по спирали – не надо смущаться кажущимися повторами некоторых тем, это не повторы в прямом смысле, это репризы, как они приняты в музыкальной форме. Иногда, правда, эти репризы возникают в неположенном месте, что ж, и такое бывало в истории музыки, даже у великих классиков, скажем, в уже упоминавшийся нами гениальной Четвертой симфонии, созданной как раз в ту эпоху, о которой у нас идет речь. О чем же говорить нам и что от нас требовать – мы подходим к репризе, как к приему, очень помогающему подчеркнуть еще раз ту тему, которая кажется нам очень важной, может быть, она станет важной и для читателя.
Еще и еще раз скажем о том, что нам нужно очень хорошо понять простую истину, что не мы – первые, что до нас было много сделано нашими предшественниками, что мы – совсем не без корней, корни наши уходят глубоко в родную почву нашего театрального искусства, в его истории были люди, которые трудились не покладая рук, чтобы мы сейчас просто могли существовать и иметь возможность творчества, свободного и, на что надо бы обратить особое внимание, осмысленного.
Молодые художники существуют сегодня в условиях абсолютной свободы, свободы, которая в известном смысле их опустошает и о которой даже мечтать не могли наши учителя, создававшие свои выдающиеся спектакли и роли почти всегда в условиях и обстоятельствах исключительно жестких.
Но как же эта свобода обязывает художника к мысли и правде; получается, что быть свободным от свободы невозможно. Свобода налагает обязательства, иначе она быстро становится несвободой.
Получается, что как только ты избавляешь себя от обязанностей, от обязательств – перед временем, людьми, в этом времени живущими, перед народом, в этом времени шевелящемся, вообще – перед человеком, это время олицетворяющим, вся твоя так называемая свобода оказывается всего лишь вседозволенностью.
И в этой вседозволенности ты несвободен и твоя свобода – призрачна, ты давно уже в кабале той «пены дней», берем название знаменитого романа Бориса Виана, которая чаще всего бывает отнюдь не белоснежной, в плену соблазнов времени, в том числе и финансовых, моды, разного рода течений, претендующих на века, направлений, разумеется, самых современных, деклараций самых смелых, всего того, в сущности, мусора, который на-гора выдает эпоха.
Наверное, лучше всего идти к пониманию свободы художника, так сказать, путем апофатическим, то есть путем отрицания того, что мешает быть свободным; надо освобождаться от шелухи разного рода, от мусора времени, проникая внутрь времени. Свобода – это постоянный процесс освобождения, она дорога к станции на горизонте, на которой никогда нельзя будет остановиться, поскольку никогда до этого горизонта не добраться. Но идти надо.
Эта книжка посвящена молодым, тем, кто хочет стать режиссером или уже начинает делать свои первые шаги в этой изумительно сложной и важной профессии. Но молодежь сегодня очень мало читает – не то, чтобы даже не хочет, просто не умеет читать, не научили в школе, дома.
Нет навыков чтения.
Как же быть?
Учиться читать, как бы это ни было трудно и поначалу – скучно. Учиться у гоголевского Петрушки: как он был рад, что, вот – буковка к буковке и какое же интересное слово получается. Надо сначала как Петрушка полюбить сам процесс чтения – глядишь войдешь во вкус, а там захочется и понять, что, собственно, слова означают, есть ли за ними мысль или нет ее. Впрочем, если захочется понять, что все-таки означают слова, так занятно складывающиеся из буковок, значит, есть мысль, есть то, что потом в театре Станиславский назвал подтекстом.
Чтение пробуждает мышление, диалог человека с книгой – это диалог человека с миром – его прошлым, настоящим и будущим. Чтение – это то, что, собственно, отличает человека от обезьяны, об этом прекрасно говорил С.Л. Капица, говорил с болью, еще десять лет назад о том, что страна перестала читать.
У А.Д. Попова был такой тезис об актере-мыслителе, позже мы поговорим об этом подробнее и подумаем о том, как важен для нашего сегодняшнего театрального процесса этот непривычный сегодня термин.
Актер-мыслитель – это пока еще все-таки, за редким исключением мечта; но кажется, что режиссер уж непременно должен быть мыслителем; всегда, во все сложные, а других-то и не было, времена нашего театра спектакли, которые подымались над своим временем, как бы перекатывались как волна через гребень другой волны в следующие эпохи, были созданы режиссерами-мыслителями, режиссерами, масштаб дарования которых определялся прежде всего мыслью, способностью к глубокому анализу времени, эпохи, а еще и способностью видеть, охватывать широкий горизонт событий эпохи.
Сейчас было бы неплохо, чтобы режиссер был хотя бы – мыслящим художником, может, потом станет и мыслителем, кто знает, но мыслящим художником должен быть, обязан, при всей мнимой или абсолютной свободе творчества. И тут без чтения не обойтись, правда, режиссерского чтения. Как когда-то говорил Г.А. Товстоногов – трудно читать, особенно диалоги – сразу же возникает мысль: какое событие происходит, каково ведущее предлагаемое обстоятельство, а природа конфликта и т. д., и т. п., так что не надо бояться трудностей чтения, даже великий Товстоногов, несомненно – режиссер-мыслитель, во многом в своей художнической деятельности наследовавший идеи, которые поставил и развивал в отечественном театре А.Д. Попов, говорил о трудности чтения.
К великому счастью для истории нашего театра, она совершалась людьми, большей частью подобными А.Д. Попову, подобными не всегда масштабами творческого дарования, но всегда, что сегодня выглядит едва ли не странным, наличием того трудно определимого, но тем не менее совершенно определенного свойства человека, которое называется совестью. И включает в себя многое, в том числе и чувство ответственности за свое дело, когда дело – любое дело, которое стало делом твоей жизни, нельзя прекратить ни при каких условиях, ни в каких обстоятельствах; и чувство долга перед своей эпохой, а стало быть, и перед своим народом, когда ты обязан только отдавать, а получать никак не можешь. Потому, как бывает, что получать – нечего.
Проблема совести художника занимает важнейшее, если не главное место в художественном мире А.Д. Попова, в его теории, педагогике и практике.
Мы редко об этой неудобной, раздражающей теме говорим, а надо бы. Надо бы, несмотря на абсолютно циническое отношение к этой теме сегодня, как это ни печально и со стороны художественной… нет, конечно, слово «интеллигенция» тут не подойдет, скажем так – художественной среды.
В самом деле, понятие совести художника, в наши дни не очень дискуссионное, за почти уже исчезновением самого предмета дискуссии. По умолчанию наличие совести вообще предполагается и в современном устройстве мира и общества, но на практике мир, в старом русском правописании с буквой i, к несчастью удаленной, как и некоторые другие замечательные буквы из русской азбуки, то есть мiр – общество, прекрасно обходится без совести. Что ж тут удивительного, где же ее взять? Где узнать, что это такое?
Моральный закон внутри нас, который так потрясал Канта, очарованного звездным небом, нынче все-таки несколько иной и как-то ловко умудряется быть бессовестным, оставаясь или, во всяком случае, называясь при этом моральным законом.
В этом законе сегодня так много дыр и прорех, столько щелей и лазеек, что считать его таковым можно только по названию, только потому, что у философов он идет по разряду «морали». Первые два принципа «нравственного императива» Канта и сегодня, впрочем, как это было всегда, хромают на обе ноги, а третий, гласящий, что человек не может рассматривать другого человека как средство для извлечения личной выгоды, практически никогда осуществлен не был, и нет никаких оснований считать, что он пригодится в скором и, несомненно, прекрасном будущем.
А ведь это и есть, пожалуй, самое главное в «нравственном императиве».
В наше время, время перехода ко всему лучшему, то есть повсеместной подмены ценностей, этот закон ничего кроме смеха вызвать не может – до такой степени основной девиз эпохи прямо противоположен. Тем большее для нас счастье, что в истории нашего театра двадцатого века, самого, наверное, страшного по нравственным и иным испытаниям для человека, были люди «категорического императива».
Моральное влияние А.Д. Попова на советский театр было огромным, и оно было благотворным, не только потому, что он был выдающимся художником, но еще и потому, что ему доверяли. А ему доверяли – он был, безусловно, человеком «категорического императива»; это знали все и поэтому, наверное, даже маститые режиссеры трепетали, когда в театре разносилась весть о том, что на спектакле будет А.Д. Попов. И дело было не только в том, что на спектакль придет выдающийся режиссер, большой мастер. Художник в нем был совершенно неотделим от его личности; что бывает далеко не всегда.
Между тем, что он делал и тем, чем жила по-настоящему его душа, зазора не было. Это все-таки редкое качество, такое единение внутреннего мира человека и его дела. Это как в старину иконы писали: личность одухотворяется своим делом, а дело становится непременным условием целостности человека. Думать, что это процесс тихий и радостный, наивно. Наверное, это процесс довольно мучительный – надо бы взять поправку на дух эпохи, чаще всего противоположный внутренним устремлениям художника. Это трагическая коллизия; как выйти из нее, не потеряв правды? Трудно. Тут нужна огромная сила воли, вера и трезвость взгляда на природу вещей. Блок об этом сказал в прекрасных стихах – «да будет взор твой тверд и ясен, сотри случайные черты, и ты увидишь – мир прекрасен». Но, как подумаешь о судьбе автора этих строк…
Со всем тем, скажем о том, что когда-то совесть русского художника была тем, что, собственно, толкало или, если угодно, обязывало его к творчеству, то есть – к труду определенного рода. Самому разному – литературному, живописному, театральному, музыкальному. Так же как обыкновенного человека к труду слесарному, столярному, плотницкому, сапожному, какому угодно труду… Разумеется, что и на Западе, многие художники были движимы этим чувством, но, пожалуй, только в русском искусстве оно стало самой главной основой творчества, непременным его условием, без которого невозможно само существование искусства.
Обостренное чувство справедливости, – да, это чувство в русской культуре было, может быть, несколько гипертрофировано. Но уж так повелось – со времен Рублева и великой книги протопопа Аввакума.
Вся великая русская культура была основана на этом понятии и, хотя никто не мог объяснить толком, что это такое – совесть, все знали, что это, когда она есть и когда ее нет.
Прочтите страницы две, да что страницы, как говорится, два абзаца начала «Воскресения» у Льва Толстого, и вы поймете, что этот человек был просто мучимым совестью. Некоторые строчки из его дневника невозможно читать без улыбки сквозь слезы, до такой степени они трогательны, как же он был пристрастен к себе. Безумно любил ездить верхом, обожал своего Делира и отказался от этой, как он считал, роскоши, совестно стало. А рассказ его о мальчике, который украл и съел конфетку, а потом повинился в этом и как все были счастливы, что он повинился, а больше всех сам мальчик. И ведь писал это – глубокий старик.
А Станиславский? Главный его труд «Этика» – разве не вопросы совести художника сцены он подымает на страницах этой небольшой книжечки (ее сейчас дарят студентам ГИТИСа, когда они поступают в институт, но они не читают); а в других его книгах, статьях, беседах с учениками – везде мы натыкаемся на этот очень неудобный вопрос, совесть художника.
А что такое «сверхзадача» Станиславского, откуда она берется, как возникает? Разве это рациональная вещь, разве это только умственное деяние, нет, она возникает изнутри художника, она продиктована его сердцем. Ведь сначала возникает замысел, он рождается от некоего внутреннего толчка, если угодно, от внутреннего душевного неудобства, это совестливый взгляд на мир толкает художника к творческому действию, замысел ищет пьесу, материал, этот замысел часто вовсе не есть что-то конкретное, рациональное – он почти всегда представляет собой сначала некий «смутный объект желания». Это потом, как говорил Станиславский, сверхзадача в процессе репетиций и труднейшего хода постановки спектакля начинает как бы пронизывать все его ткани, составлять его атмосферу, и только когда спектакль уже поставлен, она становится некой умственной формулировкой, приобретает качества понятия. И, кстати, тогда сразу многое теряет в своем обаянии, а стало быть, и в убедительности. Но для спектакля это уже не опасно – сверхзадача, настоящая, подлинная, живет в нем, в его атмосфере. Изначально же она – только движение души, она возникает из изменений биения сердца. И нет в этом ничего высокопарного – да, это такое искусство театр, как никакое другое оно связано с внутренней и физической жизнью человека. Актера, режиссера…