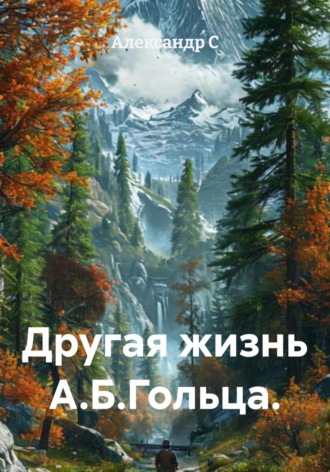
Полная версия
Другая жизнь А.Б.Гольца
Санечка недавно начал курить (Гольца даже передернуло от отвращения), потому что она тоже курила. И как хорошо было покурить вместе в полумраке за чашечкой кофе или ночью, лежа рядом на спине лицом кверху.
ННо в тот момент возможность покурить в тепле предоставляли только парадные старых доходных домов, в коих было тепло и пахло кошками. В одном из таких они обосновались, закурили и продолжали оживленно болтать. Кажется, именно тогда он рассказывал ей о зеркалах и колодцах, а, возможно, уже тогда историю про человека, живущего одновременно двумя или тремя жизнями, – книжку в этом роде он недавно прочёл.
Они не сразу заметили, как в парадную ввалилась эта компания – человека четыре, а когда заметили, оторвались друг от друга и отошли в сторонку – пусть ребята пройдут.
Ребята шли медленно и деловито.
Он не успел как следует их разглядеть, помнил только, что шапки-ушанки были надвинуты на глаза по моде тех лет. «Закурить не найдется?» – спросил один из них, глядя куда-то в сторону.
Санечка полез в карман, но сильный удар сбил его с ног.
Он успел встать а они наступали на него все так же деловито и молча
Он отступал вверх по лестнице – пачку с сигаретами он выронил, но они и глазом не повели. Инстинктивно он вытянул вперед левую руку, а правой держался за перила, с ужасом думая, что будет, когда они достигнут последнего этажа.
«С-сука», – с невероятной злобой сплюнув, процедил один из них, и Санечка понял, что им нужен он и только он со всеми потрохами.
Страх почти парализовал его, и это было самое подлое.
Где-то внизу девушка в желтом свитере кричала и просила о помощи.
Очнулся он окруженный какими-то людьми и почему-то на полу.
На него брызнули водой, его заботливо рассматривали – оказалась что ей удалось и привести подмогу и нападавшие мгновенно испарились
Так плохо ему еще не было никогда.
Они шли по почти пустой, застывшей от мороза улице, он облизывал разбитую губу и молчал.
Ничего страшного не успело произойти, но было тошно, очень-очень тошно.
«Спасибо выручила», – только это смог сказать он ей напоследок, но она только что-то промямлила в ответ. Прочего Гольц уже не помнил.
Он оказался трусом и слабаком – вот всё, что он мог вспомнить в последующие несколько недель.
Ему хотелось только одного – отменить это нелепое, мерзкое происшествие, забыть, вычеркнуть из памяти, уничтожить, но оно уже случилось, и с этим уже ничего нельзя было поделать.
Вся правда о нем вышла наружу, и ее уже было невозможно прикрыть никаким фиговым листком.
Словно разбилась окружавшая его система зеркал, и на мгновение он увидел себя настоящего, слабого, застигнутого врасплох, позорно бежавшего…
Утренний ветерок вывел Гольца из оцепенения.
С трудом стряхивая воспоминания, он шел вдоль гранитной набережной.
Ничего этого уже не было и никогда не будет. Ни Санечки Треплева, ни девушки в желтом свитере, ни того, что было потом.
Он был Гольцем, Александром Борисовичем Гольцем, основателем и главой Корпорации, это было непреложным, упрямым фактом здесь и сейчас. «Здесь и сейчас, – повторял он, – здесь и сейчас», а щеки его горели, как у Санечки Треплева, в растерянности бредущего домой по улицам ночного города.
…Пора было возвращаться.
Было 5 часов утра. Мост уже успели свести, группы гуляющих рассосались.
Гольц добрался до отеля без приключений, время от времени останавливаясь, чтобы полюбоваться проспектом, теперь уже почти пустым.
В холле отеля он заметил всё тех же из своей невидимой охраны – они сидели в дальних углах и делали вид, что дремлют.
Лифт не работал.
Поднимаясь по лестнице, он почувствовал легкий озноб. Он гнал его, а озноб не проходил, усиливаясь по мере того, как он поднимался с этажа на этаж, и на каждом из них он лицезрел свое отражение в зеркалах во всю стену.
Лестница показалась ему почти бесконечной.
Он еле добрался до номера и почти без сил лег поперек необъятной кровати на спину лицом кверху. А озноб и не думал отпускать. «Отвык от родного климата», – мелькнула утешительная мысль, но ему было не до утешений. Его колотило и ломало.
Он встал, достал из холодильника бутылку с каким-то крепким алкоголем, налил полстакана и выпил залпом.
Нет, не помогло: теплота хоть и разлилась по телу, но озноб не проходил, и теперь его бросало то в жар, то в холод попеременно.
«Из огня да в полымя», – вспомнилось ему, а в это время дверь тихо открылась (что за бред – он вроде бы закрывал ее на ключ), и в комнату совершенно бесшумно вошел кто-то. В темноте Гольц изо всех сил пытался его разглядеть, но не мог, а темнота вдруг наступила такая, какая бывает, когда ослепнешь, плотная, непробиваемая, неуязвимая.
«Знаю, дружище, что холодно, – сказал мягкий ласковый голос, – но ничего уж тут не поделаешь, потерпеть придется. За всё надо платить, а мы с тебя, дорогуша, недорого берем, уж больно ты нежен душой – беречь таких надо. Да не отвечай, не говори ничего – не в словах дело. Это напоминание – всего лишь напоминание – чтоб не забыл, откуда ноги растут, хе-хе-хе».
«Вон отсюда», – хотел крикнуть Гольц изо всех сил, но не смог выговорить ни слова – язык будто примерз к гортани.
Напоминание, дружище, всего лишь напоминание еще раз прозвучало в мозгу, и он наконец очнулся. Что это было? Что-то холодное и мокрое прилипло к спине. Его передернуло от омерзения. «Заболеваю», – успел подумать он и снова провалился в сон.
Ему часто снились брошенные людьми города: дождь хлещет по пустым окнам, ветер гонит по улицам газетные листы, а в супермаркетах догнивает, на радость крысам, никому не нужная снедь. Человеческий мир без людей, брошенный, разрушающийся, беззащитный – нет, он не хотел, чтобы это случилось, но и не мог избавиться от магии пейзажа, безлюдного и безмолвного.
Но сейчас ему приснилось нечто другое.
В результате почти безнадежных усилий ему удалось получить пропуск во тьму, доступную только мертвым теням, и разрешение обратиться с ходатайством к Князю. «Удача почти невероятная, – объясняли ему адвокаты. – Князь любит одиночество и никого не принимает. Разрешение, однако, означает некоторое сочувствие, некое высочайшее внимание, готовность выслушать, и было бы непростительной ошибкой упустить этот шанс».
И вот он уже спускался, вернее, летел в темную глубину к главному входу, к переправе, где свирепая стража безжалостно сортировала и отправляла по назначению вновь прибывших. Но всё это – потом. А пока – бесконечный одинокий полет в темноте неизвестности в слабой надежде на пробуждение в кромешной обволакивающей тебя пустоте. «Проснуться, проснуться, – приказал он себе, – проснуться во что бы то ни стало!»
. В солнечном луче, рассекавшем комнату, кружилась пыль
Который час ? Ого !
Мотор всегда включался в нем мгновенно – время!
Нужно же встретиться с этой… здешней пиарщицей…
Старый добрый лекарь – ледяной душ, и вот – он снова дееспособен.
За завтраком, прихлёбывая кофе, он с интересом присматривался к происходящему вокруг. Кафе было почти пустым, несколько посетителей, снующий между столиками официант, да пара парней из охраны у дверей.рошо быть незаметным, но замечать все.
Хорошо никого не знать и не быть узнанным.
Хорошо, когда каждый наступающий миг сулит новые повороты в игре , которая называется жизнью. Будем жить дальше, дольше и больше досточтимый Александр Борисович !
А, вот и она !
– Привет! Я Настя! От Сергея Петровича!
– Что ж, Настя, очень приятно, будем знакомы. Александр Борисович Треплев.
– А я думала приедет сам…
«Не смог, Настя, не смог, – рассмеялся Гольц. – Приболел. Вас, наверное, уже ознакомили с нашими правилами? И с условиями анонимности?»
– Да , разумеется. (Она слегка улыбнулась)
– Вот и хорошо. Чашечку кофе ?
– Не могу отказаться.
На вид ей было лет тридцать. В корпорации все знали, что Гольц терпеть не мог юных девушек. Возраст до двадцати пяти вызывал у него отвращение.
«Мы взрослая фирма, нам не нужны подростки, – повторял он время от времени. – До 25-ти они еще глупы. Потом некоторые умнеют. Но не все».
По возрасту Настя явно подходила. А дальше – посмотрим.
«Я уверен, Настя, что Вам уже рассказали, что надо делать», – сказал Гольц, широко улыбаясь.
– Да. Встречи, общение и, когда нужно, какие-нибудь слова от Вашего имени.
– И от имени Корпорации, Настя.
– Да, конечно.
– Вопросы?
=Жду Ваших распоряжений, Александр Борисович.
– А что там у нас в повестке?
– Сегодня звонили от губернатора, он бы хотел встретиться с Вами.
«Хорошо, – сказал Гольц, который терпеть не мог подобных встреч. – Мы выделим пять миллионов на создание юношеского культурно-спортивного центра. При условии, что там будут широко представлены наши программные продукты. И пусть об этом раструбит вся здешняя пресса».
– Нет, Александр Борисович. Не надо никаких предварительных заявлений. Пусть это станет очередной городской новостью.
Пожалуй, Вы правы, лучше я ему сам скажу. Устроим небольшой спектакль. Звоните в администрацию и договаривайтесь о встрече. На любой день, но лучше на завтра.
Вернувшись в номер, Гольц еще раз просмотрел ее досье. Место рождения – провинциальный городок в стране родных осин. Детство в розовом платьице опустим, перейдем к чудесным школьным годам.
Тут всё до боли знакомое: отличная успеваемость при более чем спорном поведении, неприятные вопросы учителям; к пятнадцати – «острый интерес к сексуальной проблематике» (ох уж этот старорежимный канцелярит, но, пожалуй, по нынешним временам – поздно), к 18-ти – стихи (ничего интересного – младая кровь играет); далее – по нарастающей: доносы, задержания, допросы; от сотрудничества отказалась (упёртая!), а дальше – обычные повороты: интерес к религии, список любовников (впечатляющий, но вряд ли достоверный), участие в ряде авантюр (уточнить позже) и, наконец, отъезд за границу с мужем-американцем.
Скорый развод (разумеется), и через несколько лет выныривает в журналистике. Официально – журналистка, но предположительно, только предположительно, работает на особые службы, возможно, здешние, возможно, тамошние, возможно, оттуда вычищена. Ну и повороты!
Пишет для журнальчика умеренно христианского, для домохозяек, однако популярного, возможно, прикрытие. (Зачем ты мне присылаешь всякую хрень, Петрович?)
Интерес ко мне? С какой стати? Искательница приключений? В своем роде? А мы при чем?
Вывод Петровича: будет полезна как пиарщица, а если окажется разведчицей – полезна вдвойне.
С двойным дном девушка c двойным дном А у нас тройное – знай наших !
Он снова почувствовал себя в своей стихии. стихии игры.
А во что играем – будущее покажет.
А теперь – на улицу !
Солнце сияло. Жизнь улыбалась Прогуливаясь по набережной он зашел в маленький ресторан на воде, как раз напросив крепости с которой некогда начинался город.. Хотелось просто посидеть и поглазеть вокруг.
Да, все было прежним и мощные крепостные стены и уходящий в небо шпиль и сквозной ветерок и плеск воды.
Так и прошел для него этот день, в бесконечном блуждании по городу, в бесконечном поиске знакомого в незнакомом, родного в том, что стало чужим.
К нему вернулось то, что он так любил когда-то: непредсказуемость каждого следующего мгновения.я
Как режиссер, который не любит смотреть свои фильмы, потому что хорошо понимает, как все это сделано, Гольц не любил погружаться в виртуальную реальность, столь успешно создаваемую им самим.
«Занятно, – думал он, – мы дарим людям множество виртуальных жизней, а я, хозяин всей этой мощи, ищу то, что случается только один раз и больше не может повториться».
Для того чтобы насладиться игрой, не нужно быть ее автором, эта мысль пришла ему в голову уже к ночи, когда он вновь оказался на набережной с желтыми фонарями.
Одиноко висели мосты.
Он вспомнил старый стих и поэта, которого уже никто не читал.
В знакомый до слёз город вернулся поэт, до припухших детских желез врезался этот город с фонарями цвета рыбьего жира в его память.
Так и он, одинокий путешественник, вернувшийся в родной город.
Этот город по-прежнему не отпускал его, а ведь он уже бежал отсюда когда-то. Бежал от этих осыпающихся стен, этой воды сверху донизу и сырости, пробирающей до костей, а главное – от воспоминаний, подстерегающих его на каждом уличном повороте.
И, как будто нарочно, чем больше ты хочешь бежать, тем больше этот город засасывает, как те болота, на которых он построен. !
И вот, совсем как юный Санечка Треплев, он бежал по мосту, чтобы не опоздать, забыв, совершенно забыв, что может вызвать и вертолет, если ему нужно будет переправиться на другой берег.
Однако вертолет мог вызвать А.Б. Гольц а Санечка Треплев – нет.
А мост тем временем ожил, мост угрожающе загудел и начал медленно подниматься.
На той стороне, едва переведя дух, он оглянулся. Темные крылья моста уже стояли почти вертикально, упираясь в небо.
Успел… С облегчением возвращаясь в настоящее, он двинулся по тротуару проспекта, удивительно пустого и тихого. Почему так пусто, удивился он… Ах да, ночь…
Пустой проспект! С увлечением и удовольствием разглядывая подсвеченные дома, он сделал несколько снимков. Где-то зарокотал вертолет.
«Ты что, дружище, службу пугаешь? – сказал Сергей Петрович, внезапно возникнув в телефоне. – Замаялись они с тобой, побежал, как сумасшедший, чуть с моста не свалился, романтик чертов!»
Чертов? – засмеялся Гольц. – Отстань. Я в отпуске.
Но Петрович уже отключил связь.
Недоволен. Ну и черт с ним.
. Под утро он проснулся от холода.
Оказалось, что он стоит в предрассветном сумраке у какой-то большой незнакомой реки и его разбирает дрожь
. Нет, совсем не простая это была дрожь, а та самая, давешняя, мерзкая, что заползает внутрь, заставляет зубы выстукивать барабанную дробь и в исступлении вытаптывать землю под ногами.
Он был не один, вокруг была даже толпа, он слышал голоса и жалобные вздохи, она была плотной, эта толпа, позже он стал различать и лица, искаженные страхом, но их странная особенность заключалась в том, что все они были прозрачны до такой степени, что сквозь одно лицо можно было увидеть другое, и не только увидеть, а дотянуться и дотронуться, они были проницаемыми и бестелесными.
Такими же были и тела, смутно дрожащие, бесконечно колеблемые ветром – целая вереница тел бредущих понуро и безнадежно.
Он брел среди них, брел вместе с ними, но явно от них отличался, время от времени кто-нибудь бросал на него испуганный взгляд, и это говорило о многом…
Так они и двигались вдоль берега, в толпе, а впереди в тусклом желтом свете фонарей маячил мост.
До моста добирались долго и с остановками. Наконец впереди показалось что-то наподобие шлагбаума и двух охранников в камуфляжной форме.
Рукава камуфляжа были засучены, и были видны их заросшие волосами вполне человеческие жирные руки. «Боже мой, кто это?» – только и успел подумать он, как охранник уже пристально смотрел на него.
«А это что такое? – рявкнул он. – Живой? Живые здесь не ходят!»
Гольц вспомнил первую задачу игры – убедить стражу в своем праве войти. У него есть пропуск, но, оказывается, этого недостаточно; пропуск всего лишь не запрещает, но решение впустить по подлым правилам этих мест принимает охрана, и только охрана.
Ну что ж, попробуй разжалобить этих славных ребятишек или – другой способ: умри, стань тенью среди теней, и проскочишь. Но не положено, не дано, время еще не настало, еще не напечатана бумага и не поставлена печать, а время идет… Впрочем, здесь нет ни времени, ни вечности, только холод и серая мутотень.
«А, – спохватился один из них, – блин! Мне говорили, этого надо пропустить, этот к самому Хозяину; сказали – доложить и пропустить!»
Его провели в какую-то комнату. В углу другие охранники разбирались с пьяной девахой , пахло водкой и мочой.
«Протокол, сейчас протокол составим, не боись, – добродушно сказал охранник, – а пока – девочку хочешь, хорошая девочка, только не в себе немножко!»
И он направил фонарик в ее пьяное заплеванное лицо.
«Да нет же, – пробормотал он, – (зуб на зуб не попадал от холода) не за этой, не за этой, моя не такая…»
Не такая? У нас тут все примерно такие… А какая, блин, разница? Ну не дуйся, не дуйся, мы всё понимаем… Любовь-морковь… Но пока бери эту, не брезгуй…
Девица пьяно и противно хихикала. Его стало мутить, он зажмурил глаза. Бред какой-то, когда же он кончится?
«Да не бред это, дорогуша, а другая жизнь», – хихикнул кто-то в тёмном углу.
Краешком сознания он понимал, что это всего лишь сон, но проснуться удалось не сразу. Было темно, шумел осенний дождь, привычный для этого времени и места.
Он взглянул на часы. Утро, восемь тридцать.
«Работаем», – приказал он себе, отряхиваясь от дурацких сновидений, которые в последнее время повторялись всё чаще и чаще.
«Дело прежде всего, – вспомнил он забавный рекламный слоган времен его юности. – Дело лечит. Всё прочее – дребедень».
Человек, которого нет
Своего раннего детства Гольц почти не помнил.
Иногда всплывали в его памяти несколько ярких пятен: совершенно удивительный велосипед, подаренный отцом, кубики, раскиданные на полу, да рыжая кошка, важно разгуливающая по комнате.
А еще – какое-то тревожное время, когда в доме появилась его тетка, а родители исчезли, и, как оказалось, навсегда.
Позже, когда уже нельзя было больше врать, ему рассказали, что родители погибли где-то далеко, в горах. Кажется, лавина. Или землетрясение. Или черт знает что.
Было время, когда Санечка много читал про этот до сих пор не разгаданный случай. Что-то на перевале. Очень странная смерть!
Загадочная! Страшная! Необъяснимая. Целая группа геологов! До сих пор не слишком ясно, как и что…
Тетушка рассказывала, что иногда он плакал по ночам и всё спрашивал, где мама.
Потом засыпал, ведь ответа всё равно не дождешься. Да и как скажешь пятилетнему ребенку, что мамы больше не будет никогда? И как объяснишь, что это такое – «никогда»?
Когда он думал про «никогда», ему представлялся колодец, в котором ты летишь вниз и всё ждешь удара об дно, а дна всё нет. И так, пожалуй, страшней, чем разбиться вдребезги.
Он был тихим ребенком и не доставлял пожилой тетке никаких хлопот.
Что может быть лучше, когда ребенок играет в кубики на полу, складывает их так и эдак, или возится с конструктором, рассказывая себе самому себе странные, понятные только ему одному истории?
Тетка кормила его, выгуливала, одевала, но воспоминания об этом времени начисто выветрились из памяти А. Б. Гольца.
Зато он довольно хорошо помнил свои первые дни в школе, потому что первый же день в этом заведении оглушил его.
На переменах из класса вырывалась оголтелая толпа мальчишек; по залам, где было предписано строго и чинно прогуливаться парами, катился спутанный клубок из голов и ног, причем головы и ноги время от времени менялись местами.
А он, тихий домашний мальчик, боязливо жался к стенкам и перилам.
Его пугало всё: и количество детей, собранных в одном месте, и то, что нужно как-то общаться с ними, сидеть с кем-то за одной партой, разговаривать с ними, играть и делать вместе множество прочих дел.
Это был «его класс», и в нем надо было как-то научиться жить.
Как оказалось, он не был силён в том, в чем преуспело большинство его сверстников: не умел драться, медленно бегал, не находил ничего интересного в том, чтобы дергать девочек за косы или прятать их портфели, но самое досадное – он боялся дать сдачи обидчикам.
«Дай ему в морду, дай ему в морду», – подначивали его, а он не понимал, как можно кулаком ударить по лицу или по зубам. Польётся кровь, выпадет зуб, будет подбит глаз, и в этом будет виноват он и только он!
Он не может дать сдачи – о, как быстро понимает то, что нужно, юная человечья стая! Стало быть, слабак, и над ним можно измываться, не опасаясь в ответ нарваться на кулак.
Кажется, именно тогда его стали называть Санечкой.
Еще немного, и он стал бы объектом всеобщей травли, презренным изгоем, оплеванным и загнанным в угол.
Но ему помогло то, что помогало всегда, то, чему в те годы еще не могли подобрать названия.
Санечка Треплев, совсем маленький еще мальчик лет семи, совершенно не обращал на них и на все их пакости никакого внимания. Они могли прятать его портфель, красть тетради или осмеивать его неумение бегать и драться.
Тогда он и сам не вполне понимал, как это случилось, просто в поисках спасения он целиком обосновался в каком-то другом мире, не слишком вникая в полную треволнений школьно-дворовую жизнь. И это был мир книг.
Он не просто читал, он поселился в этом мире он жил в другой жизни, и смотрел на все как бы из другого измерения.
Теперь ничего не удерживало его с ними, он присутствовал, но не был вовлечен, он возвел между собой и ими стену, прозрачную, но непроходимую.
В этом не было никакой заносчивости, он не претендовал ни на что в их мире, просто он жил в своем и относился ко всем со спокойным радушием-равнодушием.
Учился он без особого труда, всё усваивал на лету, а главное, с легкостью мог объяснить другим, что и как, хотя и делал это достаточно равнодушно, как бы из-за невидимой границы, однако без тени тщеславия.
Его недолюбливали, но с ним смирились и терпели как терпят жителя какой-нибудь далекой экзотической страны, оказавшимся здесь по недоразумению.
У него долго не было друзей и он спокойно обходился без них.
С Димычем он подружился в восьмом классе, Его недолюбливали, но с ним смирились и терпели, как терпят жителя какой-нибудь далекой экзотической страны, оказавшегося здесь по недоразумению.
У него долго не было друзей, и он спокойно обходился без них.
А потом он подружился с Димычем.
Скорее, Димыч с ним подружился, а Санечка ничего не имел против этой дружбы.
Димыч был тогда серьезным толстеньким мальчиком в очках, немножко даже увальнем.
Ходил он неторопливо и основательно, говорил медленно, но значительно. Что до серьезности, то здесь, разумеется, некоторую важную роль играли очки.Впрочем, не только!
Одноклассники уважали его за необыкновенную силу, он спокойно поднимал стул за одну ножку или какую-нибудь тяжеленную коробку с бумагами мог без особого напряжения перенести из кабинета в кабинет.
Но едва ли не самой главной чертой Димыча, помимо физической силы и безотказности, была справедливость.
Наблюдая за ним из своей хорошо укрепленной крепости, Санечка всегда поражался его постоянной и упорной борьбе за справедливость.
Чувство справедливости у Димыча было столь сильным, что он усматривал несправедливость там, где Санечка не видел ее напрочь.
«Ты посмотри, как это несправедливо!» – восклицал он, бывало, и Санечка поражался его проницательности.
Даже с Санечкой Димыч подружился скорее из справедливости.
Ему было обидно, что все как бы обходят Санечку стороной, в то же время без всякого стеснения пользуясь его светлой головой и замечательной способностью просто объяснять сложное.
И чтобы исправить несправедливость, он решил этому странному Санечке, одинокому и несправедливо обиженному, предложить свою дружбу.
Он был одинок, как и Санечка , но одиночество свое переживал тяжело. Если Санечку просто обходили стороной, то Димыча считали чудаком и втихомолку посмеивались над его жаждой справедливости.
Все, кроме Санечки.
Удивительно было наблюдать, когда они вместе шли из школы: один всклокоченный, размахивающий руками, забегающий вперед, вечно что-то доказывающий, а другой – идущий спокойно и ровным шагом, погруженный во что-то свое, и тем не менее время от времени бросающий короткие реплики в нужных местах разговора.
Они говорили обо всем, о чем говорят все умные мальчики в 14-16 лет, вернее сказать, говорил Димыч, а Санечка великодушно участвовал в разговоре, не покидая ни на минуту своей хорошо выстроенной крепости.
Гольц с улыбкой вспоминал эти дружеские беседы, в коих смешались юношеские эротические фантазии и революционные мечтания о некоем справедливом, гармоничном, высокоразвитом мире, где будет царить знаменитая триада тех лет: творческий труд, дружба и любовь.
Именно в то время, где-то на пороге их юности, и возник Космоград с его широкими улицами, тенистыми парками и научными центрами, где с утра до ночи придумывается нечто новое и доселе не бывшее. Тогда же они поклялись страшной клятвой, что не расстанутся никогда и обязательно построят этот город и этот космодром.
.И они навсегда поселятся в этом городе, и будут любить красивых и умных девушек, которые станут их женами. И у них будут дети, которые превзойдут их самих, и они будут дружить всегда, всегда, всегда.



