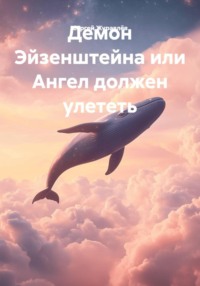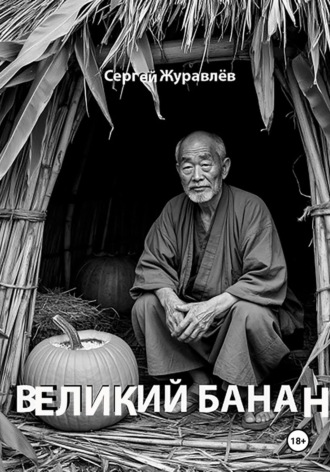
Полная версия
Великий Банан
И вот состоялась историческая встреча всяких бывших, громких диссидентов, брежневских политзаключенных, подзащитных самого Сахарова, народных адвокатов и прочих подрасстрельных персонажей и НКО – с одной стороны, и начальством из самых разных органов – с противоположной.
Встречались, как уже сказал, в музее ГУЛАГа. Поэтому одни как бы принимали, а другие – вроде как в гости зашли.
В общем, встретились, перетерли про общие и взаимные интересы. Про юридическую и материальную помощь. В первую очередь, конечно, оступившимся и невиновным или по превышению. Невиновных, кстати, и по превышению никакое начальство не отрицало. И те, и другие сошлись на цифре 30%.
Особенно, тюремное начальство кивало: «Что да, то да! Процентов где‑то 28‑32 – не наша клиентура» . И, мол, хватит их нам сюда запрессовывать, хватит.
Вообще, к ликованию правозащитников, никаких особых антагонизмов обнаружено не было. Ну, разве что по злоупотреблениям и превышению власти на стадии следствия.
Одни кричали: «Есть такая практика!» Другие уперлись – нету, и все тут. Ваше слово против нашего. И, вообще, какое это имеет отношение к процессуальному и пеницитарному кодексам?
К процессуальному и пеницитарному кодексам претензии имеются? Нет? Нет! А скоро они еще лучше станут! Так что расходитесь, господа‑граждане, и не мешайте работать. А то уже многие судьи даже стали возмущаться. Все обвиняемые поголовно жалуются на превышение во время следствия. А если ко всем применяется, что же теперь – все невиновные?
Тем не менее, сошлись на том, что человек – это такая скотина, дай ему власть и плоскогубцы, он будет пытать.
И так же как‑то незаметно сошлись на том, что наши тюрьмы и лагеря до сих пор находятся в ужасающем состоянии, оставленном нам в наследство.
Словом, пытались найти какие‑то параллельные линии и точки пересечения. Вроде бы все заинтересованы, и чего собачиться? Мы воспитываем, вы нам помогаете. Об чем речь граждане? С чужими, де, людьми море водки выпили, а со своими, можно сказать коллегами‑юристами, общего языка не найдем!
Тему языка тоже, кстати, затронули. Языка, гласности, общей атмосферы в стране. У нас есть «Взгляд», у нас есть Листьева. Листьева, правда, убили, но за то у нас есть «Куклы». Бодро так поговорили и перспективно.
– Пора! Давно пора, – вздыхали эмоциональные дамы за пятьдесят, пересаживаясь с места на место.
Заехал на огонек сам Явлинский, признался, не смотря на генеральские чины в зале, что, де, сам он, в сущности, и есть самый большой правозащитник. Привел доводы.
И вот сидит значит, и слушает все это один большой чин, а рядом с ним сидит один известный милицейский писатель‑публицист. А может, и не милицейский. Есть еще другой, точно такой же писатель, но не милицейский. По‑моему, вообще, братья. Но не однофамильцы, точно. Впрочем, не уверен. Брат Чубайса, журналист и правозащитник, точно был, а братья ли эти писатели, врать не буду. Может, и однофамильцы.
И вот один из братьев или однофамильцев «силой» затащил своего шефа на эту экспериментальную встречу.
Большой чин, хоть и поддался уговорам своего подчиненного писателя, но всем своим видом показывал, что он здесь по ошибке. Допустимо даже сказать – под конвоем водворен. В общем, ерзал на стуле, как подросток на дискотеке, у которого, к тому же, еще и ветрянка. И так же нехотя отрывал подбородок от груди и постреливал глазами по сторонам. Но, тем не менее, сидел, впитывал. Хотя и бурчал что‑то время от времени в адрес писателя.
А этот писатель, не помню его звания, московской скороговорочкой (не теряя при этом выправки) нашептывает шефу снизу‑вверх под каким‑то определенным субординацией углом к ушной раковине, что мол, Вы погодите, вашство, это, в принципе, ничего люди, они, но, так себе, но они ничего, они кое‑что даже дельное балакают…
А чин этот, колоритнейшая, надо сказать, личность. Сопел, он, значит, сопел, краснел, краснел, потел, потел, а потом, как привстанет, да как гаркнет, но не на весь зал, а вполголоса, на дальних рядах, конечно, не слышно было.
– Да ты куда МЕНЯ привел?! Ты чего не видишь – здесь одни евреи!
Но люди‑то кругом, извините, Чехова читали. Так что ничего не заметили.
Кончили и вовсе фуршетом с песнями, потому что бард Дулов с гитарой приходил.
Милиционеры некоторые тоже остались на фуршет. Милицейский писатель в первых рядах. Даже пел со всеми хором: «Ну, пожалуйста, пожалуйста, в самолет меня возьми…»
КАПРЕМОНТ
– Добрый день!
– Добрый день! Хотите к нам подъехать?
– Да, вот думал…
– Сейчас хотите подъехать?
– Через час, полчаса.
– Выбрали уже кого‑нибудь?
– Да, мне все понравились.
– Девушки у нас хорошие! (Перечисляет номенклатуру услуг). Девочки очень хорошие.
– Да, хорошие. Вижу.
– Вот Кристина – сейчас свободна. Очень хорошая девушка.
– Кристина? Да, вижу. Хорошая.
– Не пожалеете! Очень хорошая девушка. У нас все девушки хорошие. (Перечисляет номенклатуру услуг). На сколько времени планируете? Часа на два?
– На один. У меня – обед.
– А, ясно. Очень хорошо. Значит, через час полчаса мы вас ждем.
– М‑м‑да…
– Хотели бы еще что‑то уточнить?
– Да.
– Какие‑то особые предпочтения?
– Странный, понимаю, вопрос…
– Нет, нет. У нас каких‑то особых ограничений нет. (Перечисляет номенклатуру услуг).
– Это замечательно! Замечательно! А, скажите… У вас с горячей водой как?
– Водой? Вода – горячая.
– То есть она есть?
– Что? Вода?
– Горячая вода.
– Конечно! Вода? Разумеется, есть вода.
– Горячая?
– Разумеется! И горячая и холодная!
– Разумеется! И горячая, и холодная! Какая музыка грохочет в каждом слове! Каким свежим анапестом…
– Так мы вас ждем?
– Да, да, я скоро выезжаю. Вот сейчас и выезжаю. Значит, говорите, вода есть. И горячая, и холодная.
– Все есть. Да. Приезжайте.
– Не обещают отключить Нет?
– Нет, ну что вы, у нас вода всегда есть.
– Точно? И в августе?
– Ну, конечно! У нас все условия. (Перечисляет номенклатуру услуг).
– Это просто праздник какой‑то! А то с утра из тазика, вечером – из тазика, а весь день – таргетирование, модернизация, инновации, цифровизация, реновация… А может быть – модернизация реновации или цифровизация инноваций. Или таргетирование модернизации инноваций?
– Значит, мы вас ждем. Как ехать, знаете?
– Да, да, я тут в тактической близости. Я у вас уже был прошлым августом.
ИЗ ЖИЗНИ ИДЕЙ – SPIRITUS КЛАБ
Бар «От заката до рассвета». За столом – Достоевский, Ницше (в платье своей сестры Александры Фёрст Ницше), обгорелое тело Ефрейтора – он же Фредди Крюгер.
ЕФРЕЙТОР. Чаовэк! Один кофе и один булька. (Достоевскому) Наш золдатен говорить: ты есть швайн, ты жить плёхо, ты есть дикарь, ми делать культуришь в твоем доме, давайт сноубордирен унд лыжен, если ты будешь исполнять наш ордунг, то ты будешь иметь белый булька и балалайка, если нет, ты есть платить штраф.
ДОСТОЕВСКИЙ. Хитры вы, конечно, суки терракотовые, с подходцами вашими… Но ничего, Бог не фраер…
НИЦШЕ. Бог, Федя? Где Бог? Мы убили его! Все мы, вы и я. Самое святое и могущественное Существо, какое только было в мире, истекло кровью под нашими ножами – кто смоет с нас эту кровь? Какой водой сможем мы очиститься? Какие искупительные празднества, какие священные игры нужно будет придумать? (поднимает фужер) Слава Дионисию! (пьет) Эх! Лучшее лекарство от всех болезней!
ДОСТОЕВСКИЙ. Да, лекарство… и рулетка лекарство, и страдания лекарство… иногда, я вам скажу… и война – лекарство! Да, я вам так скажу: не в одном мире только спасение. (встает) И не верьте, господа, когда в войну все, встречаясь, говорят друг другу: «Вот несчастье, вот дожили!» Это лишь одно приличие. (трясет указательным перстом)
НИЦШЕ. (падает на колени перед Достоевским) Учитель! Перед именем твоим…
ДОСТОЕВСКИЙ. Что вы, что вы, голубчик, какой из меня учитель… Знаете, голубчик, ужасно трудно признаваться в иных идеях: скажут – ретроград, зверь из бездны, осудят.
Входит Хемингуэй. Он в кепке, надвинутой на глаза, в пиджаке с оторванным рукавом и чучелом собаки под мышкой.
ЕФРЕЙТОР. Фигасе!
ХЕМИНГУЭЙ. Фрэди, хай! Какие люди! И без петли на шее!
ЕФРЕЙТОР. В Бабруйск, жывотное!
Ницше, поправляя платье, быстро садится на свое место.
ДОСТОЕВСКИЙ. А я, государь, думал, вы, как и давеча, пьяненькой‑с лежите…
ХЕМИНГУЭЙ. (садится и сажает собачку на стол) Да ладно вам юродствовать, Достоевский, лучше дайте выпить человеку. Ба! И девочка‑скандал с вами! Возвращение блудной дочери? Леди и джентльмены, хотите купить что‑нибудь? Чучело собачки?
ЕФРЕЙТОР. Мой нет сил смотреть на сей!
ХЕМИНГУЭЙ. Ефрейтор, ахтунг! Когда ты купишь ее, ты в ней души не будешь чаять. Простой обмен ценностями. Ты даешь коронку какого‑нибудь узника Дахау, тебе дают чучело собачки.
ЕФРЕЙТОР. Сей нихт понимайт!
ХЕМИНГУЭЙ. Можешь расплатиться выпивкой. Нет? Ладно. Пусть будет, по‑твоему. Дорога в Дахау вымощена не купленными чучелами собачек. Не моя вина.
ЕФРЕЙТОР. Смишно! Валялсо пацтулом.
ДОСТОЕВСКИЙ. Я угощаю. (официанту) Голубчик!
Официант достает из кармана бутылку водки.
ЕФРЕЙТОР. А мой кофе з булька? Ацка сила, пицот минут!
ОФИЦИАНТ. Варится. Могу пока предложить мясо с кровью.
ЕФРЕЙТОР. Фью!
ХЕМИНГУЭЙ. Он растения ненавидит сильней, чем зверей.
ДОСТОЕВСКИЙ. А вам с чего это вдруг полюбились собаки?
ХЕМИНГУЭЙ. Всегда любил собак. Всегда был большим любителем чучел.
ДОСТОЕВСКИЙ. (умильно глядя на собачку). Это она ваш рукав погрызла? Цуцик такой! (Перестает наливать.) И вы (встает) …
ХЕМИНГУЭЙ. О боже! Дадут человеку выпить или нет? (забирает бутылку) У вас, Достоевский, больное воображение. А чучело я у Дуримара забрал. Этого, как его, собаку, забыл…
ДОСТОЕВСКИЙ. Сирина? Набокова?
ХЕМИНГУЭЙ. Второго – Набокова! Говорят, тоже пишет. Ничего не читал.
ЕФРЕЙТОР. Патамушта стихи.
ХЕМИНГУЭЙ. Правильно, ефрейтор!
ДОСТОЕВСКИЙ. Спасибо, брат! (пожимает руку Хемингуэю и заглядывает в глаза со значением)
ХЕМИНГУЭЙ. Предложил мне оставить от фамилии аббревиатуру из трех букв. Думает, я, как ефрейтор, до сих пор не наблатыкался.
ДОСТОЕВСКИЙ. Аристократ! Потому и хам‑м‑м!
ХЕМИНГУЭЙ. Я хотел его пристрелить, но вспомнил, что это запрещено законом. Тогда я два раза ударил его в челюсть со всего размаху. К счастью… (протягивая стакан).
ДОСТОЕВСКИЙ. Общак! (наливает)
ХЕМИНГУЭЙ. Дальше не помню.
ДОСТОЕВСКИЙ. Да вы и вправду довольно‑таки готовы.
ХЕМИНГУЭЙ. Несомненно, люблю выпить. Не мешало бы и вам, Федор Николаевич, попробовать. Ну и знакомые у вас! Что у вас с ними общего?
НИЦШЕ. Достоевский – единственный психолог, у которого я мог кое‑чему научиться. Знакомство с ним я причисляю к прекраснейшим удачам моей жизни.
ХЕМИНГУЭЙ. Это что, ваша знакомая? Мне обязательно с ней разговаривать?
Ницше отворачивается.
ДОСТОЕВСКИЙ. Не пейте больше, голубчик, прошу вас.
ХЕМИНГУЭЙ. Да ладно, шучу я. Вы оба такие милые. (хлопает Ницше по плечу) Так, значит, бэби, это Достоевский сбил вас с панталыка?
ДОСТОЕВСКИЙ. Ну, государь, тут другое, тут инстинкт. Все чувствуют, что делается шаг к чему‑то совсем уже новому, к чему‑то преломляющему прежнее надвое…
ХЕМИНГУЭЙ. А по мне так все это – дерьмо! Ну, за мир! За всех собачек, по которым мы промазали… Ваше здоровье! Эх, хорошо! Вот лучшее лекарство от всех болезней!
ДОСТОЕВСКИЙ. (поднимается) Совершенно напротив, совершенно обратно. Все великое, великодушное гибнет в периоды долгого мира, а вместо него являются цинизм, равнодушие, скука. В долгий мир социальный перевес всегда переходит на сторону всего, что есть дурного и грубого в человечестве, – главное, к богатству и капиталу.
ЕФРЕЙТОР. (встает) Для достижений сей цель эффрей выбираль любой средстфф!
ХЕМИНГУЭЙ. Миленькие у вас приятели, Достоевский… Особенно, паленый.
ДОСТОЕВСКИЙ. Они как все. Они только так себе. А так они – как все. Я и не с такими пайку делил… Да, вы в окраинах наших спросите коренное население: что двигает евреем и что двигало им столько веков?
ЕФРЕЙТОР. Фсе, што заставлять стремить золдатен к высший идеаль, стремится Kultur, префращается для эффрей средств удофлетворять свой алчность к деньг и булька.
ДОСТОЕВСКИЙ. Ну, это вы уже хватили, государь… И я, кажется, просил…
ЕФРЕЙТОР. Ви эффрейский вопрос есть поставлять… я есть оконшательно решайт…
ДОСТОЕВСКИЙ. Да я, сударь, написал это в шутку. Поднять такой величины вопрос не в моих размерах.
ЕФРЕЙТОР. О я, я! Никогда еще не быль совершен дело больше великий, и фсе, кто есть рождаться после, принадлежайт к истории фысшей, чем есть исторья!!!
ДОСТОЕВСКИЙ. (затыкая уши) Да не хочу я слышать эту вашу белиберду… Я давеча вам уже говорил… В сердце моем ненависти к евреям не было никогда! Слышите?! С себя это обвинение снимаю раз и навсегда, с тем чтоб уж потом об этом и не упоминать.
ХЕМИНГУЭЙ. Достоевский! Тебе уже говорили, что ты хороший малый?
ДОСТОЕВСКИЙ. Вовсе я не хороший! Вы презирать меня должны, руки не подавать своей старикашке грешному! Не исполнил ни одной из клятв своих! Ангелов, ангелов не пожалел… Жизнь, совесть, честь, любовь – все святое бросил в крутящееся пекло, перемешал с франками, талерами, слитками золота, тысячами, сотнями тысяч, может быть и с… миллионами… черт его ведает…
ХЕМИНГУЭЙ. Послушайте! Ерунда все это. Вы очень хороший, и никто на меня не действовал так, как вы. Знаете, из‑за чего началась война? Гитлер был влюблен в Сталина. Так же как Маннергейм. Рузвельт открыл второй фронт просто на пари. Все это – половой вопрос. Проект «Манхэттен» подстроен Лигой «сухого закона» . Леди Тэтчер и Горби – проститутки обе в душе! Продолжать?
ДОСТОЕВСКИЙ. Валяйте.
ХЕМИНГУЭЙ. Больше ничего не знаю. Остальное доскажу, когда принесут еще выпить.
НИЦШЕ. Ну вы и чучело! (Официанту) Чаовэк!
ЕФРЕЙТОР. Я тоже есть говорить: фу‑фу погром, оружие золдатен разум есть, цель золдаден – оконшательно решать эффрейский фопрос!
ДОСТОЕВСКИЙ. А я тебе, братец, на это скажу так: стать настоящим немцем, стать вполне немцем, может быть, и значит только стать братом всех людей…
ХЕМИНГУЭЙ. Кого вы пытаетесь переубедить? Этого чемпиона по геноциду?
ДОСТОЕВСКИЙ. Хемушка, я же просил: XIX век – пожалуйста, ХХI век – пожалуйста. O XX веке слышать ничего не хочу! (Хватается за голову) Совесть моя нечиста… Сбылись самые ужасные из пророчеств моих… А этот бесноватый дае меня удивил… (Сползает со стула.)
ЕФРЕЙТОР. Сей опять биться голова пол!
ХЕМИНГУЭЙ. Молчу, молчу… Я только хотел сказать, что маньяка… ну, хорошо, хорошо, бандита… ладно, этого набедокурившего политика ранга Наполеона… ладно, ладно, выдающегося менеджера можно переубедить только одним способом – крепко побив.
ЕФРЕЙТОР. Золдатен – побивать, золдатен – все равно заставлять исполнять ордунг. Деля Россия есть большой труба.
ХЕМИНГУЭЙ. Да, ефрейтор, вы можете пройти по России железной лавиной Ауди, Мерседес, ВМВ, но народ вам не покорить никогда.
ДОСТОЕВСКИЙ. Вот и у вас, государь, ручонки чешутся…
ХЕМИНГУЭЙ. Да потому что они у меня по локоть в крови! (Собачке) Не бойся, vieux*. Я тебя не трону. Бойся свиней, которые затевают войну и думают только об экономической конкуренции. Зато те, кто сражается на войне, – самые замечательные люди, старина, и чем ближе к передовой, тем более замечательных людей там встречаешь.
ДОСТОЕВСКИЙ. Как это верно, голубчик, как верно! Сибирь и каторга! Я только там, голубчик, Христа понял… русского человека понял… Ах, если бы вас на каторгу!
Достоевский наливает Хемингуэю и себе. Ницше показывает, что у него есть.
ХЕМИНГУЭЙ. Вот теперь вы молодец! Вам бы еще пару контузий, vieux. (Показывает нашивки за ранения)
НИЦШЕ. Созрел тост! (Встает)
ЕФРЕЙТОР. Хэлё, русланд мафия! Кофе, шнелле!
НИЦШЕ. Во время кампании 1865 года я… я был под Садовой… Как изменилась моя душа! (Рвет с себя платье, от которого, впрочем, остается кружевной воротничок) Я стал мужем среди мужей, немцем, гордым своей родиной. Только война способна преобразить человечество, только она может поселить в нем стремление к героическому и высокому. Лирические поэты и мудрецы, непонятные и отвергнутые в годы мира, побеждают и привлекают людей в годы войны: люди нуждаются в них и сознаются в этой нужде. Необходимость идти за вождем заставляет их прислушиваться к голосу гения. Ну, за все, что нас не убивает! Слава Дионисию!
ЕФРЕЙТОР. Кросафчег! Я плакаль, господа… Lieber, Lieber Фридрих!.. Я получаль железный крест мой бедная юношть… Перед лисцом сей великий тшель никакие жертфы не есть слишком польшой.
ДОСТОЕВСКИЙ. В долгий мир и наука глохнет. (Пьет)
ЕФРЕЙТОР. Я есть говорить о мир, имея такшический цел. Дыск пацифишн запылэн со страшной сылой!
ХЕМИНГУЭЙ. Как наш ангел мира‑то заговорил!
ЕФРЕЙТОР. Болше и болше насилия есть! Эй, бабка, кура, млеко, яйки, партизанен!! Satan, Satan, Sieg Heil! Sieg Heil! Satan, Satan! Оi oi oi Satan, Satan! Nicht Kapituliren, Sieg Heil!
НИЦШЕ. Завел свой хип‑хоп!
ДОСТОЕВСКИЙ. Это у него – всегда так неожиданно начинается.
ХЕМИНГУЭЙ. Какая гадость! Какая гадость… эта ваша философия, девчонки… (Закручивает содержимое по часовой стрелке и вливает в горло) Вот что, ефрейтор… А собачку я тебе не дам!.. (Отнимает собачку) Не верю я в твое вегетарианство!
ЕФРЕЙТОР. Твой пьян!
ХЕМИНГУЭЙ. (собачке) Да, я пьян, vieux. Я здорово пьян. Черт, ну и накачался же я! Я плохо разбираюсь в науке о питании, да и не люблю ее. Но что такое фашизм, я знаю, старина. Фашизм – ложь, у него нет будущего, и когда он уйдет в прошлое, у него не будет истории, кроме кровавой истории убийств.
ДОСТОЕВСКИЙ. Я же, кажется, просил…
ХЕМИНГУЭЙ. Я только пытаюсь донести до собачки простую мысль о том, что те, кто наживается на войне и способствует ее разжиганию, должны быть расстреляны в первый же день военных действий доверенными представителями честных граждан своей страны, которых они посылают сражаться.
ДОСТОЕВСКИЙ. Меня один раз тоже чуть не расстреляли…
ХЕМИНГУЭЙ. Один раз не считается.
ЕФРЕЙТОР. (строго взглянув на Ницше и гладя по руке Достоевского) Мироффой эффрейство и его приспешник есть благодарин.
ХЕМИНГУЭЙ. Да, кстати, если найдутся доказательства, что я сам каким‑либо образом повинен в начавшейся бойне, – пусть и меня, как это ни печально, расстреляет тот же стрелковый взвод, а потом пусть меня похоронят в целлофане или без, или просто бросят мое голое тело на склоне горы.
ЕФРЕЙТОР. Карашо сей казаль!
ДОСТОЕВСКИЙ. Ну, это уже, извините, Толстой какой‑то…
НИЦШЕ. Не к ночи будь помянут…
ХЕМИНГУЭЙ. Толстой был храбрый артиллерийский офицер. А что вы, Федор Иванович, знаете об этом непрекращающемся, наглом, смертоубийственном, грязном преступлении без наказания, которое представляет собой война? Когда миллионы таких вот, в серых мундирах, налетают на сонные города, как саранча…
Достоевский бледнеет.
ЕФРЕЙТОР. Он плиохо будейт!
Тут все оборачиваются и видят истинную причину припадка Достоевского: входит НАБОКОВ.
НАБОКОВ. Кто налетит, вы сказали?
ХЕМИНГУЭЙ. (выходя из‑за стола) Кузнечик. То, что мы в Америке называем кузнечиком, – это та же саранча.
Хемингуэй подходит к Набокову и наносит ему в челюсть сначала хук слева, а потом хук справа.
НАБОКОВ. (устояв на ногах) Любопытно, коллега! (Бьет Хемингуэя кулаком в грудь, а потом чуть ниже глаза)
ХЕМИНГУЭЙ. (потирая глаз) Настоящий кузнечик маленький, зеленый и довольно слабенький. Его не надо путать с саранчой или цикадой, которая издает характерный непрерывный звук, сейчас только я не могу вспомнить какой.
НАБОКОВ. Постарайтесь, пожалуйста…
ХЕМИНГУЭЙ. (обходя Набокова по кругу) Стараюсь вспомнить и не могу. Мне уже кажется, что я его слышу, а потом он ускользает. Вы меня извините, джентльмены, но я прерву наш разговор.
Хемингуэй наносит Набокову длинный боковой удар левой.
Набоков хватается за его пиджак и отрывает второй рукав, а Хемингуэй бьет его два раза по уху левой и потом, оттолкнув от себя, наносит прямой удар правой.
Набоков садится на пол.
ЕФРЕЙТОР. Зочем твой травите пейсателя?
ДОСТОЕВСКИЙ. А теперь заплачьте и обнимитесь.
ХЕМИНГУЭЙ. Я не плакал, когда оконная рама упала мне на голову, не плакал, когда Бэмпи ткнул меня пальцем в глаз…
ДОСТОЕВСКИЙ. Видно, что вы были серьезно ранены.
ХЕМИНГУЭЙ. В разные места. Если вас интересуют шрамы, я могу показать очень интересные, но я предпочитаю продолжить о кузнечике. То есть о том, что мы у нас в Мичигане называем кузнечиками, а на самом деле это саранча. Это насекомое одно время занимало большое место в моей жизни. (Набокову) Возможно, вам это тоже будет интересно…
Набоков отрицательно качает головой.
ХЕМИНГУЭЙ. Что‑нибудь имеете против меня и моего друга?
НАБОКОВ. Против тебя нет. Всемирно известный американский писатель и прогрессивный общественный деятель, лауреат Нобелевской премии.
ХЕМИНГУЭЙ. А моего друга?
НАБОКОВ. Великий правдоискатель! Гениальный исследователь больной человеческой души…
ХЕМИНГУЭЙ. Давно бы так… Вы уж простите меня, старина… Это начинается всегда так неожиданно…
Набоков кивает.
ЕФРЕЙТОР. Я тоже есть получать контузия Первый мировой, но я не биль дикарь! Сей быль зутулый штудент. Я есть уважать культуришь! (Тыкает себя пальцем в грудь).
ДОСТОЕВСКИЙ. (Хемингуэю) Давно это у вас?
ХЕМИНГУЭЙ. С той ночи под Сомой, когда меня оглушило взрывом…
ДОСТОЕВСКИЙ. Каторга лучше.
ХЕМИНГУЭЙ. Куда лучше, старина. Когда человек едет на фронт искать правду, он может вместо нее найти смерть.
ДОСТОЕВСКИЙ. Нет, я жизнь люблю! Слишком уж жизнь полюбил, так слишком, что и мерзко. Клейкие весенние листочки, голубое небо люблю я, вот что… Тут не ум, не логика, тут нутром, тут чревом любишь… Понимаешь ли ты что‑нибудь в моей ахинее, Хэмушка, аль нет?
ХЕМИНГУЭЙ. Слишком понимаю, Федор Михалыч, нутром и чревом хочется любить, прекрасно ты это сказал… Но зато, когда на войну едут двенадцать, а возвращаются только двое, правда, которую они привезут с собой, будет действительно правдой, а не искаженными слухами, которые мы выдаем за историю.
Набоков встает, потирая челюсть, прислушивается к разговору, зевает, потом, заглянув под стол и тихонько свистнув, медленно уходит, унося с собой рукав Хемингуэя.
НИЦШЕ. Необходима новая совесть, чтобы расслышать истины, прежде молчавшие.
ЕФРЕЙТОР. Совешть выдумка эффрей есть!
НИЦШЕ. А я думаю, что немцы вошли в ряд одаренных наций лишь благодаря сильной примеси славянской и еврейской крови.
ЕФРЕЙТОР. (садится) Саша не слишать сей! Зер гуд!
НИЦШЕ. Сестра всегда была шовинисткой. Она и меня не переставала мучить и преследовать… (Отрывает кружевной воротничок.)
ЕФРЕЙТОР. О сестре! Майне Гот! Бедный, бедный Фридрих. Крыша совсем есть съезжать!
НИЦШЕ. Проклятое антисемитство стало причиной того, что Саша так и не вышла за меня.
ХЕМИНГУЭЙ. Черти… Голова у меня от вас раскалывается.
НИЦШЕ. Беги, мой милый Хем, в свою финку Вирджинию: я уже вижу тебя искусанным ядовитыми кузнечиками. Ты жил слишком близко к маленьким жалким насекомым. Они – бесчисленны, и не твое назначение быть сеткой для саранчи…
ХЕМИНГУЭЙ. И то верно! Решено! Едем на Кубу… И Фредди возьмем. Достоевский про Карамазовых что‑нибудь еще, это… (Делает боксерский жест.)
ДОСТОЕВСКИЙ. Ничего, ничего, голубчик! Съешьте супцу… Карамазовы… эта книга… Она так много для меня значит…
ХЕМИНГУЭЙ. Вы в ней совсем другой…
ДОСТОЕВСКИЙ. Так это же роман провинциальный, а мысли военные – все больше городские, журнальные мысли, да и не мои это вовсе мысли…
НИЦШЕ. Чьи же?..
ДОСТОЕВСКИЙ. Все дело в том… Есть у меня один знакомый парадоксалист. Я его давно знаю. Это человек совершенно никому не известный и характер странный: он мечтатель. Он защищал войну вообще и, может быть, единственно из игры в парадоксы. Я, конечно, с ним не спорил… С мечтателями спорить нельзя.
ЕФРЕЙТОР. Славянишь швайн не есть хранить верность свой убеждения! Я есть быть предан.
ДОСТОЕВСКИЙ. Недостаточно, сударь, определять нравственность верностью своим убеждениям. Надо еще беспрерывно возбуждать в себе вопрос: верны ли мои убеждения? Проверка же их одна – Христос…
ЕФРЕЙТОР. Бог сей видит и сей знает!
НИЦШЕ. Я тоже боюсь, что за наши чудесные национальные победы мы должны будем заплатить такой ценой, на которую я никогда не соглашусь. Культура не сравнима ни с чем, даже с самыми героическими военными подвигами, с самым высоким национальным подъемом.