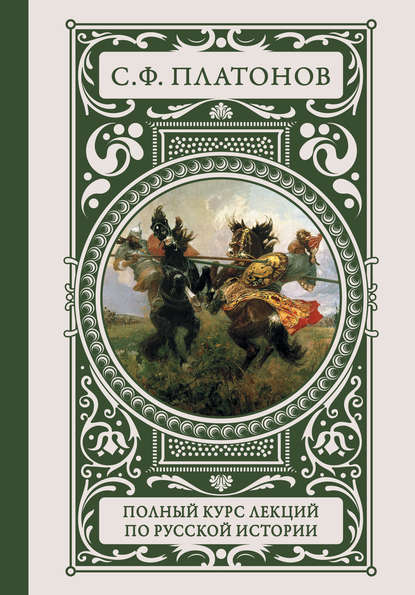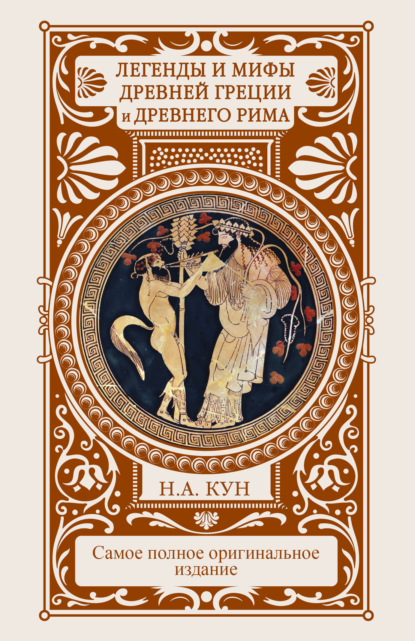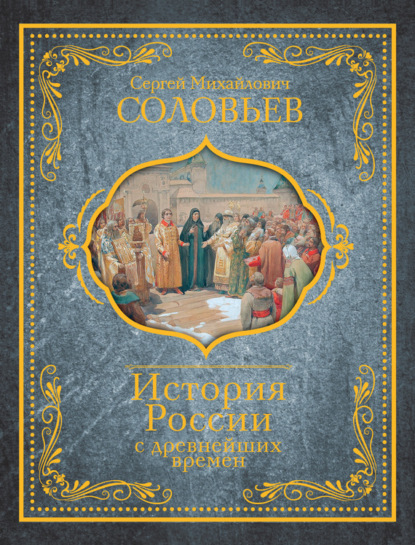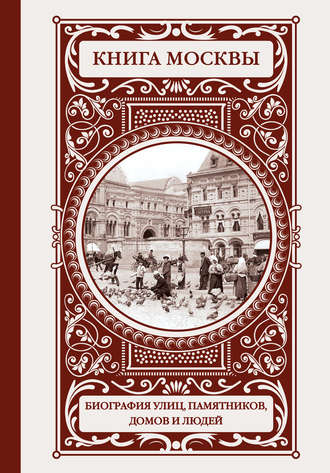
Полная версия
Книга Москвы: биография улиц, памятников, домов и людей
Ровно 20 лет – почти половину недолгой по нашим меркам жизни – основоположник критического реализма, как называли его советские учебники литературы, был связан с Москвой. Впервые приехал в 1832-м, был восторженно принят в писательско-актерской среде и навсегда полюбил этот город, к концу жизни определив, что здесь и в Риме только и можно жить. «Московских» повестей, в противоположность «Петербургским», он не написал, но сравнивать города – сравнивал, и Москва получалась безалабернее, но роднее. Москва – по Гоголю – женского рода, Петербург – мужского; Петербург – совершенный немец и так же расчетлив, а Москва – русский дворянин и не любит середины. «Она всегда едет, завернувшись в медвежью шубу, и большей частью на обед, он, в байковом сюртуке, летит во всю прыть на службу».
В 1909 году, к 100-летию со дня рождения Гоголя, недалеко от дома № 7а по Никитскому бульвару, где прошли последние четыре года его жизни и где за 10 дней до смерти в камин полетел второй том романа «Мертвые души», на Пречистенском бульваре, по которому так любил гулять Николай Васильевич, ему поставили памятник работы Николая Андреева. В честь закладки памятника городской голова дал обед. В меню было: бараний бок и арбуз в 700 рублей, бургуньон с шампиньоном и лабардан – кушанья, так смачно описанные в гоголевских произведениях.
Кстати сказать, памятник Гоголю был еще немножко памятником и другому московскому литератору – Владимиру Гиляровскому, которого Андреев изобразил на барельефе Тарасом Бульбой. Тогда же, в 1909-м, к юбилею изготовили матрешку в виде городничего, внутри которого, один в одном, поместились все герои бессмертного «Ревизора», – точь-в-точь матрешки, изображающие президентов, что наводнили в наши дни киоски на Арбате.
В 1952-м, к 100-летию смерти, грустного нахохленного Гоголя задвинули во двор того самого дома № 7а, где он прожил последние тяжелые годы в приступах черной меланхолии. На его место поставили соответствующий будням великих строек памятник работы Томского. Нелепо смотрятся рядом с дубоватым официозным монументом фонари со львами, в стиле модерн, так подходившие к прежнему памятнику.
Грустно, но надо написать, что двигали не только памятник писателю. Тревожили и его прах: в 1930 году Данилов монастырь закрыли, а монастырское кладбище уничтожили. Лишь несколько захоронений перенесли на Новодевичье кладбище. Так что если захотите поклониться праху Гоголя – езжайте туда.
Геликон-опера
Театр вдохновения
Уж если и связывать название русского оперного театра с музыкальным инструментом, так только с геликоном. Ни гудки-жалейки, ни гусли-балалайки, ни кувиклы позабытые никак музыкально со строгой оперой не сочетаются. А уж про языковое сочетание мы и не заикаемся. Только представьте себе – Театр «Гармошка-опера»… Н-да… Да и гармошку, гармонь, если правильно, культурненько так выразиться, сконструировал вовсе не русак, а немецкий мастер К.Ф.Л. Бушман (в 1822 году). А геликон – вот он родом из России. Эта разновидность басовой и контрабасовой трубы (то есть гудит громче и басовитее всех остальных инструментов) сконструирована у нас в первой половине XIX века. А на каких еще пространствах такой звук надобен? Название у инструмента весьма символичное. На греческой горе Геликон паслись музы и черпали вдохновение (для последующей раздачи всем творцам) из бившего там источника Гиппокрена, дословно – Лошадиного источника, но не оттого, что компанию музам составляли непарнокопытные, а оттого, что забил сей ключ от пегасьего удара копытом.
Так что имя у московского театра «Геликон-опера» дважды достойное. И Дмитрий Бертман со товарищи вовсю стараются имечко не ронять. С вдохновением там все в порядке, с музыкальной культурой тоже. И даже кулинария на уровне. При чем здесь кулинария? А вы сходите послушать «Кофейную кантату» Баха – поймете. И текст на немецком языке, кстати, тоже. Это ведь еще и язык музыки. Вдохновенной, от Геликона и «Геликона».
Гостиницы
Место для гостя, или Каждому гостю по мягкому месту
Не сердитесь, но опять начнем с происхождения слова. Гостиница – это от слова гость, а гость – это купец (помните у Пушкина «Сказку о царе Салтане»?). И вот парадокс – слово «гость» древнее, а гостиниц-то до XVIII века и не было. То есть, конечно, было где остановиться: на постоялых дворах там или монастырских подворьях, но слова «гостиница» в ходу не было. Первые гостиницы (именно гостиницы!) для заезжего торгового люда построили в Москве на рубеже XVIII и XIX веков по проекту архитектора Василия Стасова. Было их четыре, все располагались на Бульварном кольце. Так вот, одна из них до сих пор стоит там, где стояла, – на площади Покровских Ворот (правда-правда, даже доска соответствующая имеется). Только там уже никто не останавливается. Слава богу, мест в московских гостиницах (всех и не перечесть) теперь хватает – не советские времена. При желании даже с московской пропиской (простите, с регистрацией, конечно) можно снять номерочек на часик-другой, никто не взволнуется, только денежки уплати. Ну, а их-то за постой извека требовали.
Гренадерам – героям Плевны
Чугунная часовня
В череде самых разнообразных московских памятников памятник-часовня Гренадерам – героям Плевны все равно выделяется. И тем, что построен на народные деньги (солдаты и офицеры Гренадерского корпуса собрали 50 тысяч рублей), и тем, что имеет (а точнее, имел), так сказать, утилитарное значение – молились там, – и материалом, из которого сооружен: чугун для здания материал все же необычный. А вот тому, что сейчас внутрь не пускают, что пропали изразцовые интерьеры и лики святых, удивляться не приходится. Была бы часовня деревянной – мы бы ее, скорее всего, вообще не увидели. А сейчас она опять на службе – на церковной: два раза в год в ней поминают погибших героев.
Гнесины
Семейное дело
Статья «Гнесины» в энциклопедии «Москва» находится на 217 странице, на букву «Г», а главное дело жизни этой семьи – «Гнесинка» – на странице 695, на букву «Р»: «Российская академия музыки». Но пышный титул и крупные прописные буквы весят не больше меленько дописанного «имени Гнесиных». Есть, знаете, такие имена, что сами себе – звания.
Русской культуре с семейством Гнесиных несказанно повезло. Невероятно здорово, что не один, не двое, а целых шесть членов этой семьи служили музыке – пять сестер и брат. Редкая удача, что из Ростова-на-Дону, где все они родились, они перебрались в Москву в середине 80-х годов XIX века. Случись их жизнь веком позже – и не видать бы нам Гнесинки, как Сорбонны: по лимиту в Москву пускали строителей и прядильщиц, но не музыкантов. На удивление, у Елены Фабиановны оказался не только музыкальный и педагогический дар, но и недюжинные организаторские способности и нечастый талант заражать идеей начальников. А как бы иначе основанное в 1895 году Музыкальное училище Е. и М. Гнесиных (под буквой «Е» скрывается не одна Елена, а еще и Евгения, а «М» – это Мария) пережило революцию, расширилось и при поддержке Луначарского и с какого-то боку еще Ворошилова преобразовалось в детскую музыкальную школу и техникум? Частными эти учебные заведения быть, конечно, перестали, но имя Гнесиных сохранили.
А почти двадцать лет спустя, в 1944 году, неугомонная Елена Фабиановна основала и высшее музыкальное учебное заведение – Государственный музыкально-педагогический институт своего и брата-сестер имени и на восьмом десятке лет возглавила всю эту музыку. К этому времени ни Марии, ни Евгении уже не было в живых, но Ольга, Елизавета и Михаил продолжали работать с сестрой и под ее началом. Елена Фабиановна пережила их всех и до девяноста с лишним лет, до самой кончины, продолжала руководить своим многоступенчатым детищем.
Грачевка
Казино на Октябрьской дороге
Чтобы сделать рагу из зайца, говорят французы, надо иметь хотя бы кошку. Чтобы увидеть казино в Монте-Карло, достаточно поехать… нет, не в Монте-Карло, а в Ховрино. Это, если кто не знает, последняя в черте Москвы остановка электрички на Октябрьской дороге. Можно, конечно, и от метро «Речной вокзал» добираться, но это не так удобно.
Откуда на краю Москвы взялся кусок Средиземноморья? Объясняем: вовсе даже и не на краю Москвы он завелся, а в глухом Подмосковье. История тут длинная. Чтобы нас не засосала опасная трясина исторических изысканий, изложим ее пунктиром. Крымский грек Стефан Ховра прибыл в Москву при Дмитрии Донском. Сын его получил во владение землю на реке Лихоборке и основал там село Ховрино. Так бы и жили себе поживали в московской истории бояре Ховрины, если бы не правнук крымского грека. Может, от большого ума, а может, из-за особенностей внешности, его прозвали Головой. От этого Ивана Владимировича пошли разнообразные Головины, щедро украсившие своей фамилией карту Москвы: тут и Головинские пруды, и Головинское шоссе (все там же, по соседству с Ховрином), и Головинская набережная в Лефортове. Последняя, кстати сказать, носит имя самого известного Головина, первого рыцаря первого российского ордена Андрея Первозванного, «птенца гнезда Петрова» Федора Алексеевича.
С Грачевкой Головиных роднит не только первая буква. Правда, если уж быть точными, от их пребывания в усадьбе не осталось практически ничего: даже Знаменскую церковь, выстроенную этим семейством, один из следующих владельцев перенес на новое место. До самого конца XIX века бывшая усадьба Головиных-Ховриных меняла хозяев, как капризная кинозвезда мужей, пока ее не купил Митрофан Семенович Грачев и не перестроил на манер казино в Монте-Карло. Мы бы долго гадали, что за причуда вышла у купца первой гильдии – жить в доме, копирующем казино, если бы не выяснили, что своим богатством Грачев как раз и обязан игорному дому в Монте-Карло. Послушный архитектор Лев Кекушев возвел с небольшими отступлениями от оригинала абсолютно узнаваемую копию, которая до самой революции будила в хозяине теплые воспоминания.
Герасимов
Творец лиц
Вы видели лицо Ивана Грозного? Не того, каким его представил Репин в момент сыноубийства, а настоящего. Не может никто такого, скажете, даже техника живописцев в те времена не позволяла достичь портретного сходства. Это вы про Михаила Михайловича Герасимова забыли, про автора, научно выражаясь, метода пластической портретной реконструкции. С 13 лет любимой работой (именно работой!) Миши Герасимова было посещение анатомического музея. Нашлись добрые и умные учителя – поощряли нестандартное любопытство. В 20 лет начались пробы реконструкции лица по черепу. За долгие годы методика была отработана так, что сомневаться не приходится: то, что вышло из герасимовских рук, – это портрет настоящего Ивана Грозного. Почему мы про Герасимова в «Книге Москвы» упоминаем? Да хотя бы из благодарности, что есть такой метод и можно «взглянуть в глаза», например, тому же Ивану Грозному или Андрею Боголюбскому, адмиралу Ушакову, Улугбеку, Тамерлану.
С Тамерланом у Герасимова вышла отдельная история. Железный Тимур-Тамерлан, победитель Золотой Орды, разрушитель стран и погубитель народов, был похоронен в мавзолее Гур-Эмир в Самарканде. Много веков из поколения в поколение передавалась на Востоке легенда о том, что вскрытие усыпальницы полководца Тимура разбудит его дух и обернется великой войной. В начале февраля 1941 года Герасимов не устрашился мифа и начал в гробнице раскопки. Трудно поверить, но места упокоения Тамерлана он достиг рано утром 22 июня.
Портрет Ивана Грозного Михаил Михайлович мечтал сделать много лет. Обращался к Сталину, но тот отговорился, что не время – идет война. А после смерти отца народов в Кремле затеяли строить Дворец съездов и нарушили водный режим Кремлевского холма. Пришлось укреплять Архангельский собор, тут и разрешили заодно вскрыть гробницу Ивана Грозного. На скульптуре заметна характерная одутловатость: Герасимов диагностировал у усопшего царя водянку.
Грузинские улицы
Московский Кавказ
Совершенно необязательно знать, что в начале XVIII века в Москву бежал от турецких и персидских захватчиков грузинский царь Вахтанг VI. Абсолютно лишними для большинства являются сведения о том, что вместе с ним в старую столицу России приехала большая семья и огромная свита. Совсем неважно, что село, которое подарили Вахтангу Левановичу для размещения всей этой толпы, называлось Воскресенским и через него текла речка Пресня. Обо всем этом можно не иметь ни малейшего представления. Достаточно взглянуть сейчас на карту Москвы в районе 1-й Тверской-Ямской улицы. Большая Грузинская, Малая Грузинская, Грузинский вал, Грузинский переулок и еще Грузинская площадь – сразу же ясно, что одним грузином или даже одной страной Грузией, с которой к концу того же XVIII века Россия заключила Георгиевский трактат о покровительстве, дело тут не обошлось. Понятно, что была тут целая Грузинская слобода, а из нее ездили – как не ездить? – по дороге через поля, принадлежавшие ямщикам Тверской-Ямской слободы, в Москву. А уж когда соорудили в 1742 году Камер-Коллежский вал, то оказалась Грузинская слобода в черте города, а вдоль бывшей проезжей дороги стали строить дома. Так и получилась Большая Грузинская улица. И кусок Камер-Коллежского вала, что мимо слободы шел, стали, естественно, Грузинским называть.
Теперь вопрос для знатоков: где стоит памятник Шота Руставели? Вас ведь не поразит, что в сквере на Большой Грузинской? И никаких версий о том, где выситься монументу в честь 200-летия Георгиевского трактата (его еще непросвещенные москвичи «кукурузой» называют), быть не может: только на пересечении Грузинского переулка с все той же Большой Грузинской улицей. И уж как божий день понятно, что ваял монумент, который по-настоящему называется «Дружба навеки» скульптор Зураб по фамилии Церетели. Тут если чему и удивляться, так только тому, что архитектором при нем работал поэт Андрей Андреич Вознесенский, другими работами по специальности, полученной в вузе, не прославленный. И, наконец, никаких сомнений о месте жительства того же Зураба Константиновича Церетели у самого темного сибирского валенка нет – там же в районе Грузинских улиц.
И только один вопрос может остаться у любознательного читателя: почему Армянский переулок в центре Москвы есть, Грузинские улицы наличествуют, а Азербайджанских нет как нет. Выходит, азербайджанцы в минувшие века в Москву не ездили? Отвечаем прямо: не ездили. Потому как никаких азербайджанцев до советского времени не было и в помине. Азербайджан, как и новую общность – азербайджанский народ, создали в 1920 году. Раньше на этой территории были только ханства – Шемахинское, Нахичеванское и множество других, зависимых кто от Ирана, кто от России. Вот их жители могли приезжать в Москву. А могли и не приезжать – никаких свидетельств в языке и на карте Москвы от них не осталось.
ГУМ
Бывший главный магазин
ГУМ! Как много в этом звуке для сердца… Стоп, стоп, стоп! Для сердца-то, конечно, слилось и отозвалось в нем тоже, но только не для русского, а для советского. С чего это русскому сердцу трепетать, если слово «ГУМ» ему пока неизвестно? И при словах «Верхние торговые ряды» чего дрожать, если дефицит как класс в стране отсутствует? Ну, вы поняли, мы про ту страну, дореволюционную. А уж если и пойти на Красную площадь в Верхние торговые ряды – так это новый магазин посмотреть, по последнему слову европейской и московской купеческой моды в 1893 году отстроенный.
Хитрый архитектор Померанцев знал, как потрафить московским вкусам. Старое-то здание рядов после пожара 1812 года Осип Бове возвел в классическом стиле. Только за шестьдесят прошедших лет и здание обветшало, и классицизм купцам разонравился. Русский стиль в моду вошел: наличники, ширинки, поребрики, все эти мелкие формочки на фасаде и башенки наверху. Пожалте поглядеть – все на месте. А сверху на проекте, что ушлый зодчий на конкурс подал, так прямо и написано: «Московскому купечеству». Под таким девизом и с таким фасадом как не победить? А тому, кто за фасад заглянет, и там есть чему удивиться. Только тут уж мода не московская – заграничная. Придумали такое в Милане: пассаж называется. Если попроще да по-русски объяснить, это коридор такой длинный и высокий, стеклянным сводом перекрытый, а вдоль него магазины как на парад выстроились.
Размахнулся архитектор Померанцев, не один такой коридор-галерею построил, а целых три, да в три этажа каждый. И длиной – от Никольской до Ильинки – квартал целый. Через галереи на высоте второго-третьего этажей мостики переброшены. Даром что фасад имитирует XVII век, тут внутри все самоновейшее, самые последние в технике слова – все тут: железобетон, лифты и, страшно сказать, металлоконструкции. Сам Владимир Шухов перекрытия сводов проектировал, тот самый, что позже построит крышу дебаркадера Киевского вокзала и соорудит башню на Шаболовке.
Так и встали напротив Кремлевской стены Верхние торговые ряды. Так и глядят друг на друга Кремлевская стена, итальянцами излаженная, – если бы не шатры на башнях, так будто бы в Болонье или Милане оказался – и здание, снаружи древнерусское, но по миланскому опять же образцу построенное. Вот такая перекличка друзей на главной площади страны.
Больше тысячи магазинов, примерно 4,2 тысячи квадратных саженей торговых площадей. Торгуй – не хочу. После революции было не захотели, отдали здание расплодившимся без счету госучреждениям. В 1921 году Ильич распорядился – торговать! Политика у него тогда такая была – новая экономическая. Учреждения вычистили и открыли первый советский универмаг. В 30-х годах с коллективизацией да индустриализацией стало не до торговлишки. Здание опять оккупировали совслужащие. В 1953 году время загудело – ГУМ! Открылся второй после ЦУМа крупный универмаг в самом центре столицы. В 1957 году архитектор Душкин достроит «Детский мир», и на карте Москвы образуется Бермудский треугольник советской торговли, где в нескончаемых очередях тонуло свободное время всей советской страны.
Гучковы
Потомственные почетные граждане
Тех, кто без троек учился в средней школе, пожалуй, не слишком затруднит вопрос, кто такой Гучков. Любой хорошист-десятиклассник расскажет, что Александр Иванович Гучков был лидером октябристов, председателем 3-й Государственной думы, военным и морским министром Временного правительства. И будет прав – но не на все сто процентов. Недостающие проценты – это роль, которую Александр Гучков и два его не столь знаменитых брата играли в Москве.
Быть может, вообще не нужно никаких подробностей. Уж очень красноречив один только факт: все три брата были потомственными почетными гражданами Москвы. «Это наш город, и до той поры, пока мы чувствуем здесь себя хозяевами, его благоустройство останется нашим кровным, семейным делом. Семейным делом в одной артели с сотнями таких же московских семей», – так говорил Николай Гучков, и это не были пустые слова. Юрист по образованию, предприниматель и банкир по роду деятельности, особенно много пользы Москве Николай Гучков принес на посту городского головы. При нем в Москве проложили линии электрического трамвая, открылись новые учебные заведения, лучше заработало городское коммунальное хозяйство.
Не отставали и братья: офицер Федор Гучков (как и брат Александр, между прочим, участник Англо-бурской и Русско-японской войн) был попечителем учебных заведений, выпускал газету «Голос Москвы». Историк Александр был, как и старший брат, капиталистом и банкиром, а помимо этого политиком российского масштаба. Но азы политики осваивал в Москве – гласным городской думы. Всех постов, занимаемых братьями, не перечислить, но везде они работали честно, поддерживали Столыпинские реформы и не хотели, так же, как и Столыпин, великих потрясений – хотели видеть великой Россию.
Границы города
О Москва, без конца и без краю…
Были времена, когда каждый москвич мог быть уверен – вот здесь город, а там уже… ну, скажем, не стольный город. Понятно, конечно, что само слово «город» пошло от ограды, забора. И в старину, естественно, собственно городом Москвой был только Кремль. Постепенно огороженная территория расширялась, и Москвой становились и Китай-город, и Белый город. В самом конце XVI века Москву окружили Деревянным городом (он же Скородом – за быстроту постройки, он же, чуть позже, Земляной вал – насыпанный, когда деревянные укрепления попросту сгорели, он же сейчас – Садовое кольцо). Последним «забором», наглядно демонстрировавшим границу города, был Камер-Коллежский вал. Потом Москву стали окружать не стенами и валами, а дорогами. С 1917 года границей города была Окружная железная дорога, а с 1960-х – МКАД. А теперь юго-западную околицу Москвы надо и вовсе искать на границе с Калужской областью: в 2012 году столица приросла огромным куском Московской области, чуть не вдвое больше ее прежней. И кажется, что «без краю» – уже и не образ…
Д

Донской монастырь

К. Гампельн. Денис Давыдов. Гравюра XIX в.

Дом московских генерал-губернаторов

В.А. Долгоруков

Ф.В. Дубасов

В.Ф. Джунковский

Дом союзов

Плакат советских времен

Храм Христа Спасителя

Проект Дворца Советов

Станция метро «Дворец Советов» («Кропоткинская»)

«Детский мир»

«Детский мир»

Стадион «Динамо»

Дом на набережной
Дмитрий Донской
Заслуженный князь
Ох, не первый уже раз мы жалеем, что выносим тему рассказа в заголовок! Как хочется поморочить читателя, загадать ему загадку, помурыжить с ответом. А так все сразу ясно… Но мы не удержимся и к готовому ответу все же зададим вопрос: сын Красного, племянник Гордого, двоюродный брат Храброго – а сам? Смотри выше: сам он – Дмитрий Иванович Донской.
Неблагодарным делом объятия необъятного мы занимаемся регулярно: Москва город древний, и правителей, оставивших заметный след в истории города, – зело изрядно. Обо всех не рассказать, и значит, все же нужно ранжировать. Что ж, можно не написать про Василия I, который присоединил к Московскому княжеству Нижний Новгород, Муром и Вологду и построил в Кремле Благовещенский собор. Можно не рассказать про Даниила Александровича и Юрия Даниловича, хотя и они упоминания заслуживают. Можно еще много кого пропустить, но умолчать о Дмитрии Донском нет никакой возможности. И не только потому, что он победил на Куликовом поле князя Мамая, не потому, что он завел на Руси конные полки на манер татарских, и даже не потому, что он основал в Москве пять монастырей и был посмертно канонизирован Православной церковью.
Для нас, пишущих о столице, главная заслуга Дмитрия Иваныча другая: он подарил Москве ее главное определение – Белокаменная. Это именно он, внук Ивана Калиты, взамен дубовых дедовских – как раз Калитою в последний год жизни выстроенных – стен Кремля возвел крепкие, из белого камня. Да как быстро – всего за один год. И то сказать, спешить было куда: погоревший в засушливое лето 1365 года вместе со всею Москвою Кремль – да так, что и княжеское венчание совершить негде было, венчался Дмитрий Иванович со своею Евдокией Дмитриевной в Коломне – был худой защитой от ворога. А ворог кругом обретался и лют был несказанно – хоть татар возьми, хоть литовцев, да хоть и ближних соседей – тверичей. Ничего не скажешь, вовремя завершил юный князь белокаменную постройку – в 1368 году Ольгерд-литовец и подступил с осадой, да только Дмитрий (покуда еще не Донской) оказался за каменной стеной, и стал для Ольгерда Кремль камнем преткновения.