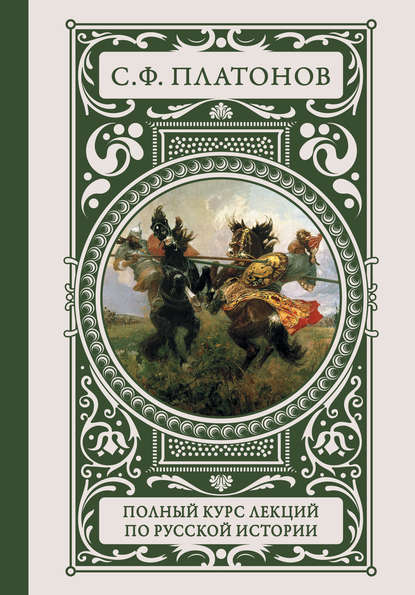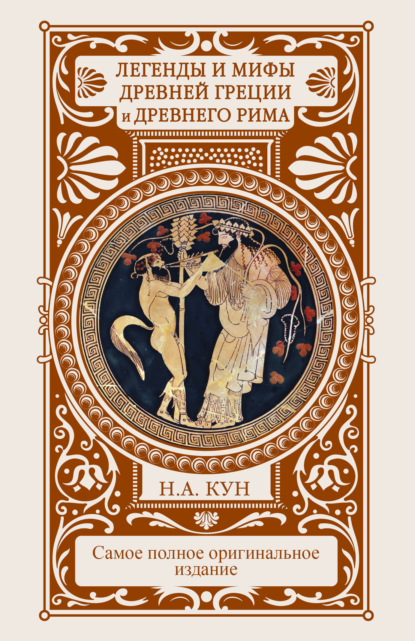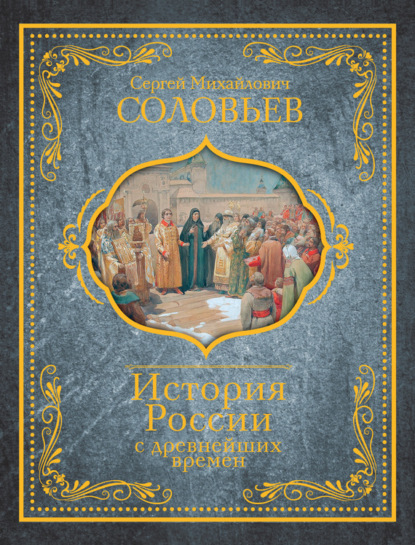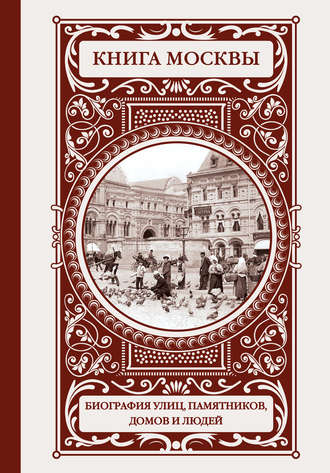
Полная версия
Книга Москвы: биография улиц, памятников, домов и людей
Вам кажется, что на недлинную Варварку загадок хватит? Нет, еще остались. Не загадка, конечно, что улица, идущая по так называемой Псковской горке, вела по направлению к городу Владимиру. Тут как раз все понятно: на ней жили бывшие псковичи, причем привезли их в Москву для оживления торговли. А вот каким образом на эту улицу заехал Дмитрий Донской, возвращаясь с Куликова поля, то есть верховьев Дона, которые, как известно, находятся в нынешней Тульской области, то есть к югу от Москвы, тогда как Владимир – к востоку и даже чуть на север? А ведь дорога на юг уже была – мы называем ее теперь Ордынкой. Вот почему он по Варварке на поле ехал – это известно: встреча у него с соратниками была в Коломне назначена, а дорога на Коломну пролегала как раз через нынешнюю Славянскую площадь.
У вас еще не идет голова кругом от загадочной Варварки? Тогда продолжим. В 1671 году по улице провезли на Красную площадь – место казни – закованного в железа бунтаря Стеньку Разина. И этот проезд остался в истории улицы: она, подобно реке Волге, увидала подарок от донского казака – всю советскую эпоху носила его имя.
Сегодня Варварка – практически улица-музей. Перейдешь через улицу и попадешь из Москвы XVI века от старого Английского двора времен Ивана Грозного в купеческую Москву к Гостиному двору, построенному великим Кваренги. Перейдешь обратно – вот Знаменский монастырь конца XVII века, в советское время грубо, как ножом мясника, разрезанный эстакадой гостиницы «Россия», к счастью, нынче снесенной. Опять форсируешь проезжую часть – и оказываешься в деловой Москве, как пишут в учебниках, эпохи развития капитализма в России. И так до самой площади Варварских Ворот (она же бывшая Ногина, она же наполовину нынешняя Славянская), где когда-то улица действительно упиралась в ворота Китай-города. А если вам к метро, то остатки воротной башни вы там увидите – в переходе.
ВСХВ, ВДНХ, ВВЦ, ВДНХ
Выставки и достижения
Первую всероссийскую выставку в Москве провело Министерство финансов при царе Николае, причем не Втором, а Первом, – в 1831 году. Проходила выставка ни больше ни меньше как в Благородном собрании, известном большинству наших современников под названием Дом союзов, и демонстрировала мануфактуру и все достижения в этой области. С той поры всероссийские выставки стали проходить в России… хотели бы написать «регулярно», но не можем: регулярностью это мероприятие не отличалось. Тем не менее раз в 8-10 лет это происходило. Особым размахом отличалась политехническая выставка 1872 года, посвященная 200-летию со дня рождения Петра I, – после нее в Москве образовалось сразу два музея, Политехнический и Исторический, а на открытии выставки исполнялась кантата, специально написанная П.И. Чайковским. Параллельно Московское общество сельского хозяйства начало организовывать сельхозвыставки – благо гордиться было чем: не зря же во всех учебниках пишут, что Россия до революции была сельскохозяйственной страной. С началом Первой мировой выставки в Москве прекратились, а там и революция подоспела.
Какими достижениями собирались хвастать большевики сразу после окончания Гражданской войны – знал только их коммунистический бог Ленин. Но в 1922 году призвали архитектора Щусева и назначили его главным архитектором Всероссийской сельскохозяйственной и кустарно-промышленной выставки. Будущий творец мавзолея не подкачал, и 19 августа 1923 года на территории, которую через пять лет займет парк культуры имени Горького, выставка открылась. Ленин ее даже успел осмотреть – это случилось в его последний приезд из Горок.
В середине тридцатых годов о выставке вспомнили снова. За дело взялись с размахом. Отвели 140 гектаров площади в Останкине, призвали архитектора В. Олтаржевского, кстати сказать, помощника Щусева по проектированию выставки 1923 года (Щусев, заметим, был еще жив), и назначили его главным архитектором. В 1939 году Всесоюзная сельскохозяйственная выставка, компактно свернутая в аббревиатуру ВСХВ, распахнула тогдашний главный вход – теперь его обыкновенно называют Северным. Обратите внимание: деревню успели раскулачить, по всей стране задымили заводы – первенцы уже не только первой, но и второй и третьей пятилеток, а выставка по-прежнему сельскохозяйственная и даже кустарно-промышленный довесок к названию утеряла. Потом, конечно, спохватятся и назовут-таки ее Выставкой достижений народного хозяйства – ВДНХ, но это случится при ее третьей реинкарнации в 1959 году, после войны и очередной перестройки-перепланировки. Вместе с Выставкой пришлось переименовать и станцию метро, построенную за год до этого и названную – понятно – «ВСХВ».
Все годы советской власти Выставка пользовалась большим успехом у гостей столицы – валом валили. Ну как же: фонтаны бьют, здания пышные с архитектурными излишествами стоят. И настоящую гордость за страну хоть здесь-то можно ощутить: 82 павильона, и все набиты достижениями. Где еще такое увидишь – не в магазинах же пустых?
С кончиной СССР закончились и достижения. Выставку в очередной раз переименовали, причем за эвфемизмом ВВЦ, то есть Всероссийский выставочный центр, скрывалась всего-то огромная ярмарка. Теперь выставке снова вернули историческое имя ВДНХ и назначение – парк отдыха с образовательным уклоном. Хоть на коньках катайся, хоть космосом гордись!
Вдовий дом
Богадельня на Кудринской
Бежите это вы, предположим, с Большой или Малой Никитской, а то и с Поварской, к метро «Баррикадная». Шум, толпа, на Садовом кольце машины в …надцать рядов, пробка и угар – токсикоман обзавидуется. Вот и несетесь вы в прямом смысле как угорелый и не замечаете опять, как и сто раз прежде не видели, замечательную тем не менее постройку по правую руку от вас на Баррикадной. В Париже каком-нибудь к такому дворцу туристов водили бы, но у нас тут не Европа, в Москве таких образцов классицизма – спасибо Бове со товарищи – как елок в подмосковном лесу. Так и пролетаем мимо, головы не поворачивая.
То, что внутри великолепного дворца работы Жилярди-сына, теперь невнятно называется Академией последипломного образования врачей. В советские времена было то же самое, но понятней: Институт усовершенствования тех же докторов. Интересно, что по ведомству медицины здание начало служить задолго до большевиков – еще с начала XIX века. Тогда дом (совсем еще не нынешний, а только часть его правого крыла) работы Жилярди-отца отобрали у проворовавшегося генерал-прокурора Глебова и устроили в нем приют для вдов и сирот военных и чиновников, прослуживших царю и отечеству больше десяти лет. По другим источникам, Инвалидный дом на этом месте стоял еще в середине XVIII века. Как бы то ни было, в здании поселились бедные (не только потому, что потеряли мужей, но и оттого, что не имели средств к существованию) вдовы. Отношение к медицине у вдов было самое прямое: крышу над головой и кусок хлеба они честно отрабатывали – бесплатно ухаживали за больными на дому. Таким образом, обитательниц дома вполне можно назвать первыми русскими сестрами милосердия.
В 1812 году во Вдовьем доме устроили госпиталь для раненых русских солдат, но его вместе с домом уничтожил пожар. Жилярди-младший не ограничился восстановлением отцовской постройки, а воздвиг великолепный дворец в стиле ампир с классическим портиком. Роскошное здание у вдов, однако, не отобрали, и они продолжали там жить вплоть до революции. Этому есть и литературные свидетельства: жизнь дома описал, например, тамошний обитатель Саша Куприн. После революции дом по какой-то циничной логике швондеров, пришедших к власти, передали Наркомздраву – для разных медицинских надобностей. А вдов и сирот отправили строить светлое будущее собственными руками.
Высоцкий
Два города
Знатоки творчества Владимира Высоцкого – хоть ночью разбуди – наизусть отчеканят известные по песням московские адреса поэта-актера. Вот, пожалуйста: «…родился, и жил я, и выжил, – дом на Первой Мещанской – в конце», «Где твои семнадцать лет? На Большом Каретном». Тут все точно: место рождения – дом на бывшей 1-й Мещанской, 126, он не сохранился, там теперь стоит дом 76 по проспекту Мира, в котором жила мать Высоцкого после сноса старого дома. Семнадцать лет – опять все правильно – на Большом Каретном, там была квартира, где Высоцкий жил с отцом, там находилась школа № 186, которую он закончил (это уж потом, в 1956 году, переулок станет улицей Ермоловой, а теперь он опять Большой Каретный). Все поклонники помнят ответ Владимира Семеныча на вопрос анкеты про любимое место в любимом городе: Самотека, Москва. Фанаты, наизусть знающие биографию кумира, расскажут вам про Спартаковскую, дом 2, где в бывшем доме графа А.И. Мусина-Пушкина помещался Инженерно-строительный институт, на первый курс которого Высоцкий поступил в 1955 году. В Камергерском, 3а (тогда проезд Художественного театра) вам покажут Школу-студию МХАТ, которую он закончил. Потом ходил на работу на Тверской, 23 в театр имени Пушкина, а с 1964 года и до последних дней жизни – в театр на Таганке, на Верхнюю Радищевскую – угол Земляного Вала (будь неладны эти советские переименования, но в годы, когда здесь служил Высоцкий, Земляной Вал назывался улицей Чкалова). Последние годы Высоцкий прожил в квартире на Малой Грузинской.
Но есть и другая Москва Высоцкого – та, которую густо населяют герои его стихов и песен. Смотрите: с матерью и батей жил на Арбате солдатик, который лежит весь в бинтах в медсанбате, Мишка Шифман, который башковит и у него предвидение, тот в Мневниках, Канатчикову дачу (психбольницу в прошлом имени Кащенко, теперь имени Н.А. Алексеева на Загородном шоссе) оккупировали жертвы телевидения, «к Склифосовскому» попал незадачливый муж гулящей жены, к трем вокзалам за коньяком готов поехать черт, который привиделся запившему от одиночества, в Химки и в Медведково не смогли разъехаться по пьянке и позднему времени персонажи песни «Милицейский протокол». Шпион Джон Ланкастер Пек – тот вообще облазил всю столицу: жил в гостинице «Советской», это на Ленинградском проспекте, а нехорошие свои дела творил и в ГУМе, и во МХАТе, и в Манеже. А уж Петровка, 38 – просто дом родной для героев ранних, «блатных» песен Высоцкого. Может, потому и написал он от имени такого вот персонажа с сорока фамилиями и семью паспортами:
И хотя во все светлое верил –Например, в наш советский народ, –Не поставят мне памятник в сквереГде-нибудь у Петровских Ворот.Карманному вору – нет, не поставили. И самому поэту Владимиру Семеновичу Высоцкому советский народ не поставил, хоть может и хотел – да кто б народ послушал? А «дорогие россияне» Высоцкого увековечили, и как раз там, где мечталось его герою. О художественных достоинствах творения скульптора Г. Распопова, что установлено в 1995 году на Страстном бульваре у Петровских Ворот, мы говорить не будем. Об этом лучше всего сказал сам Высоцкий в рефрене «Песни-сказки о нечисти».
Владимирская больница
Больница как пример
Вот все говорят, что Россия в XIX веке была отсталая страна. Только и знала, что хлебом всех снабжала. Ан нет. Например, на Всемирной выставке 1878 года в Париже детская больница в Москве была признана образцовой. А как ей не быть образцовой, ежели проектировали ее не только архитектор Гедике, но и педиатр Раухфус. Построили больницу на Покровской Дворцовой улице, на месте бывшего дворца Михаила Федоровича (сейчас – Рубцовско-Дворцовая улица, церковь в названии улицы заменили на село, а дворец оставили, хотя церковь, единственная из этой тройки, сохранилась, но это все – к специфике московской топонимики), на пожертвования промышленника Павла Григорьевича фон Дервиза. Дервиз разбогател на строительстве Московско-Рязанской железной дороги, но проживал состояние не только сам – был известным меценатом. Традиции меценатства сохранились и после его скоропостижной кончины (ушел из жизни, получив известие о смерти дочери Варвары): вдова была попечительницей приюта и основала женскую гимназию, сын приобрел оргáн для Большого зала Московской консерватории.
Но вернемся к больнице. Названная при основании именем Святого Владимира, в советские времена этого имени, естественно, была лишена. В наименование ей досталась фамилия Ивана Васильевича Русакова. С именем больнице, считайте, повезло. Ведь завотделом народного образования, член МК РКП(б) и президиума Моссовета был все же врачом по специальности. Когда он погиб при ликвидации Кронштадтского мятежа, фамилию больнице и передали. Сейчас она вновь Святого Владимира, или попросту Владимирская. И церковь Троицы Живоначальной, выстроенную в свое время на средства фон Дервиза, отреставрировали и вновь освятили. Там в семейном склепе и упокоены сам меценат, его супруга, дочь Варвара и сын Владимир. Тот самый, в чью память фон Дервиз возвел Владимирскую больницу.
Водоотводный канал
Остров без названия
Почти до самого конца XVIII века никакого канала в Замоскворечье не было. Было – болото. И по названию – Болото: площадь за Большим Каменным мостом называлась Болотной, и улица Балчуг – вы уже знаете – то же болото, только по-татарски. И по существу: большое такое болото, топь, хлябь непролазная. Осушали, конечно, как могли, вот при царевне Софье Алексеевне даже сад на Болоте насадили и местность Царицыным лугом нарекли. Да половодье-то – штука ежегодная, снова заливает, а местность низкая, а почва глинистая, вот и не сохнет долго. Болото и есть.
Так и жили бы и не ведали счастья, кабы несчастье не пособило. Уж очень выдалось обильным половодье 1783 года, вот и не выдержали опоры Большого Каменного моста. Начальство повелело: исправить! Дело поручили инженеру Герарду. Его-то решение этой проблемы и украшает с 1785 года карту Москвы. Чтобы восстановить опоры, а также предотвратить такие неприятности в будущем, придумал инженер отвести воду Москвы-реки в специальный канал. Канал оттого и назвали Водоотводным. Начинался он чуть выше Каменного моста и опять вливался в реку ниже нынешнего моста Краснохолмского, возведенного, правда, через сто лет после устройства канала.
Так напротив Кремля в Замоскворечье образовался остров. Жители Садовнической улицы, Балчуга, Берсеневки стали островитянами. Только названием никто до сих пор не озаботился. Такие вот чудеса географии: остров есть, а названия нету. А в целом – остров как остров, даже стрелка есть, на которой хоть и не ростральные колонны, а своя достопримечательность имеется. Два века спустя Церетелиевыми стараниями встал здесь огромный парусник с Петром I. Злые языки, правда, уверяют, что это каравелла с Колумбом, и даже прозвали памятник «Петром Христофорычем», но мы им не верим. А даже предлагаем остров Петровским назвать. Чтоб уж никто не сомневался, кому тут памятник стоит.
Воробьевы горы
Вид наилучшего качества
Редкий москвич ли, приезжающий ли русский или иностранец не посетит эти знаменитые как в историческом отношении, так и по открывающемуся с них виду, Воробьевы горы. Согласны? Продолжим: они расположены в 4-х верстах от Москвы, и сообщение с ними – или (что самое удобное) в экипаже, или по конно-железной дороге, или на пароходе, или на лодках. Не опасайтесь за душевное здоровье авторов: мы отчетливо помним, что живем в XXI веке. А процитированные строчки – из путеводителя уже позапрошлого века, 1896 года издания. Кстати сказать, 4 версты от Москвы в XIX веке – веское основание для того, чтобы счесть распространенным заблуждением тот факт, что Воробьевы горы входят в число знаменитых семи холмов, на которых, подобно Риму, стоит Москва. А вот и не входят: про семь холмов говорили на Москве века так с шестнадцатого, когда на горах не было никакой Москвы, а было дворцовое село Воробьево, в котором как раз возвели деревянный дворец – чтоб великому князю по пути на охоту на несколько дней остановиться. Но путаницу с холмами мы отложим до буквы «С» (семь потому что).
«Вид на всю расстилающуюся пред глазами Москву есть один из лучших со всех окрестностей; отсюда любовался ей долго Наполеон, вошедши в Москву». Так описывает Воробьевы горы «Путеводитель по Москве и ея окрестностям» 1887 года выпуска. Путеводитель 1831 года про вид тоже пишет очень трогательно, а еще упоминает памятник великих событий 1812 года. Тем, кто не понял, объясним, что речь здесь идет о грандиозном храме Христа Спасителя, который в 1818 году заложили на Воробьевых горах в память победы над Наполеоном. К 1827 году проект архитектора Витберга сочли разорительным и затянувшуюся стройку забросили.
В том же как раз году Александр Герцен и Николай Огарев переехали на лодке из Лужников Москву-реку и на этом самом месте (взбежали, пишет Герцен в «Былом и думах», на место закладки Витбергова храма) дали клятву отомстить за казненных декабристов и отдать все силы на борьбу с самодержавием. Нам сейчас кажется, что это было решение зрелых людей, но нет – это был порыв юношеского максимализма: Герцену в тот год исполнилось 15, Огареву – 14. Клятву, однако, юноши сдержали, с самодержавием боролись как могли и в России, и позже в эмиграции, «развернули», как писал Ленин, «революционную агитацию». Хотели как лучше, конечно, – не зная, что за силы разбудят и приведут к власти. «Нельзя в России никого будить», – прав Наум Коржавин.
В черту Москвы, сообщают справочники, Воробьевы горы вошли в 1922 году. Через два года (понятно почему) стали называться Ленинскими. Последние деревянные дома села Воробьево снесли после войны. Тогда же на самой высокой точке гор начали строить главное здание МГУ. Смотровая площадка на горах есть и сегодня. И добираться на нее путеводитель 1982 года издания рекомендует на метро – до станции «Ленинские горы». Станция, пишут, просторна, залита солнечным светом, и вид через стеклянные стены открывается замечательный. Все правильно, вид захватывающий, только станцию почти двадцать лет реконструировали, а открыли уже под новым названием: «Воробьевы горы». Или старым?
Воротниковский переулок
Язык повернулся
В давние времена, в XV, например, веке, город Москва состоял из отдельных поселков – слобод. Кремль – он, конечно, был Кремлем, там знать жила, а народ служивый или ремесленный – тот в слободах. Заселялись они по тому же принципу, по которому позже была организована Коммунистическая партия – по территориально-производственному: то есть либо людьми одной профессии, либо уроженцами одной местности. В Грузинской слободе, к примеру, жили выходцы из Грузии, в слободе Старые паны – приезжие из Польши. В Кожевнической слободе обитали специалисты по выделке кож, в Колпачной – мастера головных уборов, в Плотничьей – всем ясно – плотники. Есть менее очевидные, но все-таки, по некотором размышлении, объяснимые названия: в Таганской слободе делали таганы – треножники для походной кухни, в Кисловской – жили кислошники, изготовлявшие соленья для царского двора. Встречаются случаи посложнее, когда слово, обозначающее то, что изготавливали мастеровые, ушло из языка, иногда не оставив следа.
Понятно, что в Хамовниках жили не хамы, но кто? Лезешь в книжку под названием «Топонимия Москвы» и выясняешь, что хамовниками в стародавние времена называли ткачей, ткавших изделия изо льна. Иногда и книжка не помогает: была в Москве Басманная слобода, там, где теперь Басманные улицы, а что такое басман – науке уже не известно. То ли это дворцовый хлеб такой, то ли басманниками называли серебряных дел мастеров – точно никто не знает: сгорели в бесчисленных московских пожарах документальные свидетельства.
Но вот поворачиваешь с Садово-Триумфальной в Воротниковский переулок и радуешься: тут-то все ясно. Воротник, он и есть воротник, что тут думать. Шили тут, наверное, мастера сменные воротники, они еще шиворотами назывались. Ну, те самые, про которые поговорка получилась: «шиворот-навыворот» – когда разгневанный царь надевал боярину одежду наизнанку. И не догадываешься, гордый своей образованностью, какую шутку сыграл с тобой коварный русский язык: не воротники тут делали, а воро́тники жили. Те самые, что в XV веке и позже обязаны были нести охрану ворот Кремля, Китай-города и Белого города. Утром – отпереть, вечером – запереть, а днем глядеть в оба, чтобы вражина или тать не пробрался. В XVII веке население слободы разрослось, часть перебралась за Земляной город и основала там, в районе нынешнего метро «Новослободская», Новую Воротниковскую слободу.
И всего-то дел – ударение сместилось, а из грозного стражника получился воротник-тряпка. Могучий язык, великий – что и говорить!
Воспитательный дом
Квадратная верста благотворительности
Золотой, ах, золотой век был при матушке Екатерине II, ничего не скажешь, золотой! И всё с чувством, с толком, с размахом. Вот пришла в голову Ивану Бецкому мысль основать в Москве Воспитательный дом, дабы призреть сироток брошенных и вырастить их на пользу обществу, и что из этого вышло? Государыня мудрая, даром что год как к власти пришла, эту мысль всем сердцем и кошельком своим поддержала, Васильевский луг с бывшим Гранатным двором на берегу Москвы-реки близ устья Яузы пожаловала, камни от порушенной стены Белого города в постройку взять разрешила и деньгами была первая вкладчица: сразу 100 тысяч дала, и ежегодно из своих и сына Павла «комнатных» денег по 70 тысяч отпускала. А Бецкой, сановник при ней из первых, сам-то незаконнорожденный, но отцом, Иваном Трубецким, признанный (только что по тогдашним обычаям не всю фамилию, а вторую половину ее получивший), денег тоже не пожалел: больше ста пятидесяти тысяч рублей на сирот пожертвовал, Бога, видно, благодарил, что их участи не разделил. Архитектора наняли из лучших – Карла Бланка. Закладку здания в день рождения императрицы, 21 апреля 1764 года, пышно отметили: и пушки гремели, и медаль памятную выбили. Тут же начали по Москве первых сирот собирать, и 19 обоего пола младенцев, к разным церквам подброшенных, в этот день в Воспитательный дом приняли.
Масштаб заведения потрясает воображение до сих пор. Мы как привыкли: приют – он и есть приют, не отчий дом. Ладно, не голодные, не раздетые и какому-нибудь ремеслу обученные. Но это уже в XIX веке так пошло. А при Екатерине-матушке разбор был: кто к лицедейству склонность имеет, тех в актеры, кто к художеству – в живописцы, кто к коммерции – для тех Прокопий Демидов на свои средства открыл тут же коммерческое училище. Еще медицину изучали детки, а самые талантливые потом в Вену и Страсбург доучиваться поехали. Коммерсанты – те в Лондон, а художники – в Париж и Рим. Ну и в Москве, конечно, в университете обучались. У кого особых способностей не обнаружили, тех на фабрики в город или в мастерские обучаться отдавали. Мастерские были тут же на месте: дом – шутка ли – квадратную версту занимал, до восьми тысяч людей одновременно жило. И не только сироты, часть здания сдавалась внаем под квартиры. Левитан здесь жил, Верещагин, историки Ключевский, Забелин и много кто еще.
После революции сирот из Воспитательного дома вытряхнули, а здание отдали профсоюзам. А зря: беспризорников революция породила без числа, пришлось даже Комиссию в 1921 году по улучшению жизни детей создавать. Возглавил ее Феликс Дзержинский, одновременно в 1921 году нарком внутренних дел (одной, значит, рукой расстреливал родителей, а другой опекал осиротевших детей). Строить-то он, подобно Бецкому, не строил, зачем: отобрали усадьбы у помещиков и монастыри у церкви – вот вам и приюты да колонии для малолетних преступников. А центр Москвы – он не про сироток.
Тем более интересно, что имя Дзержинского оказалось все-таки связано с Воспитательным домом на Москворецкой набережной: в 1938 году здание отдали Военной академии имени рыцаря революции. Дом оказался для академии мал, и потому его еще достраивали – добавили целый правый корпус, отчего главное здание стало симметричным. В 1997 году «железного» Феликса, который ни при чем, из названия Академии убрали. Сменили на Петра Великого, и это справедливо: при основании в 1820 году учебное заведение называлось Артиллерийской академией, а царь Петр начинал свою военную карьеру бомбардиром Михайловым. Так что Воспитательный дом до XXI века воспитывал. Кадры для Ракетных войск стратегического назначения.
Высотные здания
Московские вертикали
Две гостиницы, два жилых дома, два министерства. Как только понимаешь, что объединяет эти московские достопримечательности, так сразу и называешь недостающее в списке седьмое здание – МГУ на временно Ленинских, а на самом деле Воробьевых, горах. Потому что все путеводители и москвичи, этих путеводителей не читавшие, называют гостиницы «Украина» и «Ленинградская», жилые дома на Котельнической набережной и Кудринской площади (для тех, кто еще живет в СССР, – площадь Восстания), а также здания Министерства иностранных дел на Смоленской площади, бывшего Министерства транспортного строительства СССР у Красных Ворот и Университет одним словом – высотки.