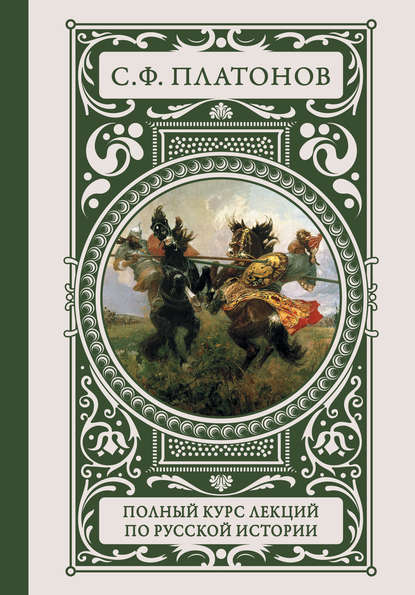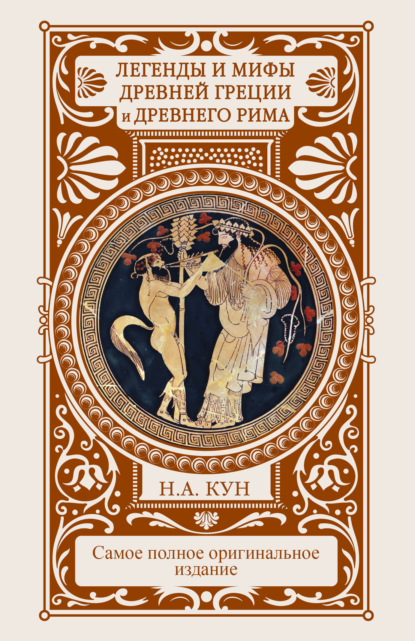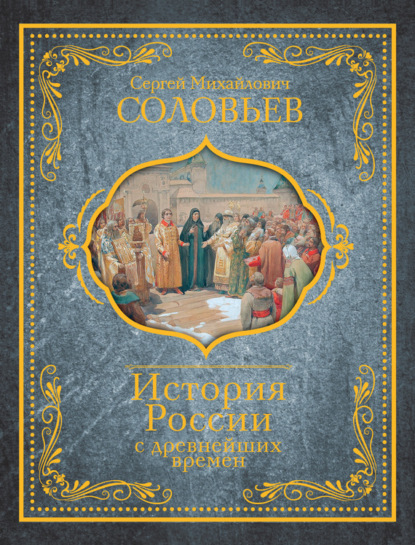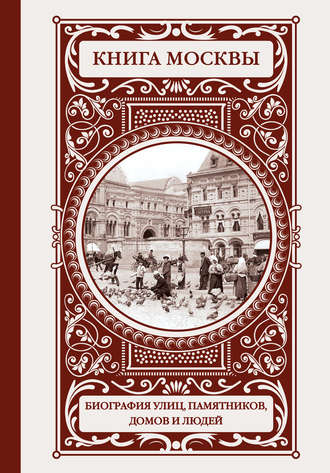
Полная версия
Книга Москвы: биография улиц, памятников, домов и людей
Впрочем, литовское стояние было для Дмитрия Ивановича лишь одним из бесчисленных боевых эпизодов его жизни. Все его 30-летнее правление (из 39, заметим в скобках, лет его жизни; стало быть, кто считать умеет, тот уж прикинул, что великим князем он стал в малолетстве, 9 лет от роду) – это перемежаемая краткими перерывами (для сбора рати) война. И венец ее, главное дело жизни – это битва на Куликовом поле, что раскинулось между Непрядвой и Доном. Форсировал Дмитрий в ночь на 8 сентября 1380 года Дон, сжег, по преданию, свои переправы, чтобы не было ходу назад, да и устроил Мамаю побоище его имени. В Куликовской битве – на полном серьезе пишет «Советский энциклопедический словарь» 1986 года издания – он проявил свой полководческий талант, за что был прозван Донским. Простим составителям видимые погрешности в логике и русском языке – чего не наворотишь в заботе об идеологической верности. В целом они, конечно, правы: Донской надломил хребет Мамаю и Орде основательно, дальше все было делом техники. Но дожить до полного освобождения Руси от ига Донскому не довелось. «Чреват вельми и тяжек собою зело», как написано в «Житии», то есть пузатый и грузный, Дмитрий Донской скончался в возрасте неполных сорока лет.
Нет в Москве улицы Юрия Долгорукого, нет улицы Ивана III, при котором Русь окончательно выбралась из-под татаро-монгольского ярма. А вот бульвар Дмитрия Донского есть. И расположен правильно: в Бутове, будто снова защищает князь Москву от опасности с юга.
Дворец Советов
Яма между храмами
До 1931 года – храм Христа Спасителя, с 1960-го – бассейн «Москва», с 2000 года – храм Христа Спасителя. Что было на этом месте в пропущенные тридцать лет, объясняет название ближайшей к этому месту станции метро. В 1935 году при открытии она называлась «Дворец Советов».
Если быть точными, идея Дворца Советов жила не тридцать лет, а почти сорок: прожект возник еще на I съезде Советов в 1922 году. В нашей буче, боевой, кипучей, она была подхвачена, развита и разрослась до эпохальных масштабов. Не разворачивались бы так широко – глядишь, и построили бы, а борьба хорошего с лучшим затянулась на долгие годы. Как водится, создали комиссию, нет, в соответствии с масштабами специальный правительственный орган – Совет строительства. Как полагается, объявили конкурс, нет, много конкурсов, да еще с большой буквы – Предварительный, потом Всесоюзный. Как учили вожди и партийный гимн «Интернационал», прежде чем строить, до основания разрушили выстроенное предками.
Поэты посвящали непостроенному дворцу стихи, архитекторы – и зарубежные тоже, до Ле Корбюзье включительно – наперебой несли проекты. После четырех туров и многолетних говорений определились с авторами: победившего в конкурсах Бориса Иофана усилили Щуко и Гельфрейхом.
Шли годы. Прибавлялась монументальность: на пятиярусном здании-пьедестале высотой 415 метров должна была по окончательному проекту стоять статуя Ленина высотой 85 метров, да не пустотелая, а с помещениями самого разного назначения. Так например, в голове самого живого из всех живых предполагалось разместить библиотеку и читальный зал с полным собранием классиков марксизма-ленинизма. И ничего не скажешь, логично: а где ж им еще быть?
Чтобы обеспечить эдакую махину материалами и конструкциями, открывались многочисленные подсобные предприятия. Даже сталь специальную создали – она так и называется ДС, то есть «Дворец Советов». В 1937 году наконец приступили к работам на местности. Стройка века кипела до начала войны. А с ее началом замерла: все предприятия переориентировали на производство оборонной продукции, строители ушли на фронт.
Как хотите, а нас больше всего впечатлил тот факт, что 19 декабря 1941 года (для тех, кто не знает, поясняем: через две недели (!) после начала контрнаступления под Москвой) Иофан и его группа получили приказ продолжать проектную работу над Дворцом Советов. К 1945 году был готов вариант, в котором уже отразились мотивы нашей победы, но… Вот тут-то все и заканчивается. Нет, разговоры идут, но все более тихие, наполовину разрушенной стране все не до архитектурного выражения идейной мощи. Котлован в центре Москвы понемногу зарастает грязью.
Пришедший к высшей власти Хрущев еще поиграет этой игрушкой, объявит новый конкурс, но даже место будущей стройки перенесет на Воробьевы горы. Станцию метро срочно переименуют в «Кропоткинскую», в котлован нальют бассейн, а стройка на Воробьевых горах так и не начнется, несмотря на то, что у нового конкурса будут свои победители. И удивляться тут нечего. Вавилонские башни никогда не доходят до неба. Богу неугодно.
Девичье поле
Поле неизвестного назначения
Полями Москву не удивить. Чадящий бензином мегаполис с трогательной бережностью сохраняет память о лугах и нивах, некогда его окружавших. На севере – Ямское, на востоке – Гороховое, почти что в центре – Воронцово и улица Полянка, что тоже вела через поля и к полям. И все понятно: на Гороховом сеяли горох, Ямское принадлежало ямщикам, а Воронцово – боярам Воронцовым-Вельяминовым. А вот с полем на юго-западе – закавыка: если поле Девичье, то оно принадлежало девицам или их на том поле выгуливали? Некоторый намек исходит от ближнего к полю монастыря – он, как известно, Новодевичий, так может, и поле его?
Точных ответов от письменных источников не дождаться. Вечный наш консультант Кондратьев и сам не верит в особенно любимую иностранцами версию, будто платили московиты Орде дань девицами и девиц отбирали как раз на этом поле. Поле прозвали Девичьим, и монастырь вслед за ним. Дело, по Кондратьеву, обстояло как раз наоборот: сначала Новодевичьим назвали монастырь. На эту тему у него тоже нашлась парочка версий, и мы их изложим в своем месте. Пока же удовлетворимся порядком вещей: сперва монастырь, потом поле. Почему бы в таком случае полю не называться Новодевичьим? Вы правы, оно так и называлось с тех самых пор, как в его конце построили в XVI веке монастырь. Через поле, пишут дореволюционные путеводители, когда-то пролегала дорога на Смоленск и Литву. Вам кажется странным ехать по Боровскому шоссе в Литву? Так и Литва в старинные времена была не та, что сейчас: в нее входила, например, теперешняя Белоруссия.
Не то в старинные времена было и Новодевичье поле: обманется тот, кто примет за него нынешний лоскуток сквера между Большой Пироговской и улицей Еланского. Поле в те века было огромное: широкое – почти что от реки до реки, длинное – поболе 800 сажен (что равно примерно 2 километрам) и удивительно для Москвы ровное. С XVI века ему непрерывно искали и находили применение: сажали огороды из лекарственных трав, приспосабливали для охоты и смотров – это царь Алексей Михайлович. Пытались было добыть из поля соль, пробурили скважины, да ушли, простите за каламбур, несолоно хлебавши. В просвещенные Екатерининские времена поле отдали под развлечения: на нем построили казенный театр, устраивали гулянья.
Как со временем от имени поля отвалилась приставка «Ново-» – видно, оттого, что Стародевичьего поля, в отличие от монастыря, не существовало, – так и от самого поля город отхватывал для себя куски, все ближе и ближе подступал, все теснее и теснее обступал. А в конце XIX века поле уже смело можно было переименовывать в Медицинское – по количеству университетских клиник и других зданий сходного назначения.
Делегатская улица
Улица для избранных
Недалеко от того места, где Краснопролетарская – по имени типографии – улица пересекает стык Садовой-Каретной и Садовой-Самотечной, в Садовое кольцо впадает улица под советским названием Делегатская. Какие такие делегаты дали имя бывшему Божедомскому переулку, получившему, как и близлежащие улицы Старая и Новая Божедомки, свое имя от «божьего дома» – то есть, простите за чернуху, морга, куда свозили со всей Москвы безродных умерших? Что эти делегаты в коротеньком Божедомском переулке делали: жили, заседали, проводили субботники, гуляли в бывшем саду Остермана или занимались другими какими, нам неведомыми, делами? Лезем в книжки – выяснять.
Предпринятое расследование показало: выборных представителей, сиречь делегатов, губернии, а потом области, края и республики направляли на съезды Советов, считавшиеся (сначала волюнтаристским порядком, а потом по конституциям 1918 и 1924 годов) высшим органом государственной власти в СССР. Никаких съездов близ Садового кольца не проходило, представительные собрания дислоцировались в Большом театре, а позже в перестроенном Большом Кремлевском дворце. На нынешней Делегатской, в доме под номером 3, делегаты квартировали. Дом, а точнее дворец, стоит пары написанных о нем строк: в мохнатые годы здесь стояла усадьба бояр Стрешневых, при Екатерине Великой построился граф Остерман, тот самый, чей сад уцелел вокруг, а потом, в середине XIX века, памятник классицизма продали в казну и устроили в нем Духовную семинарию, реквизированную в 1918 году под Дом Советов.
Пышное название не было, однако, уникальным: 1-й Дом Советов занял гостиницу «Националь», 2-й Дом Советов разместился в «Метрополе», а третий – как раз в бывшей барской усадьбе. Да не напугает вас громкое имя: это была, попросту говоря, общага для госпартдеятелей. Конституция 1936 года сменила делегатов съездов Советов на депутатов одного, но Верховного, Совета, им в свою очередь определили другие места временного московского жительства, а во дворце на Делегатской с удобствами разместились Совет министров РСФСР и Президиум Верховного Совета РСФСР. Но улицу в Министерскую не переименовали. Не стала она и Музейной – после того как в опустевшем (после отъезда высших органов республиканской власти в только что отстроенный Белый дом) здании устроили Всесоюзный музей декоративно-прикладного и народного искусства.
Дом московских генерал-губернаторов
Частный дом на службе государству
Редкое здание в Москве люди опознают по адресу. Это – узнают. Скажешь «Тверская, 13», и все понятливо кивают головой. Правда, называют иногда по привычке Моссоветом. Но тут же поправляются: мэрия Москвы. Читавшие Б. Акунина уже знают, что это бывший дом московских генерал-губернаторов. Вынуждены разочаровать эрастоманов: Фандорин не посещал нынешнего пятисполовинойэтажного красного дома с колоннадой на верхних этажах. В те поры, когда главный акунинский герой наносил визиты генерал-губернатору Москвы, его резиденция имела совсем иной облик. Дом был вполовину ниже, не кричал на всю Тверскую насыщенным пурпурным цветом и не был, естественно, украшен на фронтоне гербом Москвы и мемориальной доской на фасаде в память выступавшего тут Ленина.
Наш любимец Кондратьев уверяет, что дом несколько раз переделывали – разумеется, к лучшему. Можно понять уважаемого Ивана Кузьмича, книга которого – «Седая старина Москвы» – издана в 1893 году. В тот момент он был, наверное, прав: здание на месте нынешнего возвел по заказу З. Чернышева в 1782 году знаменитый Матвей Казаков, он же перестраивал его после того, как собственный дом московского главнокомандующего стал официальной резиденцией генерал-губернаторов. Повторяем еще раз, медленнее, чтобы было понятно: взявший Берлин в Семилетнюю войну полководец Захар Григорьевич Чернышев заказал Казакову дом, будучи в Москве частным лицом – генерал-фельдмаршал служил в ту пору наместником Могилевской и Полоцкой губерний. К моменту, когда дом (Кондратьев пишет, что сложенный из камня разобранной стены Белого города) был готов, как раз подоспело и новое назначение – московским главнокомандующим.
Выходит, что Чернышев руководил Москвою из своего собственного дома. Всего пару лет: в 1784 году он скончался. А чиновный и прочий другой люд к месту привык, вот и купили его в казну, чтобы и остальные главнокомандующие, которых позже назовут генерал-губернаторами, тут же трудились. Дом потребовалось приспособить к конторским нуждам, для чего позвали все того же Казакова, который был жив-здоров и активно возводил в Первопрестольной шедевр за шедевром.
Впрочем, сказавши про дом на месте нынешнего, мы слегка погорячились. Двести с лишком лет назад ширина Тверской улицы составляла не более 19 метров, а дом стоял по ее красной линии. Улице Горького в рамках XVIII века стало тесно – в 1939 году ее взялись расширять до 50-60 метров. Генерал-губернаторский дом, таким образом, оказывался посредине проезжей части. Кроме того, Тверскую уже начали застраивать тяжеловесными зданиями сталинского ампира. Губернаторский дворец рисковали среди них потерять, как потеряли Дом союзов работы все того же Казакова на фоне топорной монументальности здания Совета Труда и Обороны, будущего Госплана. От таких проблем могла поехать крыша, но поехал, наоборот, дом – на 13,65 метра вглубь со скоростью 20 метров в час. Через 40 минут он уже стоял на том месте, где любой желающий может увидеть его и сегодня.
А в 1944 году, когда стало понятно, что войне вот-вот конец и пора приниматься за мирные дела, Д. Чечулин, ставший в процессе работ главным архитектором Москвы, в соавторстве с М. Посохиным и А. Мндоянцем перестроил здание в духе господствующей архитектуры. Многие книжки, изданные в СССР, с трогательным простодушием отмечают, что при реконструкции бережно сохранили балкон, на который ступала нога Ильича.
Зодчество, прямо скажем, – штука очень тонкая, а вкус у всякого свой, так что боимся, что споем не в унисон: нам не кажется, что Чечулин улучшил казаковское творение. Верхние надстроенные этажи с портиком стоят на нижнем объеме, как детские кубики, не радуя глаз гармонией целого. Насколько нам известно, это редкий случай соавторства, позже Чечулин и сменивший его на посту главного архитектора Москвы Посохин безобразили Москву по отдельности. И пусть бросит в нас камень тот, кому нравилась гостиница «Россия», выстроенная Чечулиным, или Дворец съездов в Кремле работы Посохина и Мндоянца.
И последнее. Авторы бывали в мэрии французского города Тура, в ландтаге Баварии, в королевских дворцах Мадрида и Стокгольма, в президентском дворце Хельсинки. На Тверской, 13 мы не бывали никогда. А хочется: там, пишут, сохранилось оформление парадной лестницы, отделка Красного и Белого залов, убранство парадной анфилады. Нескольких счастливцев – ветеранов или школьников – пускают по неведомому выбору и дважды в году: в Международный день охраны памятников и Международный день музеев.
Денис Давыдов
Эполеты для поэта
Вряд ли кому в стране не известно имя Дениса Давыдова. Рассказывать о военных подвигах или поэтических талантах здесь не будем. Только отметим – если бы не гений Пушкина, многие поэты, и Давыдов, несомненно, в их числе, выглядели бы гораздо значительнее. Кто желает – посмотрите «Эскадрон гусар летучих», насладитесь и тем и другим. Здесь же стоит рассказать о его житье в Москве. Дом, в котором Денис Васильевич родился, располагался под номером 13 по улице Пречистенке (увы, он не сохранился). Отсюда в 17 лет он ушел на воинскую службу. В Москву и вернулся, выйдя в отставку. Поменял множество адресов, пока не приобрел дом по соседству с домом детства, по Пречистенке, 17. Вот этот дом сохранился, на нем даже мемориальная доска есть, веселенькая такая, сообщает, что Денис Давыдов был «поэт-партизан», то есть вроде как подпольно писал стихи. (В скобках – в XVIII веке этот дом принадлежал Николаю Петровичу Архарову, тоже персонажу «Книги Москвы»; в советские времена там уютно располагался Ленинский райком КПСС.) Так что есть где почитать вслух: «За тебя на черта рад, наша матушка Россия!» или «Не повторяй мне имя той, которой память – мука жизни».
Дербеневские названия
Дебри или дерби?
Новоспасский мост, соединяющий лежащие по разные стороны реки Москвы Кожевническую улицу и 3-й Крутицкий переулок, одновременно разделяет – Шлюзовую набережную и Дербеневскую. Со Шлюзовой все более-менее ясно: что, кроме шлюза на Водоотводном канале, могло дать ей название? Иное дело Дербеневская – слово, которое попало в ее название, давным-давно исчезло из нашего лексикона. А это обидно: ладно бы одна набережная, а тут целый куст Дербеневских названий – еще улица и три переулка.
Рука сама собой вывела правильное слово – «куст». Ибо если и есть разногласия в вопросе о том, что означают слова «дербá», «дербинá» в древнерусском языке, то в существовании тут в стародавние времена заросшего лесом места абсолютно никто не сомневается. Склонные к простым решениям так прямо и говорят, что «дерби» – это те же дебри, только на языке, которым говаривал Дмитрий Донской. Любители копать поглубже выкопали старинное слово «дерба», которое означает – цитируем по словарю Даля – «залежь, сильно задернившая, с моховиной и кочкарником, который надо сдирать; залежь, вновь поросшая лесом; новина или целина, некогда паханная; запущенная росчисть, подсека, чащоба, починок». Переводя живой великорусский, времен Даля, язык на понятный нашему современнику, «дерба» – это тот же лес, но на пересеченной местности, который уже когда-то корчевали, однако до пашни дело не довели. Так загадочное доселе московское название не только становится ясным само, но и открывает нам глубину корней российского разгильдяйства.
Досфлот
Достойное содействие
В бывшем подмосковном Тушине несколько улиц с «корабельными» названиями: Парусная, Лодочная, Штурвальная, наконец. Плавали, знаем: рядом канал, водохранилище, так что все путем, то есть по теме – фарватером. Легкое недоумение у несовершеннолетнего населения вызывает только имя ближайшей к берегу Химкинского водохранилища улицы: проезд Досфлота. Нет, флот-то как раз не озадачивает, но почему он не «Реч», не, в крайнем случае, «Мор», а какой-то маловразумительный «Дос»: «Достойный»? «Доступный»?
Трудно изучать историю, которую все время переписывают. Разъясняем нашему юношеству то, что, возможно, упустила средняя школа. В далеком от него 1927 году в моду вошло содействие. Общества содействия плодились, как кролики: «Автодор» – Добровольное общество содействия развитию автомобилизма и улучшению дорог («Ударим по бездорожью всеми силами организованной общественности»), «Осоавиахим» – Общество содействия обороне, авиации и химическому строительству». «Автодор» в 1935 году скончался (видимо, за полной невозможностью выполнить в СССР поставленные цели), а «Осоавиахим» просуществовал до 1948 года, а потом раскололся на три части. Неведомо кто решил, что содействовать лучше в отдельности, так сказать, по интересам: отдельно армии – ДОСАРМ, отдельно авиации – ДОСАВ, отдельно флоту – вот тут и получился ДОСФЛОТ.
Развелись и разъехались ненадолго: через три года опять объединились, но феникс возник с новым названием ДОСААФ – Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту разом. Но скоротечное существование не помешало ДОСФЛОТу уцелеть в виде названия улицы. Немудрено, что эта улица оказалась в Тушине, – как раз на ней тогда размещалось правление этого общества. Странно другое: почему в том же Тушине нет проезда Досава? Вот ему-то тут самое место: еще в 1929 году здесь открыли летную школу Осоавиахима и знаменитый Тушинский аэродром.
Домовладельцы на букву «Д»
На «Д» начинается, в Москве размещается
На Покровском бульваре, 11 стоит замечательное творение эпохи зрелого классицизма, переданное сейчас Высшей школе экономики. Прежде памятник архитектуры принадлежал богатому семейству Дурасовых, ничем более, судя по доступной литературе, себя в Москве не проявивших. Похоже, одному из членов этого семейства, Н.А. Дурасову, прозванному почему-то «евангельским богачом», принадлежало поместье Люблино, но это, сами понимаете, заслуга небольшая.
На Большой Ордынке, 21/16 ищущий достопримечательностей экскурсант обнаружит чудесный классический ансамбль усадьбы XVIII века. В путеводителях и справочниках она обозначена как усадьба, сначала принадлежавшая купцу А.И. Долгову, а позднее неизвестного происхождения И.П. Жемочкину. Купец Афанасий Иванович Долгов отыскался у Кондратьева – он, оказывается, перестраивал на свои деньги трапезную и строил колокольню церкви «Всех Скорбящих Радости», что стоит аккурат напротив его усадьбы. Что ж, поступок весьма в духе времени и морали: знать, нагрешил купчина в богонеугодных делах, раз не скупился грехи замаливать.
В Кропоткинском переулке, 13 из-за восхитительной кованой ограды выглядывает яркий образец модерна в исполнении талантливейшего Федора Шехтеля. В монографиях, посвященных его творчеству, дом фигурирует как особняк Дерожинской, причем без имени и даже без инициалов. Но в сотне минувших лет потерялись не все сведения об этой даме: копаясь в биографиях купеческого клана Рябушинских, мы отыскали там первую жену Павла Павловича Александру Ивановну Бутикову, в следующем (после развода с Рябушинским) браке Дерожинскую. И без этих подробностей внимательному взгляду ясно, что тетенька была небедная, раз смогла заплатить за немаленький домик небезызвестному архитектору.
На Садовой-Черногрязской, 6 за глухой каменной оградой надежно прячется настоящее итальянское палаццо эпохи Ренессанса. Да не введет оно вас в заблуждение: конец позапрошлого, XIX-го, века, не стесняясь, одалживал архитектурные идеи в прошедших эпохах и заморских странах. Особняк, больше похожий на дворец, построили для Сергея Павловича фон Дервиза, сына того самого Павла Григорьевича фон Дервиза, благодаря которому мы можем почувствовать себя англичанами – правда, на коротком отрезке железнодорожного пути от Москвы до Рязани. Председатель правления Московско-Рязанской железной дороги Дервиз заказал ее проект в Великобритании, оттого и движение на этом участке левостороннее. О папе и сыне Дервизе и их благих деяниях в Москве мы уже писали в главе «Владимирская больница». Глухую каменную (справедливости ради, тоже замечательную по архитектуре) стену, которая теперь украшает город вместо особняка, воздвиг его следующий владелец – богатющий нефтепромышленник Зубалов. Ему было что прятать – так же, вероятно, как и организации, которая прописана по этому адресу сегодня. Так что замечательным палаццо Дервиза могут, как ни досадно, любоваться только работники НИИ электромеханики «с заводом», как написано у них на вывеске. Да еще и служащие МПС, здание которого расположено напротив, и то если их кабинеты находятся на верхних этажах.
К чему мы все это? Пожалуй, и сами не знаем, морали к сей басне у нас нет, да и не наше дело – читать морали. Так, прошлись по городу, заглядываясь на архитектурные шедевры. И, как охотники по следам давно пробежавших зверей, поугадывали, кто есть кто.
«Динамо»
Класс и сила
Вы, случайно, не растерялись, пытаясь определить предмет наших изысканий? О чем мы вам будем рассказывать? О заводе? О стадионе? О станции метро, наконец?
Давайте разбираться. Сначала завод. «Динамис» – это с греческого «сила» (помните про динамометр?). А еще динамо или даже динамо-машиной раньше называли генератор постоянного тока. Так вот, Бельгийское акционерное центральное электрическое общество в Москве с 1897 года и выпускало такие генераторы и электродвигатели. Поэтому, когда в 1913 году новые хозяева меняли название, завод стал называться «Русское электрическое общество “Динамо”». Вошел завод «Динамо» (ныне уже не существующий) в российскую историю двигателями к первым отечественным электровозу и метропоезду. Так что сила, по крайней мере в названии, здесь присутствует, класс тоже был продемонстрирован. Но, тем не менее, заголовок все же не про завод.
Не будем дальше вам морочить голову – это относится к спортобществу «Динамо», точнее, к его футбольным командам. Учредительное собрание Московского пролетарского общества «Динамо» состоялось 18 апреля 1923 года в Москве, на Большой Лубянке, 13 (а где же еще, если помнить о причастности лубянских боссов к его созданию?). Это было первое советское спортивное общество. Вскоре после учреждения в московском ранге общество стало Всесоюзным.
Большой друг защитников правопорядка и перевоспитателей Максим Горький подарил обществу поэтическое определение – «Сила в движении». Так что кроме силы (греческой) в названии у «Динамо» есть и сила в девизе. И класс, несомненно, есть – по крайней мере, так утверждала незатейливая песенка про победы динамовских футболистов. В 1945-м, например, «Динамо» московское отправилось в Великобританию и не проиграло ни одного матча родоначальникам футбола, закончив турне с общим счетом 19:9 (по случаю этого праздника энергичный Никита Богословский даже оперетту «Одиннадцать неизвестных» написал). В 1975-м «Динамо», на сей раз уже киевское, завоевало Кубок обладателей кубков и Суперкубок Европы.
Но вернемся в Москву. Для крупнейшего спортобщества и стадион должен быть самым крупным, решили компетентные товарищи, и в 1928 году такой стадион был построен. До появления Лужников в конце пятидесятых «Динамо» был самым крупным (затея с колоссальным стадионом имени Сталина в Измайлове не удалась) и самым лучшим. И, естественно, самым популярным. А попробуй-ка вывези больше 50 тысяч болельщиков после окончания матча! Хорошо, что в составе второй очереди метро была ветка «Площадь Свердлова» – «Сокол». Так в Москве появилась единственная станция метро, названная именем стадиона.