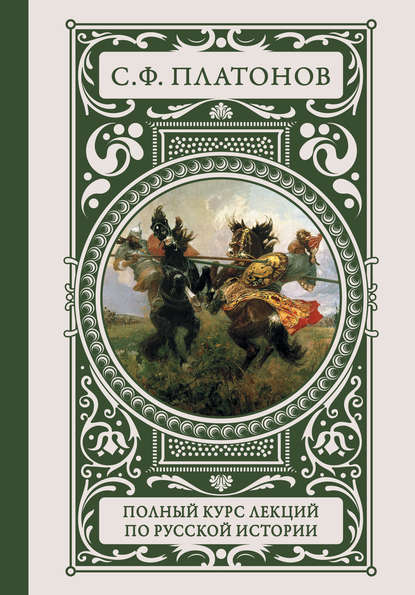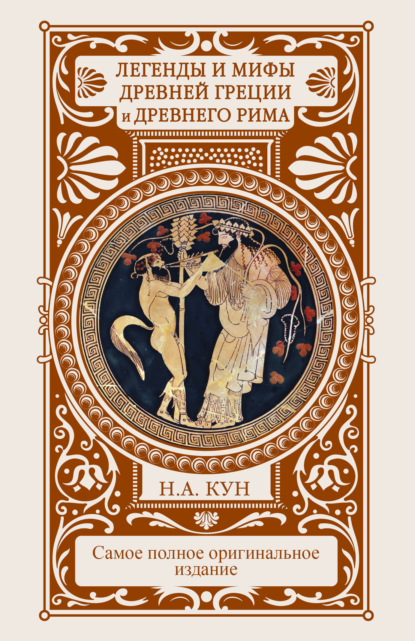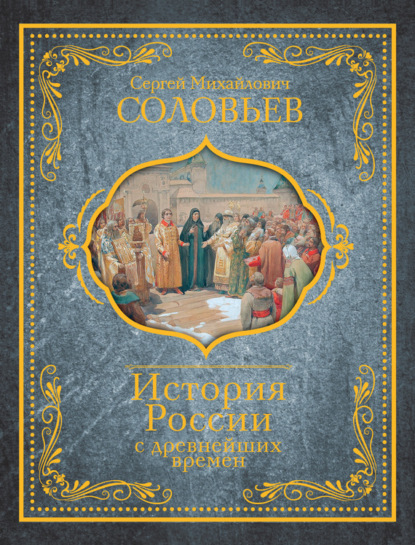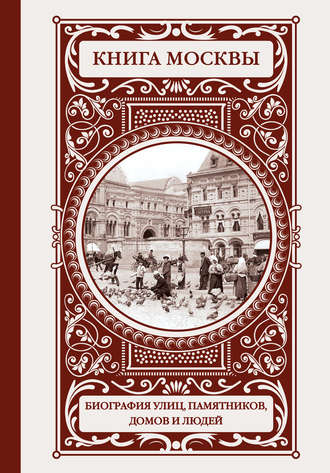
Полная версия
Книга Москвы: биография улиц, памятников, домов и людей
А завод здесь ни при чем. И рынок, так долго обитавший на стадионных площадях, естественно, тоже ни при чем. Хорошо хоть торговые склады потом переместили на Складочную улицу, а то еще пару лет рекламы, и неболельщицкий народ стал бы знаменитую голубую прописную «Д» на футболках за логотип рынка-спонсора принимать. На всякий случай напоминаем: название рынка скорее следует ассоциировать с жаргонным словом «динамить» (а что оно означает, вам и самим известно), нежели с «классом и силой» советского футбола.
Чтобы закончить московско-динамовскую тему, проинформируем, что кроме всего перечисленного есть в Москве еще и Дом общества «Динамо». И это вовсе не административное здание клуба, а тот самый дом, в котором некогда располагался 40-й гастроном (он там и сейчас есть, только название сменил). Вспомнили, где он? На Большой Лубянке, по соседству.
Ну вот вроде и все. Отдыхайте. В том числе и на стадионе «Динамо». И будет у вас сила и, возможно, класс.
Донской монастырь
«Дамы пиковые спят с Германнами вместе…»
Да не смутит вас заголовок – в нем нет и намека на фривольность. Он недаром заключен в кавычки: это строчка из песни Александра Городницкого «Донской монастырь». «Спит в Донском монастыре русское дворянство… камергеры-старики, кавалеры, моряки и поэт Языков». Дополним Александра Моисеевича: философ Чаадаев, архитектор Бове, «отец русской авиации» Жуковский, спаситель храма Василия Блаженного Барановский, декабристы (а поэта Языкова там как раз нет, это заметил уже сам Городницкий)…
Можно часами бродить по некрополю монастыря, все время обнаруживая на обветренных камнях знакомые из русской истории имена. Жаль только, почти никто не бродит: «усопший век баллад, век гусарской чести» что-то мало интересует москвичей и гостей столицы. Они всё больше на Ваганьковском – там звезды, там имена, что еще на слуху. А тут подойдешь к камню с крестом, на нем написано: «Александра Осиповна Смирнова». И откуда знать нашему малоначитанному современнику, что это та самая «черноокая Россети», что «в самовластной красоте» сразила сердца и автора этих строк Пушкина, и Лермонтова («Что делать? – речью безыскусной Ваш ум занять мне не дано… Всё это было бы смешно, когда бы не было так грустно» – это как раз ей посвящено), и Гоголя. Кстати, пушкинские родственники по отцу тоже здесь лежат, в Донском: и бабушка Ольга Васильевна, и дядя Василий Львович. И уж вовсе только фанаты архитектуры и краеведения знают, что в Донском можно поклониться еще и праху взорванного в 1931 году храма Христа Спасителя. К мощной монастырской стене притулились два горельефа работы Андрея Логановского, что Бог уберег от рук шариковых-сталиных. Не беремся судить о художественных достоинствах украшений нынешнего храма, но те, прежние, из русского мрамора, способны пролить благодать и на душу атеиста.
Сам Донской мужской монастырь был основан в конце XVI века царем Федором Иоанновичем в память, как пишут источники, «чудесного избавления» Москвы от нашествия хана Казы-Гирея. Источники, впрочем, очень путаются: один утверждает, что монастырь основали на месте, где располагался лагерь русских воинов, другой – что на месте стана татар. За давностью лет, конечно, уже и не разобрать, кто где стоял и кто кому подарил образ Донской Богоматери, который, по преданию, и обратил крымского хана в бегство без попытки штурмовать Москву. Вроде как икону подарили Дмитрию Донскому донские же казаки, но за это не поручимся. Бесспорным является только тот факт, что монастырь стал последним звеном в цепи крепостей, призванных спасти столицу от напастей с юга. Но это были уже кулаки после драки: юг теперь никакими опасностями не грозил, а укреплять следовало как раз запад, с которого и шла на Москву в следующие века вся иноземная рать.
Еще в 1825 году вокруг Донского монастыря расстилалось чисто поле. В начале 1870-х годов прямо за монастырскими стенами начали строить корпуса механического завода братьев Бромлей. Завод все советское время соседствовал с монастырем, только имя поменял. Красные пролетарии отобрали его у владельцев и присвоили свое имя – «Красный пролетарий». Но это теперь – история: не дымят в нынешнем веке в центре мировых столиц заводы. А памятники архитектуры – стоят.
Недалеко метро «Шаболовская», в двух кварталах – Ленинский проспект, а в Донском – монастырская тишь.
…За стеной, как близнецы,Встали новостройки.Снятся графам их дворцы,А графиням – бубенцыЗабубенной тройки.А что снится генералам Александру Деникину и Владимиру Каппелю и философу Ивану Ильину, не так давно перезахороненным в Донском монастыре? Россия без большевиков и Советов? А что Солженицыну, нашедшему там свое последнее пристанище? Бог знает.
Дом союзов
Колонный зал с благородными корнями
Время всласть потрудилось над зданием, стоящим на углу Охотного Ряда и Большой Дмитровки. Дом, построенный Матвеем Казаковым во второй половине XVIII века для генерал-аншефа Василия Михайловича Долгорукова-Крымского, несколько раз перестраивался, причем в первый раз – самим же первостроителем, подрос на этаж, изменил фасад и даже повернулся на 90 градусов. Про названия и назначение и говорить нечего: мы долго не могли понять, на какую букву следует о нем писать. Помог, смешно сказать, телефонный справочник – в нем здание по Большой Дмитровке, дом 1 обозначено как Дом союзов.
Адрес по Большой Дмитровке – это тоже правильно и, высокопарно выражаясь, исторически справедливо. Генеральский дом фасадом как раз на нее глядел. И был это настоящий усадебный дом с внутренним двором, со службами, все как полагается. Через пару лет после кончины московского главнокомандующего (позже эту должность переименовали в генерал-губернатора) его дом купили под Благородное собрание. Чтоб вы знали, Благородное собрание – это клуб дворянский такой. Вроде Английского, но попроще, подемократичнее. Тот же Матвей Казаков взялся перестроить усадьбу во дворец, для чего собрал все постройки в одно целое, а из внутреннего двора соорудил большой зал. Да, да, тот самый зал, что с тех пор называют Колонным. Именно так, с большой буквы. Все справедливо – это и есть архитектура с большой буквы, даром что только стены каменные. То, что во многих книжках названо беломраморными колоннами, на самом деле деревянные колонны, облицованные искусственным мрамором. Но это ведь не беда, что мрамор искусственный, – главное, что мастер был настоящий. Вот и стоит Колонный зал до сих пор, несмотря на то, что в пожаре Москвы горел. Потом он был восстановлен учеником Казакова – сам великий зодчий, рассказывают, не пережил известия о пожаре Москвы.
До 1917 года Благородное собрание славилось обедами да балами – на них плясала не только вся дворянская Москва, но и многие персонажи великой русской литературы. В революцию все благородство, включая собрание, уничтожили, а здание отдали профсоюзам. С концертами и детскими елками стали чередоваться съезды – Коминтерна, Профинтерна… А после того как в студеную зимнюю пору 1924 года советский народ попрощался в Колонном зале с вождем революции, за залом прочно закрепилась репутация траурного. Последним из него вынесли К.У. Черненко.
Долгоруковы, Дубасов, Джунковский
Генерал-губернаторы
Кто спорит, главу про генерал-губернаторов следовало бы поместить на букву «Г». Но так уж вышло, что сразу несколько заметных в истории Москвы первых лиц города носят фамилии на букву «Д»: два Долгорукова, Дубасов, Джунковский. И каждый стоит отдельного рассказа. Долгие годы мы прикладывали к ним и их, как бы поточнее сказать, коллегам советские клише: царские слуги, опричники самодержавия, реакционеры. Пора, ох пора, убрать идеологические шоры и протереть глаза.
Начнем со старшего из двух Долгоруковых – Василия Михайловича, который управлял Москвой еще тогда, когда его должность называлась «главнокомандующий» – с 1780 года. Совсем мальчишкой при Анне Иоанновне Василий Долгоруков успел прославиться в Русско-турецкой войне – брал Перекопскую крепость, отличился под Очаковом и Хотином. За что и получил прибавку к фамилии: Крымский. В Москве Долгоруков-Крымский начальствовал уже на склоне жизни, на посту и скончался. Но прежде успел наделать немало добрых и полезных дел. Не знаем, боролся ли Долгоруков с дураками, но вот дороги в Москве он устраивал – это проверенный факт. И начальником, и человеком, он, судя по всему, был неплохим: недаром современник написал, что он заслужил общую любовь добротой, доступностью и бескорыстием. Как хотите, а не каждый градоначальник похвастается двумя последними добродетелями!
Дальше, если по хронологии, нужно рассказывать о втором Долгорукове – Владимире Андреевиче. В отличие от Крымского Долгорукова, который пробыл на руководящем посту менее двух лет, этот представитель фамилии управлял Москвой невероятно долго: 26 лет. Справедливости ради добавим, что между этими двумя генерал-губернатором столицы был, среди прочих, еще Юрий Владимирович Долгоруков, но удержался он в начальниках недолго – чуть более полугода. Едва лишь он успел помыслить об очистке Яузы и высадить деревья вдоль Бульварного кольца, как был уволен от службы по клеветническому доносу.
Его однофамилец Владимир Андреевич, воцарившись в здании по Тверской, 13 – еще не надстроенном и не отъехавшем со старого места – так же рьяно взялся за благоустройство. Андреичу сильно помог технический прогресс: на вторую половину XIX века, время его правления, как раз пришлось изобретение газового освещения, конной железной дороги и много еще чего нужного в городском хозяйстве. В городе одна за другой проходили крупные выставки, открылся Исторический музей и наконец-то достроили храм Христа Спасителя. Владимир Андреевич даже попал в исторический анекдот, когда мошенник в его присутствии якобы продал генерал-губернаторскую резиденцию некоему англичанину. Не станем пересказывать эту историю, а отошлем любопытствующих к творчеству Б. Акунина, который использовал этот сюжет для книги об Эрасте Фандорине.
Москвичи сильно полюбили начальника-долгожителя и даже попросили переименовать в его честь кусок Новослободской улицы, что и было в 1877 году исполнено. От других Долгоруковых следа на карте не осталось – не считать же таковым Дом союзов, перестроенный как раз из усадьбы Долгорукова-Крымского, о чем вы только что прочли.
Морскому офицеру Федору Дубасову народной любви не досталось. Все семь месяцев (с конца ноября 1905-го по начало июля 1906-го) службы на посту генерал-губернатора Федор Васильевич сражался с восставшим народом. Воевал экс-командующий Тихоокеанской эскадрой жестко, но грамотно, занял вокзалы, почтамт, банк и телеграф (вам это ничего не напоминает?). Действовал не только силой, но и словом, уговаривал прекратить вооруженную борьбу и навести в городе порядок. С помощью пушек он порядок навел, в ответ в Дубасова бросили бомбу, но немного промахнулись. Царь намек понял и Дубасова от должности уволил.
Но кто нас потряс основательно, так это Владимир Федорович Джунковский. Четыре с половиной года его генерал-губернаторства – начиная с 1908 года – это золотой век культурной жизни Москвы. Собственно, благотворно влиять на московский быт Джунковский начал еще в свою бытность вице-губернатором. Именно при нем пышным цветом расцвела деятельность Народных домов как главного средства борьбы за народную трезвость, о чем мы подробно расскажем дальше. Генерал-майор продолжил добрые долгоруковские традиции открытия музеев, памятников, учебных заведений и прочих учреждений, способствроютующих просвещению. Его привычку лично участвовать в борьбе с то и дело приключавшимися в Москве стихийными бедствиями, вроде пожаров и наводнений, можно бы счесть популистской, не подвергайся градоначальник настоящей опасности. За то и полюбил его московский народ. Жить бы ему в этой любви долго и счастливо, да слишком хорошо удались генерал-губернатору торжества по случаю столетия Бородинского сражения. Особенно одобрил Николай II образцовую организацию охраны, которая не помешала ему общаться с народом. Царю, ей-богу, позавидует и наш президент, которого регулярно кроют за парализованный его и его гостей перемещениями город.
Понятно, что столь ценный кадр не оставили в Москве, а забрали в столицу на должность товарища (по-нашему – заместителя) министра внутренних дел и командира корпуса жандармов. Тут бы можно и закончить про Джунковского-москвича, но самое интересное впереди: во-первых, сразу семь уездных городов Московской губернии присвоили экс-генерал-губернатору (именно так, после того, как он ушел с этого поста!) звание почетного гражданина, а во-вторых, его деятельность в роли фактического руководителя политической полиции Российской империи заслуживает отдельного разговора.
В двух словах: районные охранки – упразднил, провокации – не одобрял, вербовать агентов из гимназистов и студентов – запретил. Мало? Так еще и агентов-большевиков вычистил: например, депутата Госдумы Малиновского. Опять недовольны? Ну, вот вам последнее доказательство честности и незаурядной отваги Джунковского: в июне 1915 года он лично представил царю доклад, уличающий в неблаговидных делах его любимца Распутина. За что немедленно поплатились – и Распутин, удаленный от двора, и Джунковский, уволенный без объяснения и так понятных причин. Знаете, что Владимир Федорович сделал? Добровольно отправился на Западный фронт. Те, кто еще не упал со стула, могут представить себе любого большого начальника, отбывающего в горячую точку немедленно после отставки.
В ноябре 1917-го Джунковского… ну конечно, арестовали, но, что удивительно, выпустили. Потом по ошибке, приняв в сумятице 1918 года за другого, забрали снова. Но уже не выпустили – пришили ему дело первой русской революции (не в смысле, если кто не понял, ее организации, а в смысле, наоборот – удушения). К счастью, в расход не пустили и через три года освободили. Позже он написал ценные воспоминания – в 1934 году Бонч-Бруевич купил их для Государственного литературного музея аж за 50 тысяч рублей. Но потратить деньги автор не успел. Полюбившие, вслед Создателю, троицу чекисты снова взяли Джунковского в 1937 году. И на этот раз довели до стенки.
Дом на набережной
Имя из книги
Театр эстрады, кинотеатр «Ударник», супермаркет, сотни жилых квартир и более десятка мемориальных досок – и все это в одномединственном доме. А еще отделение связи, прачечная, отделение Сбербанка, фонтаны во дворе… Дом этот называется «Дом на набережной». Именно так озаглавлена статья о доме с адресом улица Серафимовича, 2/20 в энциклопедии «Москва». Неизвестно, гордится ли дом этим именем (а дома наверняка многое чувствуют), но никуда ему теперь не деться. В 1976 году Юрий Трифонов написал повесть с таким названием о доме своего детства и его обитателях. Вот такая сила слова у мастера, что канули в небытие названия Дом ЦИК и СНК (под каким он возводился по мощному проекту Бориса Иофана) или более нейтральное – Дом правительства. Но Дому, скорее всего, не до имени – слишком много криков, стуков и плачей эхом проносятся по его закоулкам. Ведь никакие должности и былые заслуги не могли защитить от ночных визитов конца тридцатых, а, наоборот, притягивали черные крылья и когти «воронков», разлетавшихся по воле Хозяина по всей стране. И по концентрации таких визитов «на душу населения» Дом на набережной несомненный рекордсмен. А люди там до сих пор живут. Люди везде живут.
Дорогомилово
Дорогой дальнею, дорогой милою
Простой вопрос для начинающих краеведов: где в Москве в XIII веке находилась местность под названием Дорогомилово? Что за странный вопрос? – ответите вы. – Там же, наверное, где и сейчас: в районе Киевского вокзала и в начале Кутузовского проспекта. Нет, промазали: теперича, как шутят, не то что давеча – давеча, семь веков тому как, Дорогомиловым называлась вотчина Ивана Дорогомилова в районе нынешней Плющихи на противоположном, левом берегу Москвы-реки.
Что случилось с дорогомиловским владением за долгие три века – знают, может, только узкие, как средневековые улицы, специалисты по русскому Средневековью. Но из реки времени выныривает в середине XVI века уже не имение бояр Дорогомиловых, а Благовещенская и Дорогомиловская слобода ростовских архиепископов – вот оно как! Выходцы из этой слободы форсировали в конце того же XVI века реку Москву и основали на другом, правом берегу Дорогомиловскую слободу. А тут как раз к ним ямщиков из подмосковных Вязем переселили – и получилась Дорогомиловская ямская слобода с главною дорогой, которая сначала называлась Смоленской, раз вела в город Смоленск, а после, к XVIII уже веку, получила прозвище Большой Дорогомиловской улицы.
Впрочем, эксперт в вопросах старомосковской жизни Кондратьев в Ивана Дорогомилова, равно как и в Дорогомиловых с другими именами, не верит: русский человек, считает Иван Кузьмич, любит давать клички по каким-нибудь событиям. Таковым событием он счел ровность и гладкость смоленской дороги, отчего ее будто бы прозвали дорогой и милой. Как не согласиться с известным знатоком старины: гладкая дорога и сегодня событие в столице экстраординарное! Для тех, кому не нравится ни одно из приведенных объяснений, у Кондратьева припасена еще третья версия: брали, пишет он, ямщики из Дорогомиловской слободы с седоков дорого, но везли споро и по дороге приговаривали: «Дорого, да мило!»
Свою лепту в путаницу вокруг Дорогомилова вносит «Исторический путеводитель по знаменитой столице государства Российского» от 1831 года: честно признаваясь в отсутствии сведений о происхождении названия, он пишет про слободу, что «…оная существовала уже во времена Великого князя Иоанна III Васильевича». Учитывая, что упомянутый князь жил в середине XV века, а слобода, как ее описывает путеводитель, находится на нынешнем ее месте, то каша в голове заваривается крутая. Путеводитель 1907 года издания в проблемы происхождения названия не углубляется и о времени основания молчит – сообщает только, что «…разветвляясь у Смоленского рынка, Арбат продолжается налево Плющихой, а направо Дорогомиловской, которая через Бородинский мост ведет по ту сторону реки в Дорогомилово…»
Вот про мост как раз очень интересно: дело в том, что он тут не первый. Брод на этом месте существовал с незапамятных времен, в конце XVIII века на месте брода соорудили деревянный Дорогомиловский мост. Очень, надо сказать, кстати – как раз по нему прошла к Кремлю армия Наполеона. А к 100-летию Бородинской битвы на месте Дорогомиловского моста, ставшего к тому времени металлическим, архитектор Клейн с инженером Осколковым построили мост-памятник победе русского оружия в Отечественной войне 1812 года – Бородинский мост, о чем мы уже писали.
И совсем уж ничего ни об истории самой Дорогомиловской слободы, ни о ее названии не пишет путеводитель по Москве 1980 года издания. Единственное, что может узнать из этой книжки любознательный читатель: на месте бывшей Дорогомиловской заставы теперь высится обелиск, воздвигнутый в честь присвоения Москве звания «Город-герой». Честь-то высока, но отдавали ее сомнительно – памятник в виде 40-метровой стелы, увенчанной Золотой Звездой и окруженной фигурами солдата, рабочего и колхозницы, вышел настолько бездарным, что мигом заработал меткое прозвище: «бутылка на троих».
Душкин
Метростроитель
Какая станция метро лично вам нравится больше всех? Наши симпатии, например, делятся между «Маяковской» и «Кропоткинской». Но мы особенно на эту тему не спорим. Знаете, что нас примиряет? То, что архитектором и той и другой был Алексей Душкин. Кстати, наши симпатии имеют и международное подтверждение: макет «Кропоткинской» награжден Гран-при на выставках в Париже и Брюсселе, а «Маяковской» – в Нью-Йорке. А еще с Душкиным сотрудничали замечательные художники: панно на «Новослободской» работы Павла Корина, мозаичные плафоны на «Маяковской» – Александра Дейнеки, скульптуры на «Площади Революции» – Матвея Манизера… А еще украсил Москву Алексей Душкин высоткой у Красных Ворот, построил «Детский мир». Но высшие его достижения, простите за каламбур, все же находятся под землей.
Не удержимся, отдадим дань любимой «Маяковской». Самоцветы в стальном обрамлении, сформованное арками пространство, уносящее к облакам, даром что под землей стоишь, – достойная визитная карточка всего московского метро. Можно сказать, монумент. А еще и второй памятник поэту. Но если первый, наверху, – тому, что отдавал свою звонкую силу атакующим, то этот, подземный, работы Душкина, – футуристу и лирику. Сознаемся: это не наша мысль, это мы у Юрия Олеши прочли: «Стальная кофта Маяковского, сказало мне воображение. Вот как хорошо: он, носивший желтую кофту футуриста, теперь может предстать перед нами в стальной кофте гиганта». И у Душкина увидели.
«Детский мир»
Дитя Ушинского и Душкина
Невидимая рука рынка перевела стрелки в наших головах. Сегодня в это невозможно поверить: 25 июня 1985 года Министерство торговли РСФСР выпустило приказ № 176, согласно которому в каждом городе с населением свыше 100 тысяч человек детский универмаг площадью более 2500 квадратных метров обязан был называться «Детский мир». А начиналась детскомиризация всей страны в Москве в 1947-м на улице Кирова, в тех самых залах, где сегодня крутится «Библио-Глобус». И не от сладкой жизни.
Великая Отечественная война сгубила миллионы советских людей. Партия и правительство кнутом и пряником стимулировали рождаемость: усложнили развод, ввели налог на бездетность, увеличили пособия на семью и решили наоткрывать хороших детских магазинов. Названием щедро поделился великий русский педагог Ушинский: еще в 1861 году он выпустил книгу для начального чтения «Детский мир».
Размаху саженьих шагов магазин на Кирова никак не соответствовал. Созвучное эпохе и задачам здание взялись строить на месте старого Лубянского пассажа. Пассаж пришлось снести, за что архитектора Душкина хорошо поклевала творческая общественность. Нынче мнения расходятся: кто причисляет «Детский мир» к шедеврам, иные уверены, что это не самая удачная работа создателя настоящих архитектурных шедевров – станций метро «Маяковская», «Кропоткинская», «Новослободская». В рекордно короткий срок те же метростроевцы отгрохали самый крупный в Европе детский универмаг торговой площадью в 22 тысячи квадратных метров, что вдвое больше старого ЦУМа. Первыми в день открытия, 6 июня 1957 года, отоваривали строителей, на следующий день запустили остальное население. Товаров на все этажи не хватало, и наверху стыдливо ютился взрослый ассортимент. Правофланговый советской детской торговли гордится: именно здесь поползли первые в торговом здании эскалаторы, как раз тут продали первые детские колготки. И очереди в «Детском мире» тоже стояли рекордные – и не только с 8 до 20, но и все годы советской власти. Пока их не задушила невидимая рука рынка.
Дубровка
Как в кино
Ежели кто помнит – а кто не помнит выученную советскими людьми практически наизусть божественную комедию Гайдая «Бриллиантовая рука»? – незабвенный Семен Семеныч Горбунков ехал в финале на дачу в Дубровку. Легко предположить, что из всех москвичей этот факт больше всего позабавил жителей 1-й и 2-й Дубровских улиц, 1-го Дубровского проезда и просто Дубровского проезда. Впрочем, возможно, мы путаем: проезда под номером 1 и безномерного Дубровского проезда ко времени выхода фильма, похоже, не существовало – во всяком случае, в справочнике «Имена московских улиц» 1979 года издания они не фигурируют.
Но как бы то ни было, земляками киногероев местные жители ощутили себя не напрасно: была, была здесь деревня Дубровка – ровесница князю Дмитрию Донскому. Четыре века деревня принадлежала Крутицкому архиерейскому подворью, что стояло рядышком с ней на крутом же берегу Москвы-реки, а потом зажила отдельной деревенской жизнью. Но вот дачным местом, врать не будем, московская Дубровка не стала – здесь, на краю Сукина болота, воздух был напоен не ароматом трав, а вонью скотобоен, полей орошения и свалок.
Кому здесь жить? Ясно, что не чистой публике: с началом XX века деревня превратилась в рабочий поселок, а потом и в рабочую окраину Москвы. Как раз этот, самый что ни на есть пролетарский район – недаром и станцию метро, построенную тут в 1966 году, назовут «Пролетарской» – порешили сделать площадкой для борьбы за образцовый коммунистический быт. Не скажем «микрорайон» – слово появится много позже, – назовем это на языке двадцатых «жилмассивом»: не три, не пять – двадцать пять пятиэтажных благоустроенных домов выросли здесь в 1926-1927 годах. То был чуть ли не первый в Москве пример комплексной застройки: детсады, школы, столовые, бани и тому подобные коммунальные радости, призванные освободить женщину от домашнего труда и окунуть ее целиком в труд общественный. Впрочем, почему был: Дубровка никуда не делась, ее даже в конце семидесятых реконструировали. Так что памятники эпохи конструктивизма с теплым сортиром и ванной, воспетой современником великой стройки Маяковским («удобней, чем земля обетованная!»), по-прежнему обрамляют 1-ю Дубровскую улицу. А там, где она уже переходит в Шарикоподшипниковскую, несколько лет назад открыли новую станцию метро «Дубровка» – тезку деревни, жилмассива и дачного поселка из любимого народом кино.