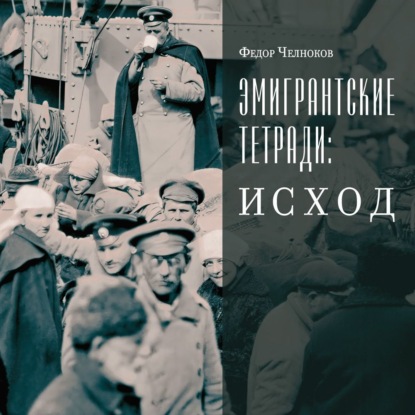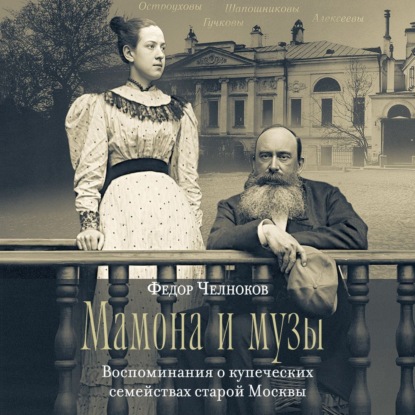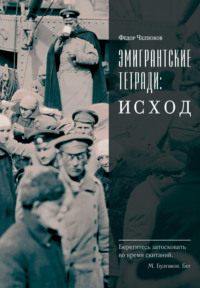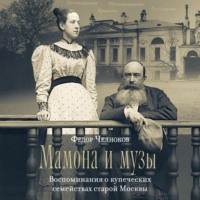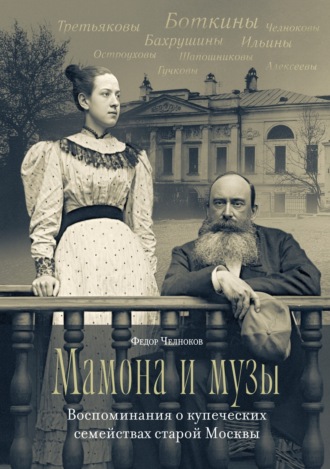
Полная версия
Мамона и музы. Воспоминания о купеческих семействах старой Москвы
Такая же феерическая карьера, и благодаря Петру Петровичу, была сделана и Швецовым, и спутником нашего Сергея Васильевича Печатновым, командированным с братцем вместе. Но наш вернулся с пустыми руками, а у Печатнова образовались миллионы. Петр Петрович умел находить людей и с пользой для себя давать им соответствующие дела. И не одни те, кого я назвал, оказались впоследствии гораздо богаче Боткиных. Эти карьеры были на глазах у всех служивших Петра Петровича, и всякий старался быть ему полезен, устраивая тем свою судьбу.
Надежда Кондратьевна оставалась все та же. Хоть дом их наполнялся иногда высшей аристократией Питера и Москвы, она либо просто не появлялась, либо выходила в своем чесучовом костюме и была важней всех аристократов, лобызавших перед боткинскими миллионами. Однажды прикатил к ней граф Шувалов, посол в Берлине. Остановившись у подъезда, он послал о себе доложить своего лакея. Надежда Кондратьевна сидела в это время на своем балконе, вдыхая весенний воздух. Матвей пришел с докладом. Ответ был: «Передайте, что благодарю, но не принимаю». Так этот великий дипломат и уехал со двора; не видать ее на балконе он не мог, так как он был над самым подъездом.
Замужество дочерей почему-то не ладилось у Петра Петровича. Аннета наконец вышла замуж за Василия Алексеевича Андреева, брата Лизиной подруги. Аннете было лет под 30. Как это случилось, так я думаю, никто этого потом объяснить не мог. Но жених совершенно не годился для нее. Андреевы имели старинный колониальный магазин на Тверской на углу против генерал-губернаторского дома, торговали тоже чаями, были богаты, но сам Василий Алексеевич для женитьбы не годился. Он казался влюбленным в Аннету, прилетал к ним во двор на неоседланной лошади. Прозорлив был Петр Петрович в делах торговых, а тут оплошал, не заметил, что имел дело с человеком ненормальным. Вышла Аннета за него и с первого же дня узнала, что сделала ошибку непоправимую. Пожалуй, года три, а то и пять носила она фамилию Андреевой, чувствовала себя плохо, расстраивались нервы, наконец получила развод и стала опять Боткиной. Петр Петрович не знал, как ее и утешить.
Аннета поселилась теперь у них в квартире, которую занимал брат Михаил [Петрович] после своей женитьбы. Ей было предоставлено все: свои выезды – дивная пара белых лошадей даже была у нее куплена в золотую карету императрицы А. Ф., когда та ехала короноваться. Нужно знать, что молодые, абсолютно белые лошади, да еще чистых кровей, являются страшной редкостью и всегда стоили громадных денег, а собрать пару было еще трудней, недаром Николай Шапошников ускакал так таинственно из Москвы. Помню Аннету на этой паре в голубой плюшевой тальме с белым козьим мехом и ливрейным лакеем на запятках. Словом, тут вся скромность и бедность Надежды Кондратьевны полетели вверх тормашками. Коричневые платья превратились в роскошные туалеты от Лион, Минангуа и Ворт.
Московская жизнь Аннету не удовлетворяла, да и скандал был слишком свеж, вся Москва обсуждала его на разный лад. Аннета стала уезжать в Питер к Сергею Петровичу, там влюбилась в своего кузена, но он не отвечал на ее поздний «амур». Она стала уезжать надолго в Париж и вообще за границу. Кузен приезжал туда тоже, на роскошную жизнь у него денег не хватало, тогда Аннета дарила ему ящики из-под сигар, где вместо сигар лежали свертки с золотом. Он принимал, но не любил [ее] и укатил в Америку, где и женился на американке. Аннета писала домой все реже и совсем перестала. Петр Петрович послал в Париж кого-то, но там ее не оказалось; начались поиски и наконец ее нашли в По, на границе с Испанией, но она была уж сумасшедшая. С большим трудом ее перевезли в Париж и поместили в лечебницу Шарко; но ничего помочь не могло. Тогда ей был выстроен прекрасный дом при Мещерской психиатрической больнице Московского губернского земства, где тогда служил наш Миша. Ее привезли сюда из Парижа, и она оставалась все там под самым бдительным призором до самого моего отъезда из Москвы. Так она и не узнала о смерти отца, матери, сестры и всего, что творилось в Москве. Бедная Анюта, как-то теперь протекает ее жизнь? Хотя теперь ей уж лет под 70, может быть, Бог ее и убрал.
Гучковы
У Петра Петровича оставалась еще Вера, которая вышла замуж за Н. И. Гучкова.
Этим браком Петр Петрович мог быть доволен. Гучковы – староверы из старой Москвы. Были они богаты, но растрепались, однако по Москве имя еще было громкое. Их отец был женат на француженке. Французская кровь освежила устаревшую гучковскую, и молодые Гучковы проявили себя на разных поприщах как люди деятельные. Одним деятельность их нравилась, другим нет, но не в том дело. Садясь писать, я не брался судить, а хотел лишь записать свои воспоминания и личные впечатления. Николай Иванович[74] был в то время меньше среднего роста, недурно сложен, недурен собой, с черными волосами и усиками. Вид был у него развязный; говорил – как из решета горох сыпал.
В это время он был уж заметным гласным Думы. Возился и в своем деле, кажется суконном, но без блестящих результатов, что показывало, что к торговле у него способностей не было. На свадьбе я не был, но была она какая-то необыкновенная. Началась она в Москве у Боткиных в доме, венчались на Рогожском кладбище, на самой окраине Москвы, а оттуда через весь город ехали в имение Поповку, так что было совершено целое путешествие. Не знаю только, было ли второе венчание в нашей церкви. Хотя, по богомолью Петра Петровича, надо думать, что без этого не обошлось.
После свадьбы вскоре Гучков был в боткинском деле. Петр Петрович, думается, уж рад был передать бразды новому человеку: уж и он, и Димитрий Петрович наработались, сын Димитрия Петровича Петр для этого не годился. Николай Иванович скоро занял там, хоть и из-под руки Петра Петровича, хозяйскую позицию. Он начал вкачивать в старые меха новое вино. Приблизительно в это время или раньше немного Боткины открыли сахарный завод в Таволжанке в Харьковском районе. Управляющий его, Иост, дельно повел завод, и дело оказалось блестящим.
Вступив в фирму, Николай Иванович, глядя на невероятные дивиденды «Константин и Семен Поповы», захотел и свое чайное дело пустить по образцу поповского, но упустил из виду одно обстоятельство. Поповы закупали чаи без комиссионеров, посылая ежегодно из Москвы скупщика чаев, редкого знатока их, нашего приятеля, Алексея Николаевича Изгарышева. Поповы держались принципа, не давая пользы комиссионерам, на манер Боткинского Швецова, богатевшего не по дням, а по часам, пустить чай через свои магазины, избавившись от вторых рук. Таким образом получилось, что и заработок комиссионеров, и вторых рук оставался у Поповых, да и чаи, покупаемые знатоком и верным человеком, приходили дешевле и быстрей в Москву, что имело громадное значение. Значение имело и то, что Поповы первые додумались до этой комбинации и забрали колоссальные барыши.
Боткины же закупку оставили по старой системе, то есть чаи закупались их комиссионером А. В. Швецовым через его комиссионеров в Китае. Все пользовались, а Швецов больше всех, даже Боткиных. Оставив старый способ закупки, Боткины стали открывать свои магазины, сдавая их под отчет людям, в том числе и Ф. А. Мякишеву.
Получилась неожиданная картина. Поповская розница торговала нарасхват, так как публика уж привыкла к поповскому этикету[75], а боткинские чаи появились как бы внове, так как до сих пор они торговали только оптом, а покупатели их имели свой круг покупателей. Отказавшись от старых покупателей, Боткины потеряли их, так как тем стало выгодней покупать поповские чаи, уже зарекомендованные, и Боткины стали в позицию конкурентов с самими собой. Магазины же требовали больших расходов, требовали запасов чая, который расходился медленно, арендаторы магазинов задерживали часто выручку, а то и просто оказывались недобросовестными. Пошли неплатежи, так сказать, самим себе. Фирма Боткиных к таким пассажам не привыкла, тогда Николай Иванович, находя старых людей непригодными в его новых «мехах», этих людей разогнал, поставив новых. Он ставил людей с делом совсем не знакомых и тоже со «всячинкой» – и пошло падение знаменитой фирмы. В деньгах стало туго, а товар лежал, от лежания он лучше не становился, покупатель стал уходить. Конечно, дело рухнуло не в один день, но старому Петру Петровичу пришлось наблюдать, как оно поползло под гору, на которую он тащил его всеми способами своего сложного характера. Теперь выручал только сахарный завод.
Ведя так «блистательно» боткинские дела, Николай Иванович не мог удержать прыти соственного дома. А он несся вскачь, грозя расшибить и фундамент, на котором он стоял. Семья его стала быстро расти. У Петра Петровича родились каждый год столь долгожданые внучки, а наконец дождался и внуков: Петюнчика и Колюнчика, а при них четыре сестры. К этим малышам был приставлен невиданный персонал. Всех людей у Веры в доме насчитывалось до 40 человек, кроме семьи.
Трудолюбие и бедность, которыми старалась Надежда Кондратьевна напичкать дочерей, уступили место находчивости. Вера стала проживать до 300 000 рублей в год. Действительно, нужно было иметь находчивость, чтобы тратить такую уйму денег. Петр Петрович, потеряв вожжи, мчался с дочкой в этой бешеной скачке. Сколько нужно было денег, чтобы содержать свой дом со всеми причудами Надежды Кондратьевны, которая только и думала теперь что о внуках, во что обходилась Надя с нарождавшейся картинной галереей; чего стоила Аннета, в первое время еще здоровая, а потом в больнице, а содержание сумасшедших – самое дорогое [дело] из всех, да еще на боткинский масштаб. Но и отцовское завещание не потеряло силы; семья Димитрия Петровича жила целиком за счет конторы, в Питере. Словом, было о чем задуматься Петру Петровичу.
А старость накладывала свою лапу. Бедная Надежда Кондратьевна стала впадать в младенчество. Решено было, что Вера переезжает в отцовский дом. Ее дом у Никиты Мученика близ Старой Басманной опустел и, кажется, был продан. Контора из дома выехала в громадное правление фирмы на Устьинской набережной. Помещение это стало обставляться старинной мебелью, так как она стала входить в моду. Для этого существовал драпировщик Волков, только тем и занятой, чтобы рыскать за мебелью, случайно продававшейся; на его же обязанности было перевешивать картины. Смотрит Вера на картину, и захочется ей видеть ее в другом месте, при другом освещении – являются волковские мастера, уж просто жившие в доме, снимают картину и вешают на указанное место. Но и там нужно снимать что-то, а эта в новом освещении оказывается нехороша, нужно найти и для нее место – так и шла бесконечная перетасовка.
Николай Иванович, не желая отставать от свояка и моды, тоже покупал, что подвертывалось, но не слышно было, чтобы покупки были удачны. Он покупал разное картинное старье. Был он городским головой, для приемов нужна была зала, а при стариках она исполняла должность столовой, но и столовая нужна городскому голове. Думали-думали и решили сломать зимний сад и на месте его сделать столовую. Зимний-то сад был небольшой, а тут требовалась столовая не меньше залы – и погнали новую стройку с самой земли. Вышел целый дом в 3 этажа: нижние пошли под Верину прислугу, а в верхнем стали проедаться боткинские береженые денежки.
Эх, «скоро шар катится, коль под гору идет». С ним же катился и Петр Петрович. Здоровье стало падать, ноги [всё] хуже. В последний раз я видел его приехавшим с прогулки, а наверх его принесли уж в кресле. Было это зимой, а летом он кончился.
Бедная Надежда Кондратьевна и не узнала, что он умер, так как уж окончательно впала в детство. Еще года два после его смерти она жила и все кричала, кричала день и ночь. Но дом был громадный, и крик этот слышался лишь в районе, где было ее помещение. При ней было штуки три сестер. Жизнь же шла в доме все тем же аллюром. Наконец и она скончалась.
Я на похороны не попал, так как был за границей, но поехал на 40-й день и мало народу нашел в церкви. Были только свои. Над могилами этих старых людей, каких уж не народится в Москве, возник памятник в новом стиле, как эмблема того, что начали они складно, а кончили по-декадентски. На памятнике изображены их портреты в виде барельефов.
Гучковские дети росли в условиях совершенно особенных: если мать их приучали ко всевозможным лишениям, то этих приучали к излишествам. К визитам к Иверской и в собор Петр Петрович прибавил теперь ежедневный визит к Вере и каждый день каждому ребенку привозил по игрушке. Архипычу пришла забота, какой он не видал за все долгие годы службы у Боткиных. Вере нужно же было находить все новые и новые игрушки, каких у ребят не было, – у них образовался целый магазин, ими была занята целая комната. Неудивительно, что дети потеряли к ним всякий интерес. Пришло время такое, что Архипыч сбился с ног, больше найти не мог игрушек, каких у детей не было. Он отправился тогда на базар, там купил самые грубые и дрянные игрушки, только дети кухарок употребляли такие. Петр Петрович разнес старика за такую покупку, но других не было, пришлось ехать с чем Бог послал. Удивлению его не было границ, когда дети, получив эти игрушки, пришли в неистовый восторг. Таких они еще не видали – их можно было швырять и ломать без нотаций со стороны бесчисленных воспитательниц!
А воспитательниц было сколько угодно. В доме жили: француженка, немка и англичанка; была специально такая, что наблюдала за физическим развитием детей. Ежедневно ставились им градусники, делались кому надо бульки, ванны, все, что мог выдумать бездельный человек для заполнения своего времени. Все дети в своих туалетах не видали другого цвета, как белый, почему вечно слышали окрики нянек и гувернанток, что они испачкаются. Они не могли бегать, как хотели, играть, как хотели: костюмы могли быть запачканы! Дети росли хилыми и вялыми. За границу Вера ездить не любила, но взваленные ею на себя невыносимые заботы принудили наконец докторов заставить ее ехать хоть отдохнуть от такой канители. И она уехала, отдав детей на лето бабушке. А та распорядилась сшить им костюмы из любимого ей сурового полотна, были сделаны такие же фартуки, в саду насыпана гора песку, появились грешники, и дело пошло на лад. Ребята просто стали счастливы, поднялась возня, появилось баловство, они ожили и к приезду мамы приняли такой вид, что она только удивлялась, что случилось с детьми.
Сделавшись «головихой» и пустившись вовсю, она была окружена умными людьми, то есть братцами Гучковыми, которые тоже помогали растаскивать боткинские карманы вплоть до того, что ездили на их лошадях. Кроме них, появились всевозможные деятели, и близким Вериным людям в этой компании стало делать нечего. Даже наша Лиза почти не бывала у нее. Но однажды попала: Вера была бесконечно рада отвести душу со старым другом, которому и поведала, что она чувствует себя, как в стае собак, которые все время ее терзают всевозможными протекциями, просьбами, заступничеством, что она так утомлена всем этим, что от нее остались кожа и кости. И действительно, силы ее оставляли, ей только оставалось лежать, не имея определенной болезни. Это продолжалось до тех пор, когда таковая наконец появилась и на почве истощенного организма сделала то, что Вера в короткое время сошла в могилу лет около 50.
Очень удивительно, что все усилия Веры сделать из детей своих уродов пропали даром. Сколько мне ни приходилось слышать о них, всегда отзывы были как о милых и скромных людях. Вера желала, чтобы дочь моя была знакома с ее детьми, но непомерный ход Вериного дома всегда смущал мою жену, и из нашего знакомства вообще ничего не вышло.
Еще при жизни Веры две ее дочери вышли замуж. Одна вышла за Карпова – одного из 18 Карповых, внуков архимиллионерши Марии Федоровны Морозовой, оставившей после своей смерти одними деньгами 50 000 000 и неисчислимые богатства, заключавшиеся в паях Никольской мануфактуры Саввы Морозова с сыновьями. Она была вдовой Тимофея Саввича, учредителя товарищества, и матерью Саввы Тимофеевича, жена которого, Зинаида Григорьевна, была столь прославлена в Москве.
Другая сочеталась с сыном Николая Ивановича Прохорова, тоже архимиллионером, заказавшим однажды для какого-то из своих юбилеев моему портному Оттен, считавшемуся одним из первых в Москве, разом 40 ливрей по самой последней моде для своей многочисленной челяди. Правда, подобный случай был: Д. П. Боткин, желая справить свою серебряную свадьбу, поставил условие «Эрмитажу»[76], чтобы вся прислуга была в новых фраках. Но то был «Эрмитаж»: [заведение] содрало с Боткина по 100 рублей с персоны, чем дело и кончилось. А тут частный дом: Прохоров должен был содержать целый ресторан, чтобы только кормить свою челядь. Так валяло наше первостатейное купечество, пока революция без разбора не свалила всех в голодную яму.
Судьба других детей Веры мне неизвестна. Одного сына я видел у нас на концерте, он показался мне очень милым и приличным юношей. Грубый же и скверно воспитанный Прохоров, как было слышно, был посажен большевиками в Андроньев монастырь, где, кажется, сидит и до сих пор. Другого сына Прохорова, Гришу, мне пришлось видеть в Ялте: этот юноша потерял облик человеческий и от трудной походной жизни, и от беспробудного пьянства. Лицом он напоминал отца, но оно обратилось в какую-то раздутую подушку с пьяными глазами.
Про братьев Гучкова много распространяться не буду. Деятельность Александра Ивановича всемирно известна. Она, как тесто, в значительной степени за отсутствием на земном шаре гучковских денег взошла на боткинских дрожжах. Вместе с Д. Н. Шиповым, другом и учителем в политической жизни моего брата, Михаила Васильевича, они основали партию «17 октября»[77], в основе которой лежит монархия. Гучков собственноручно сорвал корону с головы несчастного Николая II, как говорили, из личной мести. Он, мечтавший быть военным министром, сделавшись им, уничтожил армию приказом № 1. Он, питавшийся боткинскими деньгами, старавшимися всеми мерами покрепче нахлобучить корону на голову царя, разрушил царство – конечно, не один, но с помощью таких же «умных» людей, как сам.
Мне пришлось видеть его однажды по делу. Был он в конкурсе по долгам [семьи] Гирш, дом [которых] был заложен у меня и братьев Сырейщиковых по второй закладной. Дом был громадный, в полном беспорядке, но очень ценный. Кредитному обществу проценты не платились, нам угрожала покупка этого дома, чего мы не желали. Я поехал говорить с Гучковым. Совершенно соглашаясь со мной, что Гирши теряют много, теряя дом, он обещал принять все меры спасти имущество от торгов. Я уехал успокоенный – через неделю дом принадлежал нам. Мы понесли от этой покупки довольно значительный убыток, но не от дома, а потому, что не хотели затрачивать на него денег, хотели развязаться с ним скорей и, торопясь, продали его разом двум покупателям. Пришлось одному платить неустойку; продавая и покупая в короткий срок приходилось платить две дорогие купчии, что в общей сложности и дало нам убыток. Оставайся дом в руках у Гиршей – эти опасности им не угрожали, а займись Гучков добросовестно этим делом, оно принесло бы конкурсу – а следовательно, и Гиршам – пользу.
Другое свидание произошло в амбаре у Василия Алексеевича Бахрушина. Гучков уж был на дороге к своей печальной славе. Бахрушин был туз на всю Москву. Я сижу у старика, вдруг потихоньку, очень медленно, открывается дверь и в ней постепенно обрисовывается фигура Александра Ивановича. Он входит и останавливается у двери, кланяется всей спиной и, потирая руки, заискивающим голосом приветствует старика, который, увидав его, приглашает взять место. Потирая руки и продолжая кланяться всей спиной, Гучков подошел здороваться с Бахрушиным. Я встал и уехал – он был мне противен и в эту минуту, и за гиршевский дом.
Александр Иванович представляется мне авантюристом чистой крови. Случилась война с бурами – он там добровольцем; случилась война с Японией – он там в Красном Кресте; случилась свадьба брата на Боткиной – он уж в боткинском кармане. Случилась Дума на Руси – он председателем ее; произошла революция – он дерет корону с Николая. Служа раньше во «Взаимном кредите» в Москве, он все время своих похождений получал от этого банка свое содержание. Бывали ссоры, и дуэли, и гам на всю Россию. Не без боткинских денег, вероятно, братец Федор Иванович издавал какую-то газету, раздувая популярность своих старших братьев. А младший Константин тихою стезею служил в кредитном о-ве и купил себе хороший дом, занял место председателя Московского городского взаимного страхового о-ва и благодушно выглядывал себе имение, которое и купил. Когда пришло время всем удирать из Москвы, Федора Ивановича уж не было, он скончался. Александр Иванович оказался в Берлине, потом Париже, а теперь, вероятно, в вагоне, так как видали его в Константинополе, и в Америке, и в Сибири, где, мне кажется, ему и следовало бы остаться.
Братцы Николай и Константин оказались [после революции] в Ялте. Николаю Ивановичу во время войны удалось избавиться от Таволжанского сахарного завода, сделав блестящее дело; он купил дачу близ Гурзуфа, где прохлаждался и толстел. Константин Иванович худел и торговал вином Николая Ивановича, а потом открыл магазин случайных вещей, составляя из слез и горя продающих свое благополучие. Он укатил в Севастополь продавать чужие бриллианты, потому что знал, что там цена на них была чуть ли не в полтора раза выше ялтинской.
Это случилось в тот момент, когда Крым рухнул. Константин Иванович застрял в Севастополе, а я и Николай Иванович попали на пароход «Георгий». Увидав меня, он спросил: «Вы тоже едете?» Но так как пароход стоял, то я ответил: «Пока нет, но надеюсь, что нас успеют эвакуировать благополучно». На это он громогласно и с апломбом стал уверять меня, что никаких большевиков в Крыму не будет, а что он едет только к брату в Севастополь. Этот разговор шел в то время, когда на «Георгия» грузились раненые и больные, и все учреждения Красного Креста, где он играл роль главноуполномоченного, зная, конечно, что пароход никуда, кроме Константинополя, не пойдет. Он говорил настолько громко, что окружавшая нас толпа прислушивалась к словам столь известного человека, и вдруг из гущи этой толпы раздался знакомый мне голос: «Врет, как зеленая лошадь». Гучков оглянулся и, закончив разговор, вмешался в толпу.
Гучков устроился под Константинополем на вилле, где было много русских. Мне приходилось раза три быть в Южнорусском банке Рябушинских, и каждый раз я встречал его там. Что он там делал – не знаю. Константин же с великим успехом и рвением продолжал и в Константинополе строить свое благополучие на слезах беженцев, открыв через неделю после нашего прибытия на Пера[78] магазин случайных вещей. Сам он говорил мне, что за первый месяц было выдано участникам по 20 процентов чистой пользы. Хлебнул он и моих слез.
Остроуховы
Как вышла замуж Надя, у меня не сохранилось в голове, вероятно, в то время меня не было в Москве. С Ильей Семеновичем Остроуховым[79] она прожила свой век, что называется, ни шатко ни валко. Особенного счастья тут быть не могло, так как уж очень он был груб. Надя выходила замуж тоже немолодая, за человека без всяких средств. Выигрышные его билеты в количестве двух-трех штук были заложены перед свадьбой в конторе Сырейщикова, а после свадьбы были выкуплены. Значит, нужда миновала. Был он художник не без дарований, так как П. М. Третьяков нашел возможным пару его пейзажей поместить в своей галерее. Но быть пейзажистом не велика слава. Умный Илья Семенович, вращаясь в третьяковском кругу, конечно, познакомился и с Боткиными и предпочел богатую женитьбу полуголодному существованию пейзажиста.
Поженившись, они поселились в Трубниковском переулке, в особняке, принадлежавшем Петру Петровичу. Первое время женитьбы он еще занимался живописью, но потом, вероятно, рассудил, что чем меньше будет его картин, тем они будут реже, а следовательно, и ценней, и постепенно он это дело забросил. Петр Петрович позаботился о нем и дал место директора в их только что основанном товариществе, и художник стал директором чайного товарищества, что давало Илье Семеновичу у себя дома независимое положение. Каким он был директором, предположить нетрудно, но боткинское дело пострадать не могло, так как старых, умных голов было там достаточно.
Но Илья Семенович был действительно умный человек, художественное образование он воспринял в совершенстве. Обладая вкусом, знанием, умением пробраться, куда другим это не удавалось, он начал собирать картины. Когда в обмен на свои, когда выпрашивая у художников, когда за деньги, но коллекция его стала расти. Картин крупных у него не было, все были полотна небольшие, но каждое полотно выбиралось с тонким знанием дела, почему она скоро обратила на себя внимание, стали даже сравнивать ее с галереей Третьякова. Но, по-моему, это не так, с Третьяковской галереей ее равнять не приходится, а считать собрание Ильи Семеновича как дополнение к Третьяковской галерее нужно, так как мелкие произведения показывают постепенное развитие таланта, а крупные – это окончательный вывод целого ряда подготовительных работ, и в этом отношении, пожалуй, собрание Ильи Семеновича даже интересней галереи П. М. Третьякова.