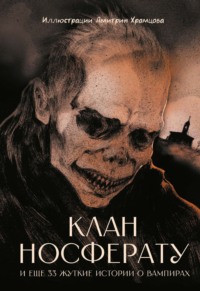Полная версия
Опасные видения
Но Мама слишком много тратит и зависима от азартных игр – этот грешок лишает ее гарантированного дохода. Я считаюсь мертвым, поэтому не получаю пурпурное пособие. Чайбу приходится все это наверстывать, продавая или выменивая свои картины. Лускус помог ему с известностью, но так же легко может и предать. Да и денег от картин все равно не хватает. В конце концов, деньги – не основа нашей экономики, это редкое вспомогательное средство. Чайбу нужен грант – но он ничего не получит, если не согласится спать с Лускусом.
Но Чайб отвергает Лускуса из принципа. Не хочет ложиться под первого встречного ради карьеры. К тому же Чайб замечает кое-что неправильное и глубоко заложенное в нашем обществе. Прав он или нет, но для него это важно.
А значит, Чайб может отправиться в Египет. Но что тогда будет со мной?
Не задумывайся обо мне или матери, Чайб. Что бы ни случилось. Не поддавайся Лускусу. Помни предсмертные слова Синглтона, директора Бюро переселения и реабилитации, который застрелился, так и не свыкнувшись с новыми временами.
«Что, если человек обретет весь мир, но лишится собственной задницы?»
И тут Дедуля видит, как его сын, шагавший понурив голову, вдруг распрямился. И видит, как Чайб пускается в пляс – короткий импровизированный шафл и затем несколько оборотов. Очевидно, что Чайб радостно вопит. Прохожие довольно улыбаются.
Дедуля стонет, а потом смеется:
– О боже, задорная сила молодости, непредсказуемые перепады от черной тоски к ярко-рыжей радости! Пляши, Чайб, пляши до упаду! Будь безумно счастлив – хоть на миг! Ты еще молод, еще клокочет в тебе необоримая надежда! Так пляши, Чайб, пляши!
Он смеется и утирает слезу.
«Сексуальное толкование атаки легкой бригады»[55]– такая увлекательная книга, что доктор Йесперсен Джойс Бафименс, психолингвист Бюро групповой реконфигурации и интеркоммуникабельности, никак не может оторваться. Но долг зовет.
– Редис необязательно «красный», – наговаривает он в диктофон. – Юные Редисы назвались так потому, что редис – это радикула, а значит, радикален. Есть тут отсылки и к корням, и к тому, что хрен редьки не слаще. И несомненно, «бредис» – диалектизм Беверли-Хиллз для отвратительного, мятежного и социально невоспитанного человека.
И все же я бы не назвал Юных Редисов левыми: они олицетворяют нынешнее неприятие текущей Жизни в Целом и при этом не предлагают свою радикальную политику реконструкции. Они орут на то, Как Все Устроено, будто обезьяны на деревьях, но от них не дождешься конструктивной критики. Они хотят разрушать, не задумываясь о том, что делать после разрушений.
Короче говоря, они символизируют нытье и ворчание среднего гражданина, а отличаются разве что организованностью. Таких групп, как они, тысячи в одном ЛА и наверняка миллионы – по всему миру. У них было нормальное детство. Вообще-то они родились и выросли в одной кладке – это одна из причин, почему я отобрал их для исследования. Что за явление создало десять творческих людей, которые воспитаны в семи домах Зоны 69–14 примерно в одно время, практически росли вместе, поскольку их отправляли вместе в ясли в кладке, где матери присматривали за детьми по очереди, что… на чем я остановился?
Ах да, нормальная жизнь, одна школа, друзья-приятели, обычные несерьезные сексуальные отношения между собой, вступали в подростковые банды и участвовали в довольно кровавых сражениях с вествудской и другими бандами. Однако все десятеро отличались интеллектуальным любопытством и проявили себя в творчестве.
Предполагалось (и может быть правдой), что отец одного из них – это таинственный незнакомец, Рэли Ренессанс. Это возможно, но недоказуемо. В то время Рэли Ренессанс проживал в доме миссис Виннеган, но при этом проявлял необычную активность во всей кладке и, собственно, во всех Беверли-Хиллз. Откуда он, кем был и куда пропал – до сих пор не известно, несмотря на тщательный розыск нескольких агентств. У него не было ни удостоверения, никаких других документов, и все же долгое время его не трогали. Похоже, у него что-то было на начальника полиции Беверли-Хиллз, а то и на кого-то из местных федеральных агентов.
Два года он прожил с миссис Виннеган, а потом пропал из виду. По слухам, он уехал из ЛА в племя белых неоамериндов, иногда зовущихся индейцами-осеменолами.
Но вернемся к Юным (а нет ли здесь каламбура с Юнгом?) Редисам. Они бунтуют против отцовского образа Дяди Сэма, которого и любят, и ненавидят. «Дядя» («unkle») в их подсознании, разумеется, связан с «unco» – это шотландское слово означает «странное», «необыкновенное», «причудливое», указывая нам, что их отцы были для них непонятными чужаками. Все родом из семей, где отец отсутствовал или был малозаметен, – увы, очень распространенное явление в нашей культуре.
Я и сам не знал родного отца… Туни, это потом сотри. Также «unco» означает «вести» или «предчувствие», и это указывает, что несчастные молодые люди с нетерпением ждут новостей о возвращении своих отцов и, возможно, надеются на примирение с Дядей Сэмом – то есть, опять же, их отцами.
Дядя Сэм. Сэм – сокращение от «Сэмюэль», от «Шмуэль» на иврите, то есть «имя Божье». Все Редисы – атеисты, хотя отдельные – в особенности Омар Руник и Чабайабос Виннеган – получали религиозное образование в детстве (панаморитское и римско-католическое соответственно).
Восстание юного Виннегана против Бога и против католической Церкви наверняка усугублено тем, что в детстве мать заставляла его пить из-за хронического запора сильные слабительные – катартики. Наверняка он ненавидел учить катехизис, когда рвался пойти играть. И конечно, то чрезвычайно значительное и оставившее глубокую травму происшествие, когда ему вставляли катетер. (Его детский отказ испражняться будет проанализирован в следующем отчете.)
Дядя Сэм, Фигура Отца. «Фигура» – каламбур такой очевидный, что не буду и утруждаться его толкованием. А еще, пожалуй, есть связь с фигой, в смысле, «фигу тебе!» – это можно найти в «Аду» Данте, какой-то итальянец в Аду говорит: «Фигу тебе, Господи», закусив большой палец в древнем жесте непокорности и неуважения. Хм-м? Кусать большой палец – инфантильная черта?
«Сэм» – тоже многослойный каламбур с участием фонетически, орфографически и полусемантически связанных слов. Важно отметить, что юный Виннеган не терпит, когда его называют «дорогим» – «dear»; заявляет, что мать называла его «дорогим» так часто, что его уже тошнило. И все-таки для него это слово имеет глубокое значение. Например, замбар – азиатский олень («deer»!) с рогами, у которых по три отростка. (Отметим и сходство «зам» – «сэм».) Очевидно, три отростка для него символизируют манифест Тройной революции – историческое начало нашей эпохи, которую Чайб, по его словам, так ненавидит. Также три отростка – архетип Святой троицы, против которой Юные Редисы часто кощунствуют.
Следует отметить, что в этом данная группа отличается от других исследованных. Остальные кощунствуют нечасто и слабо, в соответствии с превалирующим сегодня слабым, даже бледным религиозным духом. Еретики сильны, только когда сильны верующие.
А еще «сэм» говорит о «самостоятельности», которую Редисы провозглашают на поверхности, внутреннее желая соответствовать нравам.
Возможно – хотя в этом данный анализ может ошибаться, – «Сэм» связан с самехом, пятнадцатой еврейской буквой (Сэм! Эх!). По старой английской традиции, которую Редисы могли усвоить в детстве, пятнадцатая буква латинского алфавита – это «о». В алфавитной таблице в моем словаре (новый учебный словарь Вебстера, 128-е издание) латинская «о» находится в той же строке, что и арабский «дад». А также еврейский «мем». Так мы имеем двойную связь с отсутствующим и вожделенным Отцом (дад – «dad» – папа) и давящей Матерью (или «мем»).
С греческим омикроном в той же горизонтальной строке что-то ничего не придумывается. Но только дайте срок, тут нужен научный подход.
Омикрон. Да это же маленькая «о»! У строчного омикрона яйцевидная форма. Маленькое яйцо – это оплодотворенная сперма их отца? Утроба? Базовый элемент современной архитектуры?
«Сэм Хилл» – архаическое англоязычное название Ада. Дядя Сэм – это Сэм Хилл от отцов? Лучше вычеркни, Туни. Может, эти высокообразованные юнцы и читали об этом устаревшем обороте, но подтвердить это невозможно. Не хочу говорить о связях, из-за которых меня потом поднимут на смех.
Посмотрим-посмотрим. Сямисен. Японский музыкальный инструмент с тремя струнами. Снова Манифест Тройной революции и троица. Троица? Отец, Сын и Дух Святой. Мать – презренная фигура; не Дух, а Духота? А может, и нет. Убери, Туни.
Сямисен. Сын Сэма?[56] А это естественным образом перетекает к Самсону, который обрушил храм на филистимлян и себя. Эти ребята говорят о том же. Смешно. Напоминает меня самого в их возрасте, пока я не повзрослел. Последнее вычеркни, Туни.
Самовар. Русское слово, «сам варит». Нет никаких сомнений, что Редисы варятся в своем кружке и кипят от революционного пыла. И все-таки в глубине своей больной психики понимают, что Дядя Сэм – их любящий Отец-Мать, что он о них печется. Но заставляют себя его ненавидеть – то есть «сами варят себя».
«Сэмлет» – молодой лосось. Вареный лосось – желтовато-розового или бледно-красного цвета, почти цвета редиса – по крайней мере, в их подсознании. «Сэмлет» равен Юным Редисам; они считают, что варятся в великой скороварке современного общества.
Как тебе такая фрилая мраза – то есть милая фраза, Туни? Прослушай, внеси указанные правки, пригладь шероховатости – сама знаешь как – и шли начальнику. А мне уже пора. Опаздываю на ужин с мамой, она очень огорчается, если я не прихожу вовремя.
А, и постскриптум! Рекомендую установить за Виннеганом пристальное наблюдение. Его друзья выпускают психический пар в болтовне и выпивке, но он вдруг изменил характер поведения. Впадает в долгое молчание, бросил курить, пить и секс.
Заработок – дело благородное,даже в эти времена. У верхушки нет возражений против баров в частной собственности у граждан, которые оплатили все лицензии, прошли все проверки, вывесили все предупреждения и подкупили местных политиков и начальника полиции. Поскольку для баров нет ни подходящих условий, ни больших сдающихся зданий, устраиваются они в домах самих хозяев.
«Личная вселенная» – любимое местечко Чайба, отчасти потому, что незаконное. Когда Дионис Гобринус не смог прорваться через заслоны, рогатки, колючую проволоку и ловушки официальных процедур, он махнул рукой на лицензию.
Он открыто пишет название поверх математических уравнений, украшавших фасад дома ранее. (Этот профессор математики в Университете Беверли-Хиллз – 14, Аль-Хорезми Декарт Лобачевский, ушел с работы и снова сменил имя.) Атриум и несколько спален переделаны для выпивки и веселья. Египетских посетителей не бывает – возможно, из-за сверхчувствительности к тем красочным сантиментам, которыми завсегдатаи расписывают внутренние стены.
АТУ АБУ
МУХТАР – СЫН НЕПОРОЧНОЙ СОБАКИ
СФИНКС – СВИН
КРАСНОЕ МОРЕ – НЕ ЗАБУДЕМ, НЕ ПРОСТИМ!
У ПРОРОКА ФЕТИШ – ВЕРБЛЮДЫ
У кое-кого из авторов отцы, деды и прадеды и сами подвергались схожим оскорблениям. Но их потомки целиком ассимилировались: беверли-хиллзцы до мозга костей. Такова природа человека.
Гобринус, кряжистый куб с ножками, стоит за стойкой – квадратной в протесте против овоидов. Над ним – большая табличка:
Что одному мед, другому – пуассон[57]Гобринус тысячу раз расшифровывал этот каламбур, не всегда к удовлетворению слушателя. Достаточно сказать, что Пуассон – математик и что распределение Пуассона близко к биномиальному распределению, когда число испытаний растет, а вероятность успеха в отдельном испытании мала.
Когда посетитель напивается так, что ему больше не наливают, его вышвыривают из бара на фоне свирепой вспыльчивости и губительности Гобринуса, который кричит: «Пуассон! Пуассон!»
Друзья Чайба, Юные Редисы, сидят за восьмиугольным столом, приветствуют его, и его слова подсознательно перекликаются с оценкой их недавнего поведения федеральным психолингвистом.
– Чайб монах! Чайбовый, как никогда! Наверняка пришел на чашечку чайба! Выбирай!
Встречает его и Мадам Трисмегиста, сидящая за столиком в форме печати Соломоновой. Она уже два года жена Гобринуса – рекорд потому, что если он бросит и ее, то она его зарежет. А еще он верит, будто она может своими картами влиять на его судьбу. В наш век просвещения гадалки и астрологи процветают. Наука идет вперед, а невежество и суеверие скачут по флангам и кусают науку за зад своими большими темными зубищами.
Сам Гобринус – этот доктор наук, светоч знаний (по крайней мере, до недавней поры) – в Бога не верит. Но уверен, что звезды сложатся для него пагубно. По странной логике он считает, будто женины карты управляют звездами; ему неизвестно, что гадание по картам и астрология – области совершенно разные.
А чего еще ждать от человека, который заявляет, будто вселенная асимметрична?
Чайб машет Мадам Трисмегисте и идет к другому столику. Там сидит
Типичная интимейджер– Бенедиктина Серинус Мельба. Высокая, худая, с узкими лемурьими бедрами и стройными ногами, но большой грудью. В волосах – черных, как зрачки ее глаз, – пробор посередине, а сами они приклеены надушенным спреем к черепу и заплетены в две длинные косы. Косички лежат на голых плечах и сцеплены под горлом золотой брошкой. После брошки (в форме музыкальной ноты) косы снова расходятся, окружая каждую грудь. Затем их закрепляет очередная брошка, и они расстаются, чтобы встретиться под брошкой за спиной и вернуться для встречи на животе. Там их снова держит брошка, а двойной водопад черно ниспадает на ее юбку, у которой форма колокола.
Лицо густо накрашено зеленым и аквамариновым, с родинкой в виде четырехлистного клевера и топазовыми блестками. На ней желтый лифчик с искусственными розовыми сосками; с лифчика свисают кружевные ленточки. Талию окружает ярко-зеленый полукорсет в черных розочках.
Поверх корсета, скрывая его наполовину, – проволочное сооружение, покрытое розовой тканью. Оно тянется назад, образуя этакий полуфюзеляж или длинное птичье оперенье: на нем даже есть длинные желтые и алые искусственные перья.
Колышется ее прозрачная юбка в пол. Юбка не прячет ни трусики в желтую и темно-зеленую полоску, с подвязками и кружевными оборками, ни белые бедра, ни черные сетчатые чулки с зелеными узорами в форме музыкальных нот. Туфли – ярко-голубые, с топазными каблуками.
Бенедиктина одета для пения на Народном празднике; не хватает только шляпки. Но она все-таки пришла сегодня пожаловаться, среди прочего, на то, что Чайб заставил ее отменить выступление и утратить шанс на великую карьеру.
Она с пятью девушками, от шестнадцати до двадцати одного, и все пьют Би (сокращение от «бормотучки»).
– Можем поговорить наедине, Бенни? – спрашивает Чайб.
– Зачем? – Ее голос – прелестное контральто, изуродованное интонацией.
– Ты меня сюда вызвала, чтобы устроить публичную сцену, – говорит Чайб.
– Господи, а какие еще бывают сцены? – визжит она. – Вы на него посмотрите! Хочет поговорить со мной на- едине!
Тут-то он и понимает, что она боится остаться с ним наедине. Больше того – в принципе, не в состоянии быть наедине. Теперь он понял, почему она требовала оставлять дверь спальни открытой, когда ее подружка Бела была в пределах слышимости. Обоюдной.
– Ты обещал только пальцем! – кричит она. Показывает на чуть округлившийся живот. – У меня будет ребенок! Ты, поганая сладкоречивая извращенная сволочь!
– Это неправда, – говорит Чайб. – Ты говорила, что не против, что ты меня любишь.
– «Люблю»! «Люблю», говорит! Я будто понимала, что несу, когда перевозбудилась! Но я точно не говорила, что ты мне можешь присунуть! Никогда не говорила, никогда! А потом что ты сделал?! Что ты сделал! Боже мой, да я неделю ходить не могла, сволочь!
Чайб обливается потом. Не считая бетховенской «Пасторали» из фидо, в баре тихо. Его друзья лыбятся. Гобринус стоит к ним спиной и хлещет скотч. Мадам Трисмегиста тасует карты и пердит слезоточивым коктейлем пива и лука. Подружки Бенедиктины смотрят на свои флуоресцентные ногти, длинные, как у мандаринов, или прожигают его взглядами. Ее боль и негодование – их боль и негодование, и наоборот.
– Я не могу принимать таблетки. Мне от них плохо, и глаза болят, и месячные задерживаются! И ты это знаешь! И я терпеть не могу механические утробы! И в любом случае ты мне соврал! Ты сказал, что сам на таблетках!
Чайб понимает, что она себе противоречит, но урезонивать ее было бесполезно. Она в ярости, потому что беременна; сейчас она не хочет утруждать себя абортом – и жаждет мести.
Но как, гадает Чайб, как ее угораздило забеременеть в ту ночь? Это бы не удалось ни одной женщине, даже самой фертильной. Наверняка она залетела до или после. И все же клянется, что это случилось в ту ночь, в ночь, когда он был
Рыцарь пылающего пестика, или пена, пена на просторе[58]– Нет, нет! – плачет Бенедиктина.
– Почему нет? Я люблю тебя, – говорит Чайб. – Я хочу на тебе жениться.
Бенедиктина кричит, а ее подруга Бела отзывается из коридора:
– Что такое? Что случилось?
Бенедиктина не отвечает. Ее трясет от гнева, как в ознобе, она выбирается из кровати, оттолкнув Чайба. Бежит в маленькое яйцо ванной комнаты в углу, он – за ней.
– Надеюсь, ты не сделаешь то, о чем я думаю?.. – говорит он. Бенедиктина стонет:
– Ты пронырливый никчемный сукин сын!
В ванной она опускает часть стены, которая становится полкой. На полке примагничены донышком флакончики. Она достает длинную тонкую банку сперматоцида, присаживается и вставляет ее себе. Нажимает на кнопку на дне – и та пенится с шипящим звуком, который не заглушить даже телу.
На миг Чайб парализован. Затем орет.
Бенедиктина кричит:
– Не приближайся, бредис!
Из двери в спальню доносится робкое:
– У тебя все нормально, Бенни?
– Я ее сейчас отнормалю! – ревет Чайб.
Он подскакивает и срывает с полки банку темпоксидного клея. На него Бенедиктина укладывает парики – и он может выдержать все, если его не размягчить особым растворителем.
Бенедиктина и Бела вопят хором, когда Чайб подхватывает Бенедиктину и опускает на пол. Она борется, но он все же покрывает клеем банку, кожу и волосы вокруг.
– Ты что творишь? – кричит она.
Он зажимает кнопку на донышке до упора и заливает дно клеем. Бенедиктина вырывается, но он крепко прижимает ее руки к телу и не дает откатиться от него и сдвинуть банку внутрь или наружу. Чайб считает про себя до тридцати – а потом еще раз до тридцати, чтобы клей точно застыл. Отпускает.
Пена клокочет между ее ног, и сбегает по ногам, и расползается по полу. Жидкость в неразрушимой и непробиваемой банке находится под огромным давлением, а в контакте с воздухом пена невероятно расширяется.
Чайб снимает с полки растворитель и сжимает в руке, чтобы она не отняла. Бенедиктина вскакивает и замахивается на него. Хохоча, как гиена в палатке с веселящим газом, Чайб закрывается от удара и отталкивает ее. Поскользнувшись на пене – уже по лодыжку, – Бенедиктина падает и скользит на заду из ванной, позвякивая банкой по полу.
Она поднимается на ноги и только тогда осознает, что наделал Чайб. Из нее вырывается крик – и она следует за ним. Она приплясывает, вырывая из себя банку, крики растут в громкости с каждой попыткой и итоговой болью. Затем Бенедиктина разворачивается и выбегает из комнаты – ну или пытается. Она поскальзывается; на пути – Бела; они сцепляются и выезжают из спальни вместе, разворачиваясь в дверях, как в пируэте. Плещется пена, и они напоминают Венеру с подругой, выходящих из пузырящихся волн Кипрского моря.
Бенедиктина отталкивает Белу, но только лишившись плоти под длинными и острыми ногтями подруги. Бела отлетает спиной обратно в дверь, навстречу Чайбу. Она старается удержать равновесие, как конькобежец-новичок. Без толку – и она скользит мимо Чайба с воплями, на спине, задрав ноги.
Чайб осторожно скользит босиком по полу, задерживается у кровати забрать свою одежду, но одеться все-таки мудро решает снаружи. Он выходит в круглый зал как раз вовремя, чтобы увидеть, как Бенедиктина ползет мимо одной из колонн, отделяющих коридор от атриума. Ее родители – два бегемота средних лет – все еще сидят на плоске с пивными банками в руках: глаза распахнуты, рты разинуты, тела мелко дрожат.
Чайб с ними даже не прощается. Но тут зацепляется краем глаза за их фидо и понимает, что родители переключились с ВНЕШ. на ВНУТР. – и на спальню Бенедиктины. Отец и мать наблюдали за Чайбом с их дочерью, и по не совсем улегшемуся состоянию отца очевидно, что ему ужасно интересно это шоу – лучше чего угодно по внешнему фидо.
– Ах вы извращенцы! – ревет Чайб.
Бенедиктина уже рядом с ними, на ногах, и лепечет, рыдает, показывает на банку и тычет пальцем в Чайба. В ответ на его рев родители вздымаются с плоска, будто два левиафана из пучин. Бенедиктина бежит на него – руки вытянуты, пальцы с длинными ногтями изогнуты, лик – горгоны Медузы. За ней остается след взбешенной ведьмы, спешат по пене отец с матерью.
Чайб врезается в столб, рикошетит и скользит, не в силах остановить свой поворот во время маневра. Но все-таки удерживается на ногах. А вот мама с папой падают с грохотом, сотрясающим даже этот прочный дом. Они вскакивают, вращают глазами и ревут, как всплывающие гиппопотамы. Бросаются на него по отдельности: мать теперь визжит, ее лицо, хоть и заплывшее жиром, – лицо Бенедиктины. Папа обходит колонну с одной стороны, мама – с другой. Бенедиктина выруливает из-за другой колонны, придерживаясь за нее рукой, чтобы не упасть. Она оказывается между Чайбом и выходом.
Чайб врезается в стену коридора там, где еще нет пены. Бенедиктина бежит на него. Он бросается на пол и перекатывается между колоннами в атриум.
Мама с папой сталкиваются. «Титаник» встречает свой айсберг – и оба идут ко дну. Скользят к Бенедиктине на лицах и брюхах. Она их перескакивает, роняя на них пену.
Уже очевидно: уверения правительства, что банки хватает на сорок тысяч доз смерти для спермы, или на сорок тысяч сношений, оправданны. Пена – всюду, по лодыжку, местами по колено, и продолжает хлестать.
Бела распростерлась на спине на полу атриума, воткнувшись головой в мягкие складки плоска.
Чайб медленно поднимается и ненадолго замирает, озирается: колени подогнуты, готов отскочить от угрозы, но надеется, что не придется, потому что ноги обязательно подведут.
– Стоять, грязный ты сукин сын! – ревет папаша. – Я тебя убью! Как ты мог так поступить с моей дочерью!
Чайб следит, как тот переворачивается, будто кит в бурном море, и пытается подняться на ноги. И вновь отправляется вниз, ухнув, словно раненный гарпуном. У мамы получается не лучше.
Увидев, что путь открыт – Бенедиктина уже успела где-то пропасть, – Чайб скользит через атриум до незапененного пятачка у выхода. С одеждой, накинутой на руку, и все еще не выпустив из рук растворитель, он свободно шагает к двери.
И вот тут Бенедиктина зовет его по имени. Он оглядывается и видит, как она выскальзывает из кухни. В ее руке – высокий стакан. Что это она удумала? Уж точно не угостить выпивкой.
Затем она семенит на сухой участок пола и с криком шлепается. Но содержимое стакана все-таки находит свою цель.
Чайб кричит, почувствовав кипяток: больно, будто его обрезают без анестезии.
Бенедиктина смеется на полу. Чайб подскакивает и вопит, уронив банку и одежду, схватившись за ошпаренное, но наконец берет себя в руки. Прекращает свою пляску, хватает Бенедиктину за правую руку и тащит на улицы Беверли-Хиллз. Этим вечером там хватает людей – и все следуют за двоицей. Чайб останавливается, только когда доходит до озера и окунается, чтобы остыть, – заодно прихватив с собой Бенедиктину.
Когда они наконец выползают из озера и сбегают домой, толпе еще долго есть о чем поговорить. Люди болтают и смеются, глядя, как санэпидем очищает озеро и улицы от пены.
– Я потом месяц ходить не могла! – кричит Бенедиктина.
– А ты заслужила, – говорит Чайб. – Тебе не на что жаловаться. Ты сказала, что хочешь от меня ребенка, и не шутила.
– Да я была не в себе! – отвечает Бенедиктина. – Нет, я была в себе! Но я такого не говорила! Ты меня обманул! Ты меня заставил!
– Я бы никого не стал заставлять, – говорит Чайб. – И ты это знаешь. Завязывай ныть. Ты самостоятельный человек, и ты дала согласие по своей воле. У тебя же есть свобода воли.
Встает со своего стула Омар Руник, поэт. Это высокий и стройный бронзовокожий юнец с орлиным носом и очень полными красными губами. Его кудри подстрижены в форме «Пекода» – легендарного судна, что несло безумного капитана Ахава, его безумную команду и единственного выжившего после встречи с белым китом – Измаила. У куафюры есть бушприт, борта, три мачты, нок-реи, даже свисает с балок шлюпка.