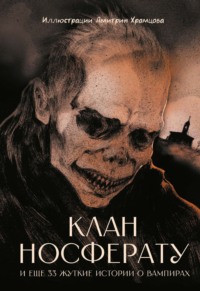Полная версия
Опасные видения
Харлан Эллисон.
* На самом деле метр шестьдесят восемь. – Прим. пер.
20
Новая волна (фр.), по названию движения в кино 1960-х.
21
Гораций Голд (1914–1996) – американский писатель-фантаст и редактор, один из столпов журнальной фантастики Золотого века. Издавал журнал Galaxy, в котором уделял большое внимание психологической фантастике.
22
Энтони Баучер (1911–1968) – американский писатель, критик, переводчик, видный редактор и издатель. Основатель и редактор журнала Fantasy & Science Fiction. Первый переводчик Борхеса на английский и наставник Филипа К. Дика. В русскоязычных источниках чаще фигурирует как Энтони Бучер.
23
Многолетнее творчество (фр.).
24
Дитя мое (нем.).
25
Три цента за слово платили в Galaxy, в других же НФ-журналах обычно платили один цент за слово.
26
Скандал с «Типот Доум» (1921–1923) – коррупционный скандал администрации президента Гардинга, когда министр внутренних дел без тендера передал частным нефтяным компаниям государственное месторождение «Типот Доум» и другие участки.
27
Джек Пар (1918–2004) – популярный американский киноактер и телеведущий. В его шоу принимали участие в разное время Джон Ф. Кеннеди, Битлз, Вуди Аллен, Лайза Миннелли.
28
Непобедимый (лат.).
29
Фьорелло Ла Гуардия – один из самых популярных мэров Нью-Йорка (1934–1945).
30
Перевод Владимира Баканова.
31
Перевод Б. Пастернака.
32
Перевод Владимира Баканова.
33
Капитан сэр Ричард Фрэнсис Бертон (1821–1890) – британский путешественник, военный, писатель, поэт, лингвист. Перевел на английский «Книгу тысячи и одной ночи» и «Камасутру». Открыл озеро Танганьика. Также является главным героем цикла «Мир Реки» Филипа Хосе Фармера.
34
Эрл Берги (1901–1952) – американский художник, автор обложек к детективным палп-журналам, НФ-журналам периода Золотого века и иллюстраций в стиле пинап.
35
Персонаж серии фантастических романов Э. Э. Смита «Линзмен».
36
Дэвид Генри Келлер (1880–1966) – американский военный врач, психиатр, психолог, психоаналитик. Автор научно-фантастических произведений. Печатался в Amazing и Weird Tales. Повлиял на становление жанра, добавив психологизм и пессимистический взгляд на будущее.