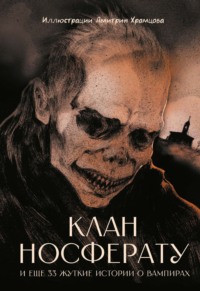Полная версия
Опасные видения
– А старые костоправы, зная семейную историю, позвонили в НБ. Возможно.
Чайб заглядывает в окуляр перископа. Поворачивает его, вращает колесики настройки на рукоятках, опускает циклопов на конце трубы снаружи. Аксипитер рыщет у скопления семи яиц, где каждое стоит на широкой тонкой изогнутой ветви-мостике, торчащей от центрального пьедестала. Аксипитер поднимается по ступенькам к мостику, ведущему к двери миссис Эпплбаум. Дверь открывается.
– Видимо, подловил ее вне форниксатора, – говорит Чайб. – А ей-то наверняка одиноко; по фидо она с ним говорить не захочет. Боже, она толще мамы!
– Отчего бы и нет? – говорит дедушка. – Мистер и миссис Обыватели сидят на заду день напролет, пьют, едят и смотрят фидо: мозги разжижаются, а тела расплываются. В наше время Цезарь без труда окружил бы себя толстыми друзьями. И ты ешь, Брут?
Впрочем, комментарий Дедули не подходит к миссис Эпплбаум. У нее дырка в голове, а люди с зависимостью от форниксатора толстеют редко. Они сидят или лежат весь день и часть ночи, пока иголка в форниксе мозга производит небольшие электрические разряды. С каждым разрядом тела захватывает неописуемый экстаз – удовольствие намного выше, чем от еды, питья или секса. Это незаконно, но правительство не тревожит пользователей, если только не хочет от него чего-то еще: у форниксов редко бывают дети. У двадцати процентов ЛА в черепе просверлены дырки для доступа иголок. Зависимость – у пяти процентов; они чахнут, редко едят, из растянутых мочевых пузырей сочится яд в кровоток.
– Мои брат с сестрой наверняка замечают тебя, когда ты прокрадываешься на церковную службу, – говорит Чайб. – Они не могли?..
– Они тоже принимают меня за привидение. В наше-то время! Впрочем, уже неплохо, что они верят хоть во что-то, пусть и в суеверие.
– Тебе лучше больше не ходить в церковь.
– Церковь да ты – вот и все, что еще поддерживает во мне жизнь. Но грустный был день, когда ты сказал, что не можешь уверовать. Из тебя бы вышел хороший священник – со своими изъянами, конечно, – а у меня была бы своя служба и исповедальня прямо в этой комнате.
Чайб молчит. Он ходил на уроки и службы, чтобы порадовать дедушку. Церковь была яйцевидной морской раковиной, в которой, если поднести к уху, слышался только отдаленный рев бога, уходящий, как отливная волна.
ДРУГИЕ ВСЕЛЕННЫЕ МОЛЯТ О БОГАХ,
и все же Он слоняется в поисках работы у этой.
Из рукописи Дедули
За перископ встает Дедуля. Смеется:
– Налоговое бюро! Я-то думал, его давно распустили! У кого еще остался такой доход, чтобы о нем стоило сообщать? Как думаешь, не работают ли они только ради меня одного? Не удивлюсь.
Он подзывает Чайба обратно, наставив перископ в центр Беверли-Хиллз. Чайб смотрит между семияйцевыми кладками на разветвленных пьедесталах. Видит часть центральной площади, гигантские овоиды ратуши, федеральные бюро, Народный центр, часть массивной спирали, где установлены культовые сооружения, и дору (от слова «пандора»), где люди на пурпурном пособии получают продукты по делу, а люди с дополнительным доходом – безделицы. Виден конец большого искусственного озера: на нем плавают лодки и каноэ, рыбаки.
Облеченный пластиковый купол, накрывший кладки Беверли-Хиллз, – небесно-голубой. Взбирается к зениту электронное солнце. Видна пара белых и реалистичных картинок облаков, даже клин гусей в миграции на юг, слабо слышится их перекличка. Довольно реалистично – для тех, кто ни разу не был за стенами ЛА. Но Чайб провел два года в Корпусе всемирной реабилитации и сохранения природы – КВРСП – и знает разницу. Он чуть было не решил дезертировать вместе с Руссо Красным Ястребом и влиться к неоамериндам. Потом хотел стать егерем. Но тогда бы ему в конце концов пришлось застрелить или арестовать Красного Ястреба. К тому же просто не хотелось быть сэмщиком. А еще больше всего на свете хотелось рисовать.
– А вот и Рекс Лускус, – говорит Чайб. – У него берут интервью перед Народным центром. Ну и толпа.
Пеллюсидарный прорыв[49]Вторым именем Лускуса должно было быть Конкурент. Человек великой эрудиции и пронырливости Улисса, с привилегированным доступом к Библиотеке компьютера Большого ЛА, – он всегда обходил своих коллег.
Он же учредил школу критики «Движуха».
Когда Лускус объявил название своей новой философии, Прималюкс Рескинсон, его главный соперник, провел обширное исследование. И торжествующе объявил, что Лускус перенял выражение из устаревшего сленга середины двадцатого века.
На следующий же день Лускус заявил в фидо-интервью, что Рескинсон – неглубокий исследователь, но чего от него еще ожидать.
На самом деле слово «движуха» пришло из языка готтентотов. У них это значило «исследовать» – то есть наблюдать, пока что-нибудь да не заметишь в своем объекте; в данном случае – в художнике и его произведениях.
Критики выстроились к новой школе в очередь. Рескинсон подумывал покончить с собой, но взамен обвинил Лускуса, что он поднялся по лестнице успеха через постель.
Лускус ответил по фидо, что его личная жизнь – личная, а Рескинсон – на грани нарушения ее тайны. Впрочем, Рескинсон заслуживал усилий не больше, чем нужно, чтобы прихлопнуть комара.
– Что это еще за «комар»? – вопрошали миллионы зрителей. – Вот бы этот яйцеголовый говорил попроще, чтобы мы понимали.
Голос Лускуса на минуту становится тише, пока переводчики объясняют слово, только что получив записку от наблюдателя, раскопавшего его в энциклопедии фидо-станции.
Лускус еще два года ездил на новизне школы «движухи».
А затем вновь утвердил свой пошатнувшийся престиж благодаря философии Абсомогущего Человека.
И стала она такой популярной, что Бюро культурного развития и досуга потребовало на полтора года ежедневный час для вступительной программы абсомогущества.
Комментарий Дедули Виннегана в «Личных измышлениях»:
Что сказать об Абсомогущем Человеке, этом апофеозе индивидуальности и полного психосоматическоого развития, демократическом уберменше в том виде, как его рекомендует Рекс Лускус, сексуально одностороннем? Бедный старый Дядя Сэм! Старается втиснуть переменчивость своего народа в единую стабильную форму, чтобы ими управлять. И в то же время поощряет всех и каждого развивать врожденные способности – будто они есть! Бедный старый длинноногий, хлипкобородый, мягкосердый, твердолобый шизофреник! Воистину левая рука не знает, что творит правая. На самом деле и правая рука не знает, что делает правая.
«Что сказать об Абсомогущем Человеке? – ответил Лускус председателю на четвертой сессии „Лусковских лекций“. – Как он противоречит современному цайтгайсту? А он не противоречит. Абсомогущий Человек – императив нашего времени. Он должен явиться, чтобы воплотить Золотой мир. Как можно иметь Утопию без утопийцев, Золотой мир без людей со стальной волей?»
Лускус дал речь о Пеллюсидарном прорыве в Памятный день и прославил Чайбайабоса Виннегана. И заодно сильнее всего посрамил своих конкурентов.
– Пеллюсидарный? Пеллюсидарный? – бормочет Рескинсон. – О боже, что теперь выдумала наша фея Динь-Динь?
– В двух словах не объяснишь, почему я зову гениальный подход Виннегана именно так, – продолжает Лускус. – Для начала позвольте зайти издалека.
Из Арктики в Иллинойс– Итак, однажды Конфуций сказал, будто медведь на Северном полюсе не может пёрнуть, не подняв бурю в Чикаго.
Под этим он имел в виду, что все события, все люди взаимосвязаны нерушимой паутиной. Что делает один, пусть самое незначительное, отдается по нитям и затрагивает каждого.
Хо Чун Ко, сидя перед своим фидо на 30-м уровне Лхасы, Тибет, говорит жене:
– Этот белый дурень все перепутал. Конфуций в жизни такого не говорил. Сохрани нас Ленин! Еще позвоню ему и устрою головомойку.
Жена отвечает:
– Давай переключим канал. Сейчас идет «Пай-Тинг-Плейс» и…
Нгомбе, 10-й уровень, Найроби:
– Здешние критики – кучка черных сволочей. А вот возьми Лускуса – он бы вмиг разглядел мой гений. Завтра же с утра подаю на эмиграцию.
Жена:
– Хоть меня бы спросил, хочу я ехать или нет! А как же дети… мама… друзья… собака?.. – и так далее всю безльвиную ночь самосиятельной Африки.
– …бывший президент Радинов, – продолжает Лускус, – назвал наше время «Веком Подключенного Человека». Немало вульгарных насмешек прозвучало по поводу этого, по моему мнению, проницательного оборота. Но Радинов не имел в виду, что наше общество – это некая «человеческая гирлянда». Он имел в виду, что электрический ток современного общества бежит по цепи, к которой подключены все мы. Это Век Полной Взаимосвязи. Провиснет хоть один провод – и закоротит нас всех. И все ж неоспоримо: жизнь без индивидуальности не стоит того, чтобы ее проживать. Каждый человек должен быть гапакс легоменон…[50]
Рескинсон вскакивает с кресла и кричит:
– А я знаю этот оборот! В этот раз ты попался, Лускус!
От волнения он падает в обморок – симптом распространенного наследственного порока развития. А когда приходит в себя, уже и лекции конец. Он подскакивает к устройству записи, чтобы послушать, что пропустил. Но Лускус аккуратно избежал определения Пеллюсидарного прорыва. До него он дойдет в другой лекции.
Дедуля у окуляра присвистывает.
– Чувствую себя астрономом. Планеты на орбите нашего дома – солнца. Вот Аксипитер, ближайший, – Меркурий, хоть он и не бог воров, а их заклятый враг. Далее Бенедиктина – твоя нервная Венера. Жесткая, жесткая, жесткая! Сперматозоиды размозжат свои белые головушки об эту каменную яйцеклетку. Уверен, что она беременна?
Вон и твоя Мама в убийственном наряде – вот бы уже кто-нибудь взял и убил. Мать-Земля, что движется к перигею правительственной лавочки тратить твои накопления.
Дедушка упирается потверже, будто на палубе во время качки, черно-голубые вены на его ногах толстые, как удушающие лозы на стволе древнего дуба.
– Краткое отступление от роли герра доктора Штерншайсдрекшнуппе[51], великого астронома, к роли дер унтерзеебут-капитана Залпен фон Пли. А! Фнофь фижу дас пароход, дайн Мама, виляет, качается, волнуется в морях алкоголя. Утрачен курс; пасует компас. Колеса вращаются в воздухе. Кочегары орудуют в поте лица, разжигая беспечно печи беспокойства; топят, пока она топится в вине. Винты запутаны в неводах невроза. И большой белый кит – проблеск в черных пучинах, но быстро всплывает, намерен пробить ее корму – велика, не промахнешься. Обреченная посудина – как не оплакать. И не сблевать в отвращении.
Первая торпеда – огонь! Вторая торпеда – огонь! Бабах! Мама дает крен; рваная пробоина в корпусе, но не та, о которой ты подумал. И пошла на дно, опускается носом, как и подобает хорошей фелляционистке, а огромная корма вздымается в воздух. Буль-буль! На семь литров накилялась!
Засим вернемся из-под воды в открытый космос. Из таверны только что показался твой лесной Марс, Красный Ястреб. И Лускус – Юпитер, одноглазый Всеотец Искусств, если простишь смешение скандинавской и римской мифологий, – окруженный роем спутников.
Экскреция есть горький элемент доблестиЛускус говорит фидо-журналистам:
– Под этим я имею в виду, что Виннеган, как и любой творец, будь то великий или нет, творит искусство, которое есть в первую голову самобытная секреция, а также экскреция. Экскреция в первоначальном смысле: избавление от лишнего. Творческая экскреция, личная экскреция. Знаю, мои уважаемые коллеги еще посмеются над такой аналогией, а потому вызываю их на фидо-дебаты, когда им будет удобно.
Доблесть же в том, что творец осмеливается показать общественности, что он произвел из себя. Горечь же в том, что в свое время творца могут отвернуть или неверно понять. А также в страшной войне бессвязных или хаотичных элементов внутри самого творца, часто взаимопротиворечащих, которые он обязан объединить в уникальную сущность. Поэтому я и говорю – «личная экскреция».
Фидо-репортер:
– Правильно ли мы понимаем, что все – это огромная куча говна, но искусство неожиданно его преображает во что-то золотое и просвещающее?
– Не совсем. Но уже тепло. Я уточню и разовью свою мысль на следующей лекции. Сейчас я хочу поговорить о Виннегане. Иные творцы показывают нам только поверхность: они фотографы. Но поистине великие показывают внутреннюю суть объектов и существ. Однако Виннеган первым проявил больше одной внутренности в одном произведении искусства. Его изобретение – высотно-рельефная многоуровневая техника – прозревает подземные слои за слоями.
Прималюкс Рескинсон, громко:
– Великая чистка лука живописи!
Лускус – спокойно, когда улегается смех:
– В каком-то отношении метко сказано. Великое искусство, как и лук, повергает в слезы. Однако ж свет в картинах Виннегана – не просто отражение: свет всасывается, переваривается и затем преломляется далее. Каждый ломаный луч показывает не аспекты фигур в глубинах, а цельные фигуры. Я бы даже сказал – миры.
Я зову это Пеллюсидарным прорывом. Пеллюсидар – полый центр нашей планеты, описанный в ныне позабытом романтическом фэнтези писателя двадцатого века, Эдгара Райса Берроуза, создателя бессмертного Тарзана.
Рескинсон стонет и снова едва не лишается сознания:
– Пеллюсидарный! От слова «пеллюцид»! Лускус, каламбурящий ты эксгуматор!
– Герой Берроуза проник под кору Земли и открыл внутри другой мир. В некоторых отношениях он противоположность внешнего: континенты там, где на поверхности – моря, и наоборот. Точно так же Виннеган открыл внутренний мир – аверс общественного образа, что излучает Обыватель. И, как герой Берроуза, он вернулся с ошеломительной историей о психических угрозах и исследованиях.
И как литературный герой обнаружил Пеллюсидар, заселенный людьми каменного века и динозаврами, так и мир Виннегана, хоть совершенно современный, с одной стороны, архаичный – с другой. Кромешно чистый. И все же в сиянии виннегановского мира мы видим зло и непостижимое пятно черноты – в Пеллюсидаре ему параллельна крошечная застывшая луна, отбрасывающая леденящую и неподвижную тень.
И я не просто включаю «пеллюцид» в слово «Пеллюсидар». Однако «пеллюцид» означает «отражающий свет всеми поверхностями одинаково» или же «пропускающий свет без рассеивания или искажения». Картины Виннегана делают ровно наоборот. Но – под ломаным и перекошенным светом – внимательный наблюдатель увидит первобытную ясность, размеренную и понятную. Этот свет объединяет все разрывы и многие уровни, этот свет я имел в виду в предыдущей лекции об «эпохе подключенного человека» и полярном медведе.
При ближайшем рассмотрении зритель это заметит – почувствует, так сказать, фотонную дрожь сердцебиения виннегановского мира.
Рескинсон едва не падает в обморок. С улыбкой и черным моноклем Лускус похож на пирата, только что захватившего груженный золотом испанский галеон.
Дедушка, все еще за окуляром, продолжает:
– А вот и Мариам ибн Юсуф, египетская крестьянка, о которой ты рассказывал. Это твой Сатурн – отдаленный, царственный, холодный – и в парящей и вращающейся разноцветной шляпе, что сейчас в моде. Кольца Сатурна? Или нимб?
– Она прекрасна, и из нее выйдет замечательная мать моих детей, – говорит Чайб.
– Шик Аравийский. Вокруг твоего Сатурна ходит две луны – матушка и тетушка. Спутницы! А ты говоришь, из нее получится хорошая мать! Хорошая жена! Она хоть умная?
– Не глупее Бенедиктины.
– Значит, тупая как пробка. Умеешь ты выбирать. Откуда знаешь, что ты в нее влюблен? За последние полгода ты был влюблен раз двадцать.
– Я люблю ее. И точка.
– Это пока новая не появится. Ты вообще можешь любить что-то кроме своих картин? Бенедиктина ведь сделает аборт, да?
– Не сделает, если я ее отговорю, – говорит Чайб. – По правде говоря, она мне уже даже не нравится. Но у нее мой ребенок.
– Покажи-ка, что там у тебя между ног. Да вроде мужик. А я уж засомневался – такое безумие хотеть детей.
– Ребенок – это чудо, чтобы потрясти секстиллионы неверных.
– Уж точно лучше мыши. Но ты разве не знаешь, что размножение вызывает у Дяди Сэма раздражение? Пропустил всю пропаганду? Ты где был всю жизнь?
– Мне пора, Дедуля.
Чайб целует старика и возвращается к себе, заканчивать картину. Дверь по-прежнему отказывается его признавать – и он звонит в правительственный ремонт, только чтобы узнать, что все мастера – на Народном фестивале. Из дома он выходит, пылая от ярости. Колышутся и покачиваются стяги и воздушные шарики на искусственном ветру, поднятом специально по случаю, а у озера играет оркестр.
Дедуля провожает его взглядом из перископа.
– Бедолага! Болею его болью. Хочет ребенка – вот у него все внутри переворачивается от того, что бедолага Бенедиктина хочет сделать аборт. Часть его боли – хоть он и сам не замечает – отождествление с обреченным младенцем. Его мать делала аборт бессчетное число раз – ну или как минимум много. Кабы не милость божья, быть ему одним из них – очередным ничем. Он хочет, чтобы и у этого ребенка был шанс. Но ничего не может поделать, ничего.
И вот еще одно его ощущение, общее с большей частью человечества. Он знает, что запорол свою жизнь – или что-то ее поломало. Это знает любой мыслящий человек. Это подсознательно осознает даже самый самовлюбленный недоумок. Но ребенок, прелестное создание, безупречный чистый лист, несуществующий ангел – это новая надежда. Вдруг он не запорет ее. Вдруг ребенок вырастет и станет здоровым-уверенным-рассудительным-добродушным-самоотверженным-любящим мужчиной или женщиной. «Не то что я или сосед», – клянется гордый, хоть и опасливый родитель.
Чайб все это думает и клянется, что этот ребенок будет другим. Но, как и все, только себя обманывает. Отец и мать у ребенка одни, но дядь и теть – триллионы. И не только современники – но и покойные. Даже если Чайб сбежит в глушь и самолично воспитает дитя, он вложит ему в голову свои подсознательные убеждения. Малыш вырастет с мнением и мировоззрением, о которых сам отец и не подозревает. К тому же при воспитании в одиночестве человек из ребенка получится совсем уж необычный.
А если Чайб вырастит его в этом обществе, тот неизбежно переймет хотя бы часть мнений своих друзей, учителей и так далее и тому подобное.
Так что выкинь из головы желание сделать нового Адама из своего чудесного, распираемого от потенциала дитяти, Чайб. Если он вырастет хотя бы сколько-то разумным, то только благодаря твоей любви и дисциплине, и кругу общения, и благословлению при рождении нужным сочетанием генов. То есть теперь твой сын или дочь – и воин, и любовник.
Что одному – кошмар, другому – влажные сныДедуля говорит:
– Беседовал тут недавно с Данте Алигьери – и он рассказывал, каким адом глупости, жестокости, извращений, атеизма и откровенного зла был шестнадцатый век. А после девятнадцатого он и вовсе лепетал, не в силах подобрать подходящую брань.
А уж от нашего века у него подскочило давление, пришлось подсыпать ему успокоительное и отправить на машине времени с медсестрой. Она внешне напоминала Беатриче и сама по себе могла быть для него лучшим лекарством – кто знает.
Дедуля хихикает, вспоминая, как Чайб в детстве верил, когда он рассказывал о своих гостях из машины времени – таких звездах, как Навуходоносор, царь травоедов[52]; Самсон, мастер загадок бронзового века и бич филистимлян; Моисей, укравший бога у своего кенийского зятя и всю жизнь боровшийся с обрезанием; Будда, Первый Битник; трудолюбивый Сизиф, в отпуске от катящихся камней; Андрокл и его приятель – Трусливый Лев из страны Оз; барон фон Рихтгофен, красный барон Германии; Беовульф; Аль Капоне; Гайавата; Иван Грозный и сотни других.
Пришло время, когда Дедуля заволновался и решил, что Чайб стал путать фантазию с действительностью. Сердце кровью обливалось от мысли о признании мальчишке, что все эти чудесные истории выдуманы – главным образом, чтобы учить его истории. Это же как сказать, что Санта-Клауса не бывает.
А потом, признаваясь внуку, Дедуля заметил, что Чайб с трудом прячет улыбку, и понял, что теперь его черед стать жертвой розыгрыша. Чайб ни разу не верил в россказни или же поумнел без большой травмы. И тогда оба посмеялись, а Дедуля так и продолжал рассказывать о своих визитерах.
– Машин времени не бывает, – говорит Дедуля. – Нравится или нет, мой дорогой Минивер Чиви[53], а жить надо в своем времени.
Машины работают на фабричных уровнях, в тишине, которая прерывается только болтовней махаутов. Огромные трубы на дне морей засасывают воду и ил. Те автоматически летят по трубопроводу на десять производственных уровней ЛА. Неорганические элементы преобразуются в энергию, а потом в вещества для питания, питья, лекарств и артефактов. Вне городских стен осталось немного земледелия или скотоводства, но людям всего хватает в избытке. Искусственные, но при этом точные копии органики – кто отличит?
Больше нигде не бывает голода и нужды, разве что у добровольных изгнанников, скитающихся в лесах. А еду и вещи доставляют в пандоры и распределяют между получателями пурпурных пособий. Пурпурные пособия. Рекламный эвфемизм, намекающий на королевские семьи и божественное право. Заслуживаешь его уже только тем, что родился.
Другие эпохи приняли бы нашу за горячечный сон, но зато у нашей есть преимущества, неизвестные другим. Для борьбы с переселением и безродностью мегалополис поделился на маленькие сообщества. Человек может всю жизнь прожить на одном месте, потому что ни в чем не нуждается. А с этим приходит провинциализм, мелкий патриотизм и враждебность к посторонним. Отсюда кровавые межгородские драки подростковых банд. Зловредные и повсеместные сплетни. Конформизм и соблюдение местных нравов.
Зато у граждан мелких городков есть фидо, чтобы видеть, что творится в любом уголке мира. Вперемешку с мусором и пропагандой, которые правительство считает полезными для людей, хватает сколько угодно превосходных передач. Можно получить эквивалент докторской степени, не переступая порог.
Настал новый Ренессанс, расцвет искусств, сравнимый с расцветами в Афинах времен Перикла и городах-государствах в Италии времен Микеланджело или Англии времен Шекспира. Парадокс. Сейчас больше безграмотных, чем в любой момент человеческой истории. Но и больше грамотных. И знатоков латыни больше, чем во времена Цезаря. Мир эстетики приносит чудесные плоды. И чудесных чудил, разумеется.
Чтобы разбавить провинциализм и заодно предотвратить международные войны, ввели мировую политику гомогенизации. Это добровольный обмен частями населения между странами. Заложники во имя мира и братской любви. Граждан, которые не довольствуются пурпурным пособием или считают, что найдут счастливую долю в другом месте, поощряют к эмиграции денежными выплатами.
В одних отношениях – Золотой мир, в других – кошмар. А что тут нового? Такова любая эпоха. Нашей пришлось иметь дело с перенаселением и автоматизацией. Как еще было решать задачу? Все тот же буриданов осел (хотя в нашем случае осел тот еще козел), что и всегда. Буриданов осел умирал с голоду, потому что не мог выбрать, какую из двух одинаковых куч еды съесть.
История: pons asinorum[54], где люди – ослы на мосту времен.
Нет, эти два сравнения неправильные и несправедливые. Это Гобсонов конь, единственный выбор – животное в ближайшем стойле. Цайтгайст скачет вперед, и дьявол заберет отстающих!
Авторы манифеста Тройной революции в середине двадцатого века угадали многое. Но умолчали о том, что сделает с обывателем отсутствие работы. Они-то верили, что все люди равны в развитии творческих склонностей, что все смогут заняться искусством, ремеслами, хобби или образованием ради образования. Те авторы не увидят «недемократичную» действительность: только десяти процентам населения – и это с натяжкой – от рождения дано создавать что-то стоящее или хотя бы отдаленно интересное. Ремесло, хобби, пожизненные исследования – все это быстро бледнеет, и человек возвращается к выпивке, фидо и разврату.
Отцы, оставшись без самоуважения, оторвались от семьи – кочевники в степях секса. Главной фигурой в семье становится мать – с большой буквы «М». Она тоже может развлекаться, но заботится о детях; почти все время рядом. А при отце с маленькой буквы – отсутствующем, слабом или равнодушном – дети часто становятся извращенцами.
Отдельные черты нашего времени можно было спрогнозировать. К примеру, сексуальная вседозволенность – хотя никто не мог представить, насколько далеко она зайдет. Но никто не предвидел и секту панаморитов, хоть Америка всегда плодила безумные маргинальные секты, как жаба – головастиков. Вчерашний мономан – сегодняшний мессия, и Шетли с его учениками пережил годы гонений, а их учения теперь неотъемлемы от нашей культуры.
Дедуля вновь наставляет перекрестье перископа на Чайба.
– Вот он, мой прекрасный внук, несет дары грекам. До сих пор сему Геркулесу не удалось очистить свои психические авгиевы конюшни. И все же он еще может преуспеть, это раздолбайский Аполлон, этот «Эдипус Бес». Ему повезло больше, чем многим его современникам. У него был отец, пусть и тайный – чудной старикашка, скрывающийся от так называемого правосудия. В сем чертоге он познал любовь, дисциплину и великолепное образование. Еще ему повезло иметь профессию.