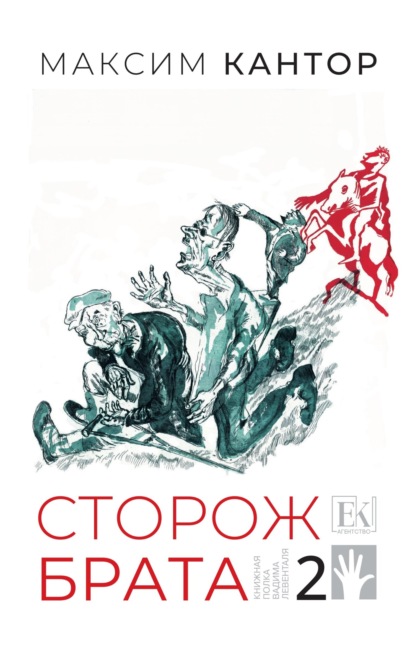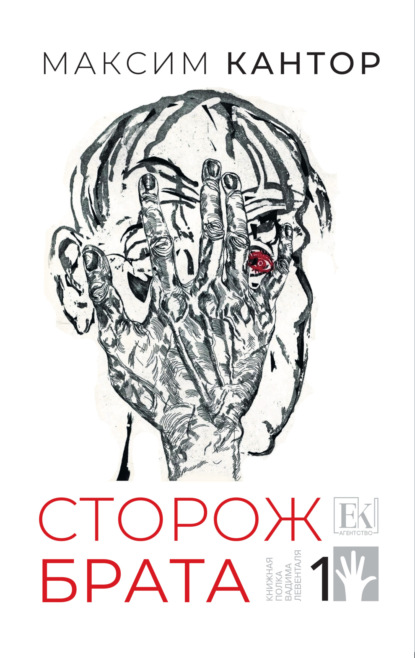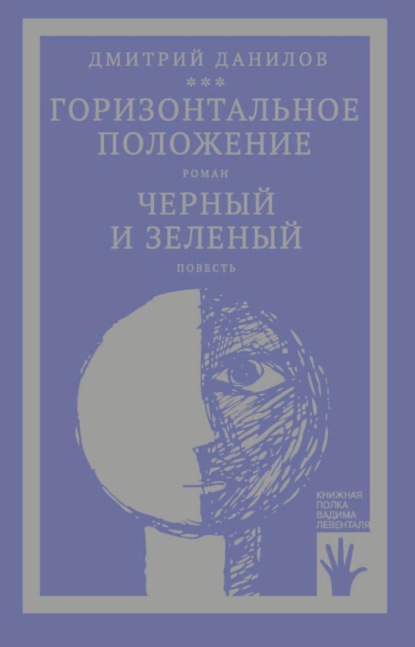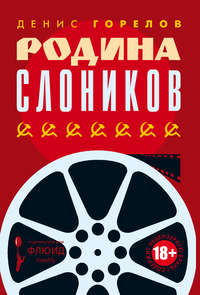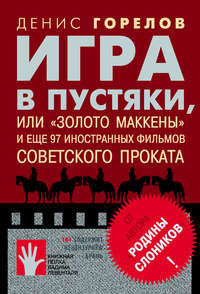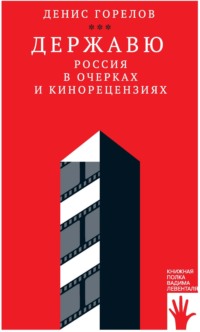Полная версия
Ост-фронт. Новый век русского сериала
Вот памятник тем блаженным денечкам, слегка задрапированным под ранний социализм, они и воздвигли. Фильм надоел большинству с первых же кадров ввиду полного отсутствия сюжета. Аннотация гласила: «Криминальный мир Петербурга во главе с дядей Колей начинает крышевать нэпманов». И? Что дальше? Это кино про кушающего дядю Колю? Все. Ничего дальше. Это кино про кушающего дядю Колю. Линия маньяка-потрошителя для того и высосана из пальца, что кроме хавки и дули Советам в «Цыпленке» ничего нет. Подают горячее. Поют про стопку водки. Мальчики-нахальчики играют на бильярде. А чекисты-кокаинисты, ненавистные барыгам, как любая власть, мешают культурно отдыхать. В пятой серии простой народный человек засаживает серп в лоб красному человеку с плаката «Ты записался добровольцем?». Друзья и знакомые Кролика в восторге. Был там, помнится, персонаж Сашка Букашка – вот ему особенно понравилось.
Рожденные ползать сказали свое веское слово всем остальным.
«Поет и плачет, / И слезы прячет / Весь мир голодных и рабов!» – юродствовала Пегова среди канканных курв.
Дай Дишдишяну волю – он бы из «Цыпленка» «Санту-Барбару» отгрохал, серий на 280. И в каждой бы дядя Витя Сухоруков, плотски причмокивая, кушал котлету де воляй, как в своей первой главной роли в фильме «Бакенбарды» о тех же похабных 90-х. И Пегова бы пела, а чекисты нюхали, а налетчик Родя изрекал разочарованные стишки для млеющих девочек, а девочки млели. И действие не двигалось бы ни на миллиметр, потому что авторам нравится не история, а антураж: угар, кич, культ из еды и троллинг большевиков – все, о чем в детстве мечталось, да приличия не позволяли, но кончились. 90-е были праздником саранчи, и 20-е были праздником саранчи, и в обоих случаях саранчу уняла центральная власть – за что ее теперь и надо изображать скопищем таких же растленных упырей, как и авторские протагонисты дядя Коля, Родя, бандерша Дина и ротмистр Кочерский.
В песне любимого героя 20-х мелкого проходимца Остапа Сулеймановича Бендер-бея звучали великие слова Юлия Кима: «Замрите, ангелы, смотрите – я играю».
Новый мир песню переиначил: смотрите, мол, граждане, я ворую и ем. И разлагаюсь, и на власть вашу кладу с прибором. И марухи мне песенки поют.
Ну, че.
Смотрим-смотрим.
Часть 3. Вчера
Утопия: от расцвета до распада
«Вчера» стало у нас блатяцко-масскультовым («Вертинский», «Ликвидация», «Мосгаз», «Гурзуф») с некоторой примесью умирающего государства («Светлана», «Оптимисты», «С чего начинается Родина»). Даже война превратилась в территорию разбитной уголовщины и махновских методов боя и сыска. Объединяющий криминал и масскультуру «Вокально-криминальный ансамбль» мог бы стать событием, кабы идея пришла в более светлую голову.
Безусловным синтезом зоны с эстрадой стали фильмы о 90-х.
А я дедушку не бил, а я дедушку любил
«Страна Советов. Забытые вожди», документальный цикл, 2016. Реж. Павел Сергацков, идея Владимира Мединского
Как все теперь знают, Ленин был гриб, а после него страной правили поручики Ржевские. Они только и делали, что квасили, куролесили, портили девок и зырили ночь напролет кино с похабными комментариями. Все, что происходило при них в стране, – делалось против их воли, само. Всеобщая грамотность, современное образование, тяжпром, оборона, бомба, кино, бесплатная медицина, вирусная иммунология, конструктивизм и неоампир, – все образовалось само, посредством эволюции; о спорте и космосе даже поминать неловко. На спорте и космосе Ржевские заехали в рай еще при жизни, хотя всем ясно, что новая эра началась с высадки известно кого на Луну.
Справедливости ради стоит признать, что вульгаризацию центральной власти красные когда-то замутили сами, а после им прилетело бумерангом. Бесчисленные памфлеты и срамные картинки про Николашку, императрицу с Распутиным и прочую кувырк-коллегию в начале века успешно расшатали трон, а десятилетия спустя обернулись и против создателей этого грозно-грязного оружия. К середине века подлый стиль будущей передачи «Городок» переняли и наши атлантические «партнеры», диктующие нормы бонтона и моветона: в 1940 году там наделал шуму пошлейший и категорически несмешной фильм Чаплина «Великий диктатор». У нас десакрализация враждебных режимов и обращение зла в клоунаду давно были общим местом, а буржуям казалось в новинку, они с этим капустником до сих пор носятся, как с писаной торбой. Сегодня чуб Трампа, уши Обамы, нос Никсона с налипшим комаром и каблуки Терезы Мэй вверх тормашками знаменуют многажды объявленный закат атлантической цивилизации: раньше так можно было только с нами, фюрером и Арафатом (на крайняк с де Голлем), – а теперь цирк общий, неприкасаемых нет.
Тут-то нарком национальной идентичности товарищ Мединский и взялся задним числом возвращать власти некоторые заслуженные привилегии – например, право на ровный разговор без рож и высунутого языка. Оказалось, что это весьма нелегкая задача. Что говорить о Берии иначе, как о палаче народов и растлителе малолеток (где все эти тьмы изнасилованных школьниц, ау!), как бы и нельзя – а он, между нами, создал бомбу, связав труд подчиненных ему ученых с работой подчиненных ему же разведчиков. Что Молотов рулил дипломатией страны в условиях стремительно меняющихся альянсов и лавировал между стратегическими противниками, от века желавшими нам только зла, – поэтому дразнить его «чугунной задницей» вольно плебеям, но не пристало гражданам. Что роль Жданова в русской истории не ограничена хамством Ахматовой – были еще, на минутку, 900 дней безвылазного управления блокадным Ленинградом, которые Анна Андреевна провела, хвала аллаху, в Узбекистане, а Андрей Александрович – там, внутри.
По ходу открываются вещи, людям знающим давно известные, но так и не ставшие аксиомой для массы соотечественников.
Что самоубийственную для России гражданскую войну у нас начал чехословацкий корпус, без которого у свергнутых классов даже надежд на реванш возникнуть не могло.
Что Западная Украина-Белоруссия отошли к Польше не по Брестскому миру (немцам, проигравшим войну, пришлось оставить занятые территории, как и предрекал Ленин), а по результатам начатой Пилсудским и неудачной для нас советско-польской войны.
Что при всех неудачах и бессчетных потерях финская война была нами выиграна, а граница отодвинута на 150 км от Ленинграда, где находится и сейчас.
И много чего еще.
Авторы принципиально отказались от фрагментов художественного кино с участием своих героев, воспользовавшись игровой реконструкцией, – на редкость удачной. Обычно в этом жанре из фильма в фильм кочуют громовой стук чекистов в дверь, с лязгом захлопывающаяся решетка и что-то кричащие с трибуны неприятные мужчины – эти страсти режиссер Сергацков отмел сразу, его герои чаще думают или шагают с охраной по Кремлю, чем делают нечто форсированно зловещее.
Его и сценаристов усилиями лидеры ВКП(б), слывущие в массовом сознании комическими пигмеями с плохим русским языком, явлены государственниками, создавшими современную Россию. Нефть, бомба, высшая школа, транспорт, межнациональный мир, на которых держится сегодня страна, были созданы, разведаны и пущены на общее благо в самый скомпрометированный ныне период. Расставить в этом прошлом национальные приоритеты и с удивлением осознать, что в долгосрочной перспективе делалось все не так уж и плохо, а в целом-то даже и хорошо – задача текущего периода большой реставрации, так бесящей наших самых последовательных доброжелателей.
Не говоря уж о том, что нынче, когда слово «революция» стало весьма популярным в мелкобуржуазной среде, всяких там Украинах с Гонконгами (Париж уж двести лет никак не уймется), не лишним было бы напомнить, как делаются революции, с какой скоростью за них вышибают из учебных заведений (Молотова – трижды) и сколько за них добрые люди в темнице сидят (рекордсмен Дзержинский – так все одиннадцать годков).
Глядишь, и популярность революционных выступлений на спад пойдет. Все к лучшему.
Как мыши кота хоронили
«Волк», 2020. Реж. Геннадий Островский. По мотивам романа Александра Терехова «Каменный мост»
Терехов – из трех-четырех лучших авторов, пишущих сегодня по-русски. Как и остальные двое-трое (назову еще Иванова с Прилепиным) – провинциал. Как и они – скорее, имперец. Как и они, собирает из пыльных осколков камней, судеб, документов грозный пазл национального мифа. Для верхоглядов «Каменный мост» – история убийства дочки посла сыном наркома от неразделенной любви. Для прочих – нить связи новейших времен с советской реконструкцией, породившей уникальную расу господ, красных нибелунгов, неподвластных Божьему суду, верных одному богочеловеку и хранящих обет молчания о первых годах супердержавы даже на ее руинах.
Автор осторожно, как сапер, прикасается к величию. А его мегароман об имперской боли, славе и неразгаданной военной тайне берется ставить сценарист фильмов «Еврейское счастье» про эмиграцию, «Русский регтайм» про эмиграцию, «По имени Барон» про эмиграцию и «Сочинение ко дню Победы» про захват самолета с целью показать, как здесь страшно жить. Это все равно как прозу Шаламова отдать в постановку бывшему чекисту Фридриху Эрмлеру (а что, человек в материале).
По книге, отставник внешней разведки (конечно, сам автор) роется в архивах и престарелых свидетелях из Дома на набережной, вскрывая подоплеку давнего романтического убийства, переводящего мир полубогов на совсем уж дохристианский и недоступный пониманию уровень. Дети советской элиты в разгар войны создают фашистскую организацию – не для помощи Гитлеру, а чтоб стать Гитлерами самим. Эгалитарные принципы небесных отцов не устраивают их полным отрицанием наследственного права: власть не передавалась по прямой, а деньги в СССР не значили ничего. Разматывание ариадниного клубка приводит героя к странной когорте миростроителей, не оцениваемых в категориях добра и зла: греческие боги тоже творили со смертными всякое и были эстетическими эталонами для партии НСДАП.
Островский, переписав роман процентов на семьдесят, делает из него фильм про зверства ЧК. Империя у него дрянь, император ничто, чекисты троглодиты, а нечекисты сявки, и всю их историю лучше загнать барыгам на барахолке. Навек обиженный на Советскую власть за уроки мужества, разрыв с США и дефицит штанов, режиссер придумывает герою храбрую фамилию Волк – чтоб уж копал до донышка. Волк с остановившимся лицом Д. Шведова копает. Средневековая трагедия небожителей, сцепившихся со своими совсем уж ницшеанствующими детьми, вырождается в комикс, как пигмеи убивали пигмеев. Бериевские гангстеры Эйтингер и Васильевский (под которыми следует понимать главных ликвидаторов НКВД генерала Эйтингона и полковника Василевского) лично ездят по миру и режут в кинотеатрах посольскую шваль. Киллер Безрук, выдуманный для мотивации всеобщего страха, постоянно жлобски жрет. Посол в США побирушничает на оборону. Желая любой ценой унизить отцов ненавистного государства, Островский сталкивается с неизбежной мелкостью их жертв. «Я не песчинка!» – оспаривает очевидное обреченная принцесса советской дипломатии. «Я не таракан!» – вторит ей из современности хлыщ, торгующий ворованными архивами, – и слышен в его дисканте голос самого режиссера. А на экране все равно видны одни затхлые углы, сальные поверхности, остатки пищи и ноги больших и страшных людей. Да-да, жутких негодяев Петрова с Бошировым, которые до сих пор пожирают наших детей.
Разные нации по-разному рефлектируют периоды бесчестья. Немцы и японцы об иноземной оккупации молчат, как на допросе. Ни слова про голод, насилие, женщин, продающихся за консервы, и брезгливый грабеж победителей. Итальянцы рассказывают об этом в деталях всем своим послевоенным кино – как их девки задирали подол, не переставая лаяться с соседками за белье и шоколадку. Кстати, и свое слово «таракан» – папарацци – сделали международным именно они.
Нашу войну и годы вокруг периодом бесчестья не назовешь – хотя именно так их и пытаются представить советоненавистники. Сегодня в России человек определяется именно отношением к тем временам. Есть глухари, которым бы только в барабан бить. Есть люди достоинства, ценящие масштаб потерь и достижений.
А есть Островские, Аксеновы и Сванидзы, у которых от величия остаются произвол, страх и сияющая Америка с патефоном.
Не тараканы.
Волки.
Банан и лимон
«Вертинский», 2021. Реж. Авдотья Смирнова
Дуня всегда благоволила изгнанникам и всегда хотела миллион и дом на Капри.
И читать в шезлонге, и злословить с компаньонками по адресу ближних, дальних и превратностей судьбы. И вглядываться в даль моря с меланхолией.
Неприкаянные комедианты с нансеновскими паспортами, желчные пилигримы великой надтреснутой культуры, унесенные ветром приживалы-невозвращенцы – вот ее коллективный герой, утомленный своим скверным коллективным характером. Бунин, Дягилев, Лифарь, Нижинский, приват-доценты и дочери камергеров поедом ели себя и других, этой рафинированной вороньей слободкой дополнительно отравляя свое прискорбное существование. Вертинский на их фоне был сущим ангелом добра и великодушия, и пройти мимо этой судьбы было бы форменным преступлением.
Своей кочевой биографией он связал все четыре столицы белого зарубежья: Стамбул, Париж, Берлин и Шанхай. Прочие старались укорениться где-нибудь наверняка, и только он с легкостью менял адреса, менял имена, зная, что везде заработает на сладкий кусок. И везде с шиком гениального лицедея мимикрировал под нравы среды обитания. В жуликоватом Стамбуле водился с контрабандистами, таскал бумажники и влип в историю с подпольным катраном[19]. В жеманном Париже истязал себя любовью к роковой воровайке в ожерелье а-ля Луиза Брукс. В Берлине сделался форменным манекеном царства регламента и выпирающего человечьего мяса (трудно передать, с какой сладкой ненавистью к дойче-стилю сняты в берлинской серии лезущие из мясорубки змейки свиного фарша). И во всех вариациях отвратительного была своя упадническая красота, отменно гармонировавшая с мироощущением жрецов серебряного века.
На беду, избранная Авдотьей Андреевной субкультура известна самым откровенным картинным мазохизмом. Ее герои мучаются ото всего: грубости, бестактности, неразделенной любви, тоталитаризма, пошлости, а также предубеждений традиционных обществ к наркотикам и однополой любви. Маска унылого Пьеро оттого и имела столь громкий успех в диаспоре потерявшихся неудачников – история, казалось, сама подогнала камерному артисту гранд-аудиторию, которой сильнее всего нравилось страдать от грехов Отечества. Поэтому стоило зайти речи о возвращении – наметился разрыв шаблона. Смирновский герой обязан был дострадать, домучиться без родины у теплого моря, иссохнуть в вялую заморскую куклу и любить себя подальше от бездарной страны. А он – вот подлец – народил девок, вывел в артистки, дал три тысячи концертов дома и был так же счастлив, как в белой Одессе, Париже и Шанхае, ибо минорную маску носил для сцены и отлично себя чувствовал в кабаке, мансарде, шанхайской «Магнолии» и советском «Метрополе».
Такое простить было никак нельзя. Как и эмиграция, и все заинтересованные иностранцы, Смирнова увидела в России только скверные сортиры (упомянуты за последнюю серию трижды), наглых управленцев, пытки-лагеря и отсутствие женских сапог в разгар войны в Чите. Притом реальный Вертинский был в полной эйфории от репатриации: решения о звездах такого уровня мог принимать только лично Сталин, а это было гарантированной охранной грамотой и от нужды, и от каторги. Но чего не напридумаешь ради сладкой душевной боли.
Массовый курс на возврат породила в эмиграции война. Вертинский объездил с концертами всю передовую – о чем в фильме не сказано ни слова. Вместо этого весть о Победе настигает его на съемках какой-то героической шняги – приводя к объятиям артистов в советской и немецкой форме. Конечно, свойственное смирновскому кругу отождествление коммунизма с фашизмом хорошо известно – но всякому ж непотребству надо бы и меру знать[20].
Зато к безусловным плюсам постановки следует отнести исполнение главной роли. Фильм хвалят и бранят, но в одном редкостно едины: Алексей Филимонов – очень большой артист, и давно уж пора ему войти в избранный круг лицедеев, которые «всем надоели». На всех форумах и на все корки распекают сегодня Петрова и Козловского, как прежде Безрукова и Хабенского, и в тот тесный круг, право же, не каждый попадал – а Филимонову уж точно время подошло. Не первый случай, когда артист с усталой и мудрой усмешечкой оказывается много выше половины того, что ему предлагается играть.
Что до непотребства русских сцен – странно корить серебряный век за космополитизм и разврат. Смирнова, пусть и с диссонирующей витальностью, всегда позиционировала себя дамой декаданса, и решение Вертинского вернуться домой (пусть даже и к «метропольным» зеркалам) не могло ее не опечалить, не разгневать, не разочаровать.
Столько ж прекрасных мест на свете – вот Капри, например.
Лопух вы, право, Александр Николаевич.
Я за линию твою в Соловках тебя сгною
«Обитель», 2021. Реж. Александр Велединский. По роману Захара Прилепина
Французский диалог в начале толстого романа сразу обнаруживает авторскую амбицию. Была в нашей словесности еще одна Большая Книга из русской истории, начинавшаяся с обмена французскими репликами, называлась «Война и мир». Там, где Толстой живописал Россию в войне, Прилепин – Россию за решеткой. Беседовали у него начальник Соловецкого лагеря Эйхманис (никаких аллюзий с военными преступниками, реальное лицо) и заключенный Вершилин о тонкостях сбора черники в пасмурную погоду. Здесь уже аллюзии были, ибо фраза «В труде спасаемся» напрямую восходила к изречению «Труд делает свободным», венчавшему ворота немецких концлагерей. Прилепин, которому большие формы удаются не хуже малых, собрал в свой ковчег офицерство, священство, мещанство, крестьянство, искусство, воровство и революционное сектантство (символично, что и конвойную службу несут осужденные чекисты). Свободных нет, невиновных нет: герой Артем Горяинов сидит за отцеубийство, юродивый Филиппок – за матереубийство, поручик Бурцев – за разбой, Вершилин пытал людей у Колчака, и даже батюшек упекли не за сан, а за антисоветскую агитацию с амвона. Соловецкий монастырь, где встарь терзали вероотступников и смутьянов, – наилучшее место для религиозных аллегорий о грехе, стоицизме, каре и глобальных невеселостях национальной судьбы. Религиозные войны всегда отличались длиной и свирепостью – а великая и досель не законченная Гражданская война в России, конечно, была столкновением вер.
Перенос этого многообразия смыслов на экран – дело почти непосильное: любой недосол и пересол в лагерной теме карается антагонистическими сектами люто (уже нашлись бывалые политкаторжане, которым в фильме зверств недостает). Тюрьма некиногенична: ну, не любит зритель смотреть на библейского размаха мучительства, хоть и никогда не признается в этом. Зрителю нужен герой-стоик, а таких в зоне не терпят, быстро обламывают гордецов; хорошо еще, режим в 1927-м до поры не ставил задачу обратить людей в мокриц – казнить казнил, но с должным уважением.
Велединский справился. Удержался от всего паскудства, которым славится кино на лагерную тему: лозунгов про загон человечества к счастью, хроники созидательного труда под песню «Где так вольно дышит человек» и прочих обличений совдепского лицемерия. Собрал все вместе. Режим. Спектакли. Чернику. Убийства. Философские вечера. Штрафной зиндан. Блатных. Язвы. Французские диалоги. Облупившиеся росписи на стенах. Один только саундтрек, в котором соседствуют «Интернационал», «Санта Лючия», «Хризантемы» и «Яблочко», «Марш авиаторов» и «Танго магнолия», «Вокализ» Рахманинова и «12 разбойников» Некрасова, дает идеальное представление обобщенной русской души 1927 года. А кому зверств мало – можно было бы по образцу вайдиного «Канала» дать предуведомление: «Всех, кого вы видите на экране, убьют». Красных и белых, ЗК и вохру, попов и блудниц, фраеров и блатных – за вычетом пяти-шести, из которых двое – реальные люди, академик Лихачев под именем Мити Щелкачова и первый начлаг Ногтев, оттрубивший потом восьмёру. Много, много разбойники пролили крови честных христиан. Да и нечестных. И не христиан. И своей разбойничьей.
В ролях главных антагонистов Эйхманиса и Горяинова заняты два исполнителя, которые «всем надоели», – Безруков и Ткачук. Надоедают у нас из-за аккордной занятости, как правило, большие артисты. Не их вина, что Россия последние семь лет заново переосмысливает свою историю с литературой – не давая лучшим засидеться и выждать спрос. У Прилепина Эйхманис говорил, «кривя улыбку», – ну и кто, кроме Безрукова, так может? Разве вот этот же Ткачук.
На весь фильм сыщется лишь один вкусовой сбой – беспричинная страсть авторов к белому воинству. Ад уродует всех – но те, кто ада не видел, спешат выгородить социально близким отдельный благородный закуток. С этой целью в лагерном театре ставится булгаковская «Белая гвардия». Господи, кто, когда позволил бы на Соловках ставить «БГ», будь она хоть трижды любимой пьесой Сталина? Кто бы дал «бывшим» разгуливать по территории в ремнях и погонах с песней «цок-цок-цок, по улице идет драгунский полк»? Тяга наших глубоко штатских мальчиков воображать себя офицериками с хоругвью достойна внимания психиатра – как и назойливое вкрапление в текст гумилевских строчек про хамов и цветаевского «Белая гвардия, путь твой высок». Чей путь высок – Вершилина, щипцами вырывавшего из людей мясо, или Бурцева с его гоп-стопом? Ключевая прилепинская фраза из эпилога по понятным причинам в фильм не вошла: «Я очень мало люблю Советскую власть. Но ее особенно не любит тот тип людей, который мне, как правило, отвратителен. Это меня с ней примиряет».
Однако, за вычетом сказанного, продюсер Тодоровский вместе с режиссером и сыном-сценаристом сделали великое дело.
Зачтется.
Не здесь, а в местах, с которыми сверяется Прилепин.
Под советским игом
«Зулейха открывает глаза», 2019. Реж. Егор Анашкин. По роману Гузель Яхиной
Главного гаденыша в книжке звали Горелов. Супер. «Больше всего Зулейха не любила Горелова. Его никто не любил», – такое чтение будоражит и бодрит. Как и весть, что злого Горелова играет добрый А. Баширов. Уж и не чаял породниться.
Всем остальным сага о раскулаченной татарке воображение не потрясала. Единственная перспективная линия о тирании в мужнином доме (намекавшая: нам, татаркам, все едино – что ссыльное ярмо, что семейная плеть) была скоренько свернута во имя эффектных красных зверств. Дальше площе. Рождение на северах у Зулейхи мальчика Юзуфа (Иисус, не иначе – в ссылках одни Иисусы и родятся). Лепка из хлеба на потеху голодному вагону бюстика Сталина (по всему видать, не голодала Яхина ни дня). Сто двадцать восьмой в нашей литературе рассеянный еврейский профессор. Слог студента литобъединения. «Глазища в пол-лица», «распахнутый взгляд», «неугомонный птичий щебет», «рука повисла плетью», «сжимал до хруста в костях» – чем эта графомания тронула сорок сороков не жалевших елея литераторов, умом не понять. Разве вот этим: «На карте сияло гигантское алое пятно, похожее на беременного слизня, – Советский Союз». Людмиле Улицкой[21] непременно должно было понравиться.
Литературу, мир, историю у наших моторов общественного мнения еще сто лет будет определять Сталин. Репутации Хрущева и Брежнева (натянуто утепленная у одного и хамски ядовитая к старческой немощи другого) продиктованы единственно тем, что один Сталина хаял, а другой признавал вклад. Вот и следующую, по-настоящему сильную книгу Яхиной «Дети мои» опять хвалили за Сталина (которого в ней страниц десять, а остальные пятьсот – о том, что все беды поволжского немецкого хутора от революции до коллективизации начались с изгнания в леса единственного интеллигента учителя Баха, а не прогони деревня умника – и революции бы никакой не было; мысль парадоксальная, но мощная). Как и следовало ожидать, шуму о «Детях» стократ меньше, чем о «Зулейхе».
Ровные унылые ужасы вожди канала «Россия» ожидаемо превратили в русское садо-мазо. Мало им было ежедневного падежа ссыльных от истощения – они еще и красноармейцев заставили по детям стрелять. Мало утопления баржи с раскулаченными – все начальники голодных времен показаны раскормленными боровами. В желании изобразить красные власти фашистскими оккупантами канал заступил границу дозволенного массовым вкусом. Вполне приняв зверства и пролетарскую спесь синих фуражек, аудитория взорвалась в ответ на демонизацию буденовок со звездой: рейтинг первой недели 5,4 – это форменная катастрофа. Выбор постановщика, по всей видимости, диктовался успехами г-на Анашкина в переносе на экран софт-порнографического сюжета «Кровавая барыня» (о Салтычихе). Хроника национальных бедствий все же требует известного такта, а режиссер куда более преуспел в окультуривании насилия и секса. Последнего у Яхиной оказалось маловато – и краткое упоминание о похотливой Настасье расползлось в сквозную линию Ю. Пересильд в галифе и махновской папахе. Если в теплушках люди мыкаются – надо в штабном вагоне для контраста окороками сверкать. Написано же у автора: «сливочная кожа пышного бедра» – у кого в цеху бедро сливочное? Где Пересильд? Подать ее сюда.