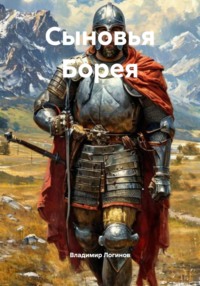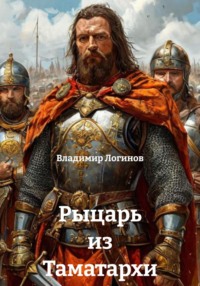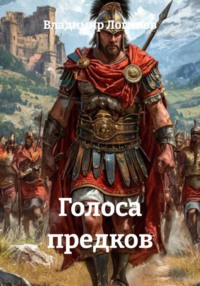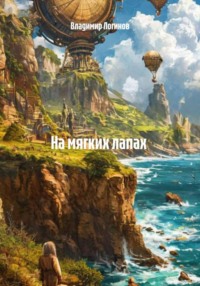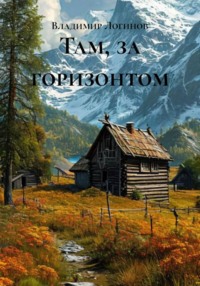Полная версия
Звёзды над Боспором
Хорошо, что Олег факультативно изучал в университете старославянский язык наравне с тюркским, арабским, греческим и фарси. Речь Урса он понял, правда, значение некоторых слов ему было не совсем понятно. Приходилось угадывать смысл слова. Новый знакомый пригласил Олега отведать варева, приготовленного его товарищами. И, хотя Олегу не нравилась простая, малосолёная пища славян, отказаться он не мог. Обидишь, а своих далёких предков историк уважал за их отчаянную храбрость и наивность. Ели они из большого общинного котла, аккуратно и не спеша, каждый своей роговой или деревянной ложкой, которую, облизав напоследок, клали за голенище мягкого сапожка вместе с боевым ножом. Возле котла с кашей больше десятка дружинников расположиться не могло, а потому соблюдался довольно странный порядок. Сначала ели молодые с гостями, если таковые случались, потом средние по возрасту, и лишь потом старшие, которые ещё и приговаривали при этом, что остатки всегда сладки.
Многое уже из тех далеких обеденных, да и других традиций, забыто последующими поколениями. Здесь молодых берегли и в бою, и в быту. И эти молодые постоянно ощущали заботу о них старших, и были благодарны им, и подражали старшим во всём, и передавали опыт и традиции дальше, в будущее, своим детям и внукам. Олег отметил про себя, что сейчас, когда всё то доброе, что накопили предки, было со временем растеряно, а современные люди приобрели определённый негатив в виде зависти, жадности, эгоизма, предательства и провокаторства, жить стало намного сложней. Но и современный мир понять можно: людей стало гораздо больше, а в больших сообществах и отношения стали более сложными. Противоположные интересы разных слоёв общества требовали договорной основы, повсюду был необходим компромисс, а иначе человечеству гозило самоуничтожение.
Олег отметил и такое обстоятельство: почему-то в его время распространилось мнение, подкрепленное учёными выкладками, что древние жили мало. Конечно, если взять усреднённый показатель, то да. Но при этом забывают, что люди в основном, гибли от постоянных боевых действий, инфекционных заболеваний, эпидемий. А если исходить из того, что жили долго? Например, арабский полководец Хабиб Ибн – Маслама, который начав воевать ещё в 654 году, закончил свою военную карьеру в 730 году, в возрасте девяносто шести лет. Уйдя на покой, он прожил еще два года. Несгибаемый и удачливый, он не знал поражений. Или взять хоть его современника и заместителя, полководца Саида Ибн-Амра аль Хараши, который ушёл «на пенсию» в девяносто лет, начав воевать двадцатилетним парнем. Эти полководцы громили и рвали лучшую по тем временам византийскую армию, вытеснив её из Египта, Ливии, Палестины, Сирии и Ливана. Вот только с хазарами арабы ничего поделать не могли. Хазары наголову разгромили и уничтожили арабские армии Сальмана Ибн-Рабиаха аль Балхи, Абд-ар-Рахмана и Джерраха Ибн Абдаллаха аль Хаками вместе с этими прославленными полководцами. Хазарский же предводитель Барджиль прожил девяносто лет.
Всё это Олег, сидя у костра среди этих весёлых русских юношей, знал. Знал он и то, что непобедимую хазарскую армию разгромят русские полки киевских князей и, по сути дела, развалят каганат, сделав Таматарху столицей Тмутараканского удельного княжества на несколько веков, до монгольского нашествия. Конечно, правящий род Ашина совершил гигантскую историческую ошибку, приняв иудейскую религию и утвердив её, как государственную. В народе она не прижилась, и развал каганата был предрешён. Размышляя, Олег подумал, что уж лучше бы хазары приняли мусульманство. Тогда, подкреплённая арабскими полками, хазарская армия вполне могла бы выдержать давление русских с севера и удар неудержимой монгольской конницы с востока. Но всё это только предположения.
А пока наступал первый день Пасхи и слышался колокольный звон, но был он каким-то будничным. Олег, побывав ранее в различных исторических прослойках, знал, что Византия является родоначальницей колокольных звонов, но только на Руси эти звоны были доведены до совершенства, звучали в церковные праздники очень уж торжественно, истово, всепобеждающе, утверждая силу духа, окрыляя верующего человека. Олег пригласил своего нового товарища Гамаюна прогуляться по городу. Выйдя на соборную площадь перед церковью Пресвятой Богородицы, Олег услышал знакомый сто третий псалом, который дружно распевали в храме верующие: «Как многочисленны дела твои, Господи!»
Встретив недоброжелательные взгляды византийских воинов на площади, Олег и Гамаюн трижды перекрестились и поклонились куполам храма. Уходя в сторону гавани, Олег спросил Гамаюна:
– Ты христианин?
Тот долго раздумывал и историк сам ответил:
– Понимаю. Трудно в одночасье забыть веру своих дедов и отцов, и тут же приобщиться к новой вере. Здесь важно понять философию любви человека к человеку и ко всему сущему, проникнуться величием Бога и непогрешимостью его деяний.
– Я так мыслю, хронист, – заговорил после некоторого молчания Гамаюн, – Бог может принять обличье нищего калеки, и ты не можешь пройти мимо, не отдав ему половину своей последней краюхи хлеба. И
Он может быть в облике собаки, которую пинает прохожий. И может быть деревом, которое ты собрался срубить. Но мы просим прощения у деревьев, которые рубим, и у травы, которую косим. Просим прощения и у животины, которую лишаем жизни по необходимости. Такова наша древняя вера. Только вот как полюбить врагов своих? Зла в мире много. Если мы не дадим отпора, скосят нас, как траву. И нас вятичей, и кривичей, и других русов.
Олег поймал себя на мысли, что его новый товарищ сворачивает на стезю язычества, где он, по сути, и пребывает. Чтобы сменить тему разговора, спросил:
– Ты здесь бывал раньше?
– Бывал и здесь, и в Боспоре, и в Херсонесе. Где я только не побывал, Олег, когда по воле богов лишился семьи: родителей, братьев и сестёр своих. Был я ещё мальчишкой, когда дядька Синеок взял меня с собой в далекий путь, в Хинд. Косоглазый Обадия нанял тогда Синеока в личную охрану. Долго мы туда тащились. Через горы, через реки. Пока шли, выучил я тогда и тюркский язык, и по-арабски заговорил, и не только, но и арабскую вязь познал, письмо. Когда туда добрались, насмотрелся я там чудес всяких. Жара там несусветная. Народ чёрный, веселый. Ходят голышом. Владеют большими добрыми зверями с носом до земли и с клыками, как у старого вепря, только больше. Силы эти звери неимоверной. Бревна таскают своими носами. Храмы в Хинде высокие. На стенах храмов много вырезанных из камня фигур людей. Одни имеют шесть рук, а другие с головами этих носатых зверей. А ещё много на этих стенах красивых девок и занимаются эти каменные бабы с такими же голыми мужиками непотребным делом. Дядька мне ещё всё очи закрывал ладонью, да я всё равно разглядел.
Олег рассмеялся:
– Да это их боги: Рама, Шива, Ганеша. Культ любви у них.
– Во, во! Шива! А ещё там много зверьков, похожих на маленьких людей. Лезут везде, воруют. Могут и на голову залезть. Людей в Хинде полно всяких. Попадаются и такие, что прямо как головёшки чёрные. Вернулись мы с дядькой Синеоком домой только через год, а семьи моей в живых никого не осталось. Вот тогда дядька Урс и забрал меня в свою семью. Да только дома я уже усидеть не смог. Тянуло меня в дальние страны. Ходил с охраной караванов. Лес возили хазарам, и сюда, в Таматарху. Выучился и по-гречески, и грамоте ихней. Толмачом сделался и в сечах бывал, а один грек обучил меня ближнему бою без оружия.
Гамаюн, не торопясь, рассказывал о своих странствиях, а Олег, слушая, разглядывал город, по которому они шли, спускаясь к гавани. Христиане – в этот первый день Пасхи, находились в храмах, которых в Таматархе было несколько. В городе жило немало людей других вероисповеданий, которым этот великий христианский праздник был, по сути дела, не интересен. Они спешили по своим делам. В основном на работу в многочисленные гончарные мастерские, на скотобойни и маслодавильни, в порт, на разгрузку товаров. Разные встречались люди – это были, в основном, греки и хазары, но были и аланы, и арабы, и славяне, и даже те же касоги. Всем находилось дело в приморском торговом городе.
По улице, мощённой кусками пифосов, каким-то строительным мусором, костями животных, булыжником вперемешку с песком, катили, производя сухой треск и грохот, телеги и повозки, колёса которых окованные железными ободьями уплотнили это своеобразное уличное покрытие до твёрдости горных дорог. Дома, чаще двухэтажные, были собраны из пластинчатого базальта, среди которого попадались куски обработанных блоков ещё античного происхождения. Да и не удивительно. Ведь Таматарха была отстроена «на костях» Гермонассы, греческого города-поселения после чудовищного разгрома Боспорского царства гуннами. Как правило, первый этаж – это хозяйственный блок, где горожане хранили бытовой инвентарь, продукты и всякую мелочь. Второй этаж – это спальни, где хранилась дорогая одежда и всё самое ценное в доме.
Сам дом и, расположенные рядом, хозяйственные постройки были накрыты крышей из черепицы, а некоторые из камыша. За домом обязательно располагался сад, а дворик оплетала виноградная лоза, которая летом, в жару, ещё служила и защитой от жарких солнечных лучей, создавая тень. Олег заметил, что среди таких, традиционно греческих домов, часто попадались и одноэтажные постройки из саманного кирпича, явно принадлежащих хазарам. Кстати, многие из них были круглыми в плане, напоминающими юрты кочевника. А всё потому, что бывшие степняки, являясь язычниками, не любили строить квадратных домов, боясь углов, в которых, как они считали, таится нечистая сила. По этой причине терпеть не могли кроватей и спали на глинобитных полах, подстелив кошму из овечьей шерсти. Естественно, верблюжья считалась лучше.
Все эти подробности из быта горожан рассказывал Олегу, по пути в гавань, Гамаюн. И ещё историк обратил внимание на то, что оконные проемы вторых этажей были узкими и задрапированы легкими тканями.
В такие окна вооруженный воин пролезть не мог, разве что с тощей фигурой вор. Некоторые окна занавешивались камышовыми циновками, а иные ничем, зияя чёрными прогалами. Первые этажи не имели окон, за исключением ювелирных и обувных лавок. А ещё попадались заведения чеканщиков посуды, молоточки которых уже вовсю стучали, несмотря на праздник.
Произведения их, из меди и серебра, красовались в окнах, которые на ночь запирались тяжёлыми дубовыми ставнями. Воры, а они уже плодились в те древние времена, и как раз в городах. Уж если обезьяны постоянно норовили что-либо украсть, то человек мало, чем отличался от них. Правда, глубоко верующий христианин такого жлобства себе не позволял, а вот если какой-нибудь нехристь, то ведь и мог. Правда и то, что хозяин, поймав вора на месте преступления, не вёл его к городскому протонатарию (прокурору), а сразу мог продать шкодника на галеры. Нужда в галерных рабах была постоянной. Надо отметить, что и городской протонатарий не отличался гуманностью. Если были свидетели события, то приговор однозначен – на галеры, в редких случаях – на скотобойни. Работа там была ужасающей. Мало у кого имелось шансов долго прожить. Разница только в том, что на скотобойне можно было хоть что-то поесть, а на галерах, прикованным к вёслам рабам давали один раз в сутки кусок сырой тухлой рыбы и чашку такой же воды. Отходы человеческого пищеварения смывались надсмотрщиками морской водой за борт, из кожаных вёдер, через отверстия в бортах.
Таким весьма жестоким образом общество сдерживало бытовую преступность. Надо сказать, что и воры обходили стороной те города, где власть свирепствовала. Ну да ведь, если от вшей не избавляться, так они заедят человека, а воров горожане справедливо считали человеческим браком. Правда, были воры вынужденные – это дети, которые лишились по разным причинам родителей. Таких обычно прибирали общины верующих, но бывало, что некоторые, не очень-то сердобольные горожане, продавали таких детей в солдатские школы Византии.
Правителем в большом округе Таматархи и Боспора был наместник кагана, тудун Папаций. И уж с ворами-то он не церемонился, наплевав на византийский Димосий – канон, который хоть чуточку ограничивал власть протевонов и протонатариев в городах империи. По давнему договору между Византией и Каганатом управление в городах и черноморских портах было совместным. Кроме хазарского тудуна был и протевон, глава греческой общины. Но хазарские наместники, тудуны, византийских законов не признавали и своё, хазарское население города и округа держали «в ежовых рукавицах». Доходы от пошлин с торговых караванов и портовых сборов греческие и хазарские власти делили пополам. Каждая из властных ветвей имела свою администрацию в виде хартуляриев, коммерциариев, нотариев и прочих весьма прожорливых чиновников.
В порту стоял невообразимый гвалт от скопища людей и животных. Вдоль берега расположились густые ряды кораблей. Полуголые рабы таскали с них мешки с зерном, солью и другими товарами, укладывая их на телеги, или носили в складские помещения. Купцы угадывались по тяжёлым одеждам. Нагруженные повозки, одна за другой, уходили в город. Их места занимали другие. Неподалеку, окруженные конными арабами, ожидали своей очереди на погрузку пленные касоги. Среди торговых галер выделялись более крупными размерами триэры, с единственной мачтой и парусом. Поотдаль от основных пирсов разгружались сразу два корабля: один с известковым камнем, а другой с дровами.
Олег, взирая на этот людской муравейник, вдруг, чуть ли не согнулся от мысли, что вся эта картина, эти, снующие туда-сюда люди, необычные гребные корабли, даже море – всё это, с точки зрения его, человека конца ХХI века, где-то там, далеко, в прошлом. Все эти люди давно умерли и кости их, пожалуй, истлели. Корабли давно сгнили. Может быть, вся эта суета вокруг – плод его воображения, сон. Олег провел ладонями по голове, как бы стряхивая наваждение. Да нет, никуда ничего не исчезло. Вот и Гамаюн стоит рядом и что-то рассказывает по-гречески, на древнем ещё диалекте. Ведь наступил семьсот первый год от рождества Христова, и историк Олег Медведев находится на Таманском полуострове, на территории бывшего Боспорского царства и через пролив видна Керчь, называемая в данный момент Боспором, а ещё ранее – Пантикопеем. А теперь вся эта территория, включая степной Крым и Причерноморье, которое эти люди называют Ателькузу, находится под хазарским протекторатом.
– Очнись, Олегша! – прозвучал голос Гамаюна. – Что задумался? Я говорю тебе про эту древнюю дорогу, на которой стоим. Она тянется из порта Таматархи вдоль побережья туда на юг, в Закавкзье, мимо греческой крепости Фасис и ещё дальше, в Курдистан. Вся земля здесь пропитана кровью на три, а может и больше, сажени. Когда триста лет назад в эти края пришли гунны, они ж камня на камне не оставили. Все разграбили, сожгли, людей перебили. Погибла и эта Гермонасса, и Боспор. А пришли они с востока из-за Итиля (Волги). Одна ветвь гуннов пошла на запад, через Ателькузу, на Паннонию. Разбили готов, напали на германские племена алеманов, ютунгов, саксов и франков, а потом повернули на Рим. Разграбили и его. А вот другая ветвь гуннов вторглась в Подонье, разгромила алан, уничтожила все приморские города греков, и, вот по этой дороге двинулась на Закавказье, Курдистан и Сирию. Здешние города несколько лет зарастали травой. Потом здесь опять появились неугомонные греки. Так, рыбу ловили. Рыбы тут пропасть. Торговли не было. Через некоторое время пришли булгары, и стала оживать торговля. Вот булгарские племена и заняли приазовские степи и Таманский полуостров. Позже булгары освободились из-под власти тюрков, а их вождь и правитель хан Кубрат уже в 635 году создал Великую Булгарию и столицей государства сделал Фанагорию. Император Византии Ираклий пожаловал Кубрату почетный титул патриция. Подкрепил дружбу богатыми дарами. От такого союзника отказываться уж никак было нельзя. Только вот куда подевались гунны, никак не пойму?
– А я тебе подскажу куда, – отозвался Олег. – Ведь хазары, дорогой мой Гамаюн, – это и есть гунны. Вернее их потомки. А вот скажи мне: откуда ты узнал об этом отрезке истории, Медведь?
Гамаюн, шагая рядом с Олегом по древней дороге, поглядел вдаль, потом на историка и сообщил обыденно, без похвальбы:
– Так я же читал труды Прокопия Кессарийского, патриарха Никифора, армянского епископа Себеоса, Агафия, Захария Ритора, армянского историка Моисея Хоренского, а главное, мой друг, трактаты Аммиана Марцеллина, византийского историка, который и жил-то во времена нашествия гуннов и готов на Римскую империю.
Олег был удивлен:
– Да, ты, я смотрю, человек-то учёный. Для славянина, который ходит у себя в дремучих лесах, там, далеко на севере, как-то не вяжется такая осведомленность в делах истории.
– А чему тут удивляться, хронист? Я ведь уже рассказывал, что с детства, как отрезанный от ковриги хлеба ломоть, мотаюсь по свету. Языки познал, грамоте научился, читать приобык, со многими учёными людьми встречу имел.
Дорога, по которой они шли, всё дальше удалялась от порта, и представляла собой избитую колесами колею с односторонним движением, кое-где уже затянутую вездесушим осотом, одуванчиками и подорожником. По правую руку от них шумел морской прибой, да тягучими стонущими голосами перекликались чайки. В чистом утреннем небе, высоко кружили два стервятника, выискивая себе пропитание. Дорогу преградил древний шлагбаум. Толстый, в обхват, дуб лежал на вкопанных козлах. Поднять такую преграду могли только человек десять здоровенных мужиков. От этого шлагбаума, заходя в море, шёл частокол, высотой в два метра, напоминающий противотанковые ежи. Такой же ряд ежей тянулся и с левой стороны, уходя куда-то далеко в степь. Брёвна этих ежей, толщиной с солидного человека, были вкопаны с наклоном друг к другу и в сторону степи. Заостренные, они были специально обожжены. Олег предположил, что даже современный сорокотонный танк не смог бы, пожалуй, с ходу пробить такую мощную преграду.
– Это от кого же такая защита, Гамаюн?
– Да мало ли от кого! Тут видишь, какое дело. Хазары по степи далеко продвинулись в земли поляниц и вятичей. Стали восстанавливать по Дону, Хопру и Медведице заброшенные скифские городища. Нас, вятичей, стали беспокоить, дань требовать. Ну, мы, чтобы не изнурять себя постоянными военными стычками, согласились платить им дань лесом. Уж этого-то добра у нас немеряно. Строили-то хазары всё из камня, да из глины. Ну, а без леса никакое строительство не обходится. Заготовляли мы им сосну, листвянку, дуб. Варили для их скрипучих телег мазь из дёгтя. Для нас такая дань – плёвое дело. Сначала хазары сами возили заготовленные брёвна для своих городищ, а потом и мы начали возить. У нас-то был свой интерес. Хоть дорога и дальняя, да везли мы дерево аж до самой Таматархи и Фанагории. Грабить по пути нас бы никто не посмел, себе дороже, хазары накажут. Приморские города отстраивались, потому нуждались в лесе. Своего-то леса у них, как видишь, кот наплакал. Крепостных стен тоже нет, да и не было. Вот наши старейшины и предложили протевону Таматархи, и хазарскому тудуну, протянуть засечную линию от моря до озера – это полтора фарсанга (9 км). Поставили им для примера два треножника. Каждое бревно из дуба, толщиной в обхват и длиной в три человеческих роста, половина вкапывается в землю. Такую линию никакая конница сходу не
возьмёт, и не горит она.
– Неплохо придумано! – заметил Олег.
– Ну, вот! – продолжил свой рассказ Гамаюн. – Тутошним городским властям шибко захотелось такую ограду заиметь. Они и наняли нас. По уговору, дуб мы должны были поставлять как данники, а вот строить – это уж за плату. Ну и, само собой, прокорм от города. Дали нам рабов копать ямы, таскать брёвна. Тут, видишь, хитрость одна есть: три бревна в верхней трети соединяются в замок без единого гвоздя. Мы им показали. Да куда там! Бестолочи! Короче, лет этак за пять, мы им эту перегорожу сладили. К тому же, на базары ихние наши торговцы привозили соболя, бобра, лису. Продавали с большой выгодой. Домой везли дорогие подарки. Жёнки наши, девки – все в шелках, в доброй обуви, в перстнях и дорогих уборах. Любо-дорого посмотреть. Вот и соблазнили буртасов с Итиля, мол, забогатели вятичи, соседи их лесные. Через лес пробрались они, как тати, ночью напали. Мужики наши, как назло, в отъезде были. Одни на строительстве в Таматархе, другие – в караване с лесом. Воинов в городище мало оставалось. Я, мальчишка, с дядькой Синеоком в Хинде обретался. Вот тогда погибли и мои родители, и сёстры, и братья меньшие. Хазары, правда, отомстили буртасам: пожгли их сёла, кой-какой народ в полон забрали. В устье Бузана \Дона\ большой рынок работорговли – вот там и продали обидчиков наших. Да мне-то от этого не легче – родню не воротишь. Вот тогда я и пошёл скитаться по белу свету. Не один, конечно. Одного-то вмиг в рабство загребут. Родное пепелище восстанавливать не похотел потому, как тяжко мне было. Душа болела, сердцем маялся. Ладанку вот с пеплом родным на груди ношу.
Шею Гамаюна облегал тонкий сыромятный ремешок, на котором висел маленький, из тонкой кожи, мешочек. Олег, чтобы развеять горестное окончание рассказа, приобнял парня за могучие плечи и предложил:
– Мне надо купить шейный платок, Гамаюн. Прикрыть вот это ожерелье, а то уж очень оно бросается в глаза.
– Зачем покупать! – оживился Гамаюн. – Ты только расскажи что-нибудь интересное. Купцы люди любознательные, учёных людей шибко уважают. Пошли вот вдоль этой огорожи вверх. С четверть фарсанга пройдём, и базар будет. Там и разживёмся.
Глава 5. РЫНОК ЧУДЕС
Перефразируя известную поговорку, можно сказать: кто не видел базара – тот ничего не видел. Вселенная в строгой устроенности своих холодных звёздных миров тихо поворачивалась над головами, спешащих куда-то, людей. Необоримые желания плоти, любопытство, жажда каких-то знаний и слухов, как магнитом притягивала их в одно место: на городской базар.
– Город, с его побелёнными известью домами, утопающими среди зацветающих акаций и сирени, с возвышающимися то тут, то там пирамидальными тополями, с красными пятнами черепичных крыш, был в два раза меньше, чем огромный рынок рядом. И непонятно было, то ли этот странный рыночный муравейник примыкал к городу, то ли, наоборот, город являлся малой окраиной, меньшим спутником огромной территории, запруженной галдящими людьми, разнообразным товаром и животными. Кроме этого рыночная площадь была заполнена повозками, телегами и арбами, разноцветными шатрами, большими и малыми палатками с чадящими жаровнями. На этом базаре можно было купить себе даже жену, наложницу или просто рабыню для работы по дому.
Людей тянуло сюда не только за тем, чтобы что-то купить или продать. Горожанам хотелось развлечений, общения. Им хотелось увидеть здесь что-то необычное, какое-нибудь чудо. И они получали здесь всё сполна. Базар – это огромный театр, это зоопарк и цирк, это эстрада, наполненная разношёрстными исполнителями. Это газета и книга. Это, наконец, гигантский универсальный магазин, где можно было найти всё, что нужно и не нужно человеку. Здесь сконцентрировались дьявольские силы. Здесь дух борется с плотью и, может быть, побеждает её. Плоть ведь не всегда восстает против чревоугодия, гордыни, непотребных желаний и зависти. Люди здесь наполнялись кто злобой и раздражением, кто весельем и радостью, получалось, что жили они здесь, получая вожделенные эмоции. Получалось, что здесь не столько покупали и продавали, сколько развлекались. Одни всё же пытались нажиться, – другие, купить подешевле, третьи же, и их было, пожалуй, большинство, желали просто общения с новыми людьми. И общение это принимало разнообразные формы: вплоть до ругани, сбрасывания своей негативной энергии на другого. Одним словом, в таких местах всегда кипят человеческие страсти. Люди тащатся сюда спозаранку и пребывают тут до вечера, пытаясь удовлетворить свои желания. Большинству это удается.
Когда Олег, в сопровождении Гамаюна, вступил на один из неисчислимых рядов этого скопища людей и товаров, он понял, что найти нужную ему вещь будет непросто. Да и не мудрено, если в одном ряду только рыба: жареная, вяленая, всякая. А в другом – мясо. Тоже во всяком виде, только не в сыром: городские власти, боясь эпидемий, запрещали продавать сырое мясо и рыбу. В третьем – только фрукты и так далее. Где ряды с тканями, одному Богу известно. Вывесок и указателей нет. Ориентируйся, как хочешь. Существует издревле один метод поиска: спросить людей. Причем таких, которые здесь заняты какой-то работой.
Утреннюю прохладу уже снесло лучами поднявшегося солнца и посреди ряда они увидели человека, который занимался обычным на базаре делом: увлажнял пыль. В одноконной упряжке стояла бочка с морской водой. Человек черпал кожаным ведром воду из бочки, макал туда веник и брызгал им по пыли и ногам прохожих.
– Сейчас мы у этого спросим, где найти одного моего знакомого торговца, который торгует шёлком! – успокоил Олега Гамаюн.