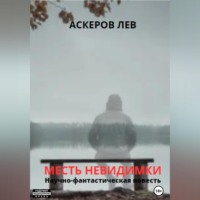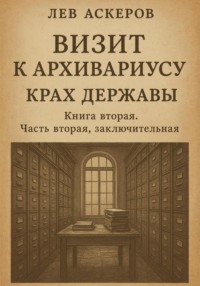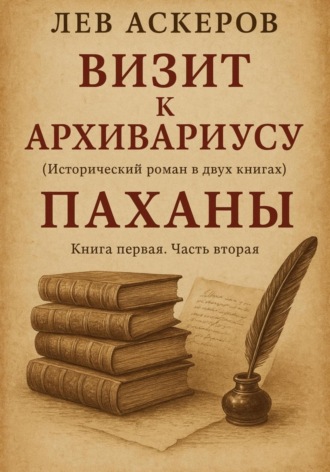
Полная версия
Визит к архивариусу. Исторический роман в двух книгах (II)
– Им надо было нас предупредить пораньше,– резонно заметил Плут.
– Умник нашелся,– проворчал Ефим.– Козырю самому сообщили только сегодня.. Гонец припоздал.
– Он припоздал, а нам отдуваться,– фыркнул Торопыжка.
– Валек, обсуждать поздно. Надо думать и действовать,– проговорил Азим.
Он же и надумал
– Возьмем пару барок и сгрузим итальяшек в море.
– А сами где?– спросил Торопыжка.– В Шушерской?
– А мы… Правда это рискованно, ребятки. Но может сработать…
Коган с Торопыжкой уставились на замолкнувшего вдруг турка.
– Не тяни, Азимушка,– просит Ефим
– Ошвартуемся к киржиму! Там нас никто ждать не будет!
Объяснять к какому киржиму Когану не надо было. Разве мог он забыть киржим своего первого триумфа?
– Точно! – вертанулся на табурете Торопыжка.– К тому самому, твоему, Сапсан! Помнишь?
– Он у них на примете. Им потом пользовался Валерьян…
– В том-то все и дело, Фима! Уже больше года баржа сирота сиротой. Без присмотра. На нее никто не обращает внимание.
– Хорошо! Была не была! Мы с Азимом сгружаем на барки итальянское добро, а ты, Валёк, будешь ждать нас на киржиме.. В случае опасности подашь полундру.
На том и порешили.
Сигнала: «Полундра!» от Торопыжки не было. Будь что, не он, так Азимка услышали бы. Уши их топырились на фигурку, стоявшего на барже Валька. «А может это был не он?– забирая из тайника керогаз, мелькнуло у Ефима.– Или же солдаты тыкали ему стволом в спину, чтобы он молчал».
Прежде чем направиться в усадьбу Бальцера, Ефим свистнул Плута, который жил от нее за два дома.
– Это ты, Сапсан?– облокотившись на забор, спросил он.
– Я, Витек… Я…
– Что с тобой? Ты в крови что ли?..
– Продырявили… Убили кажется,– проговорил он и подумал: «Ты смотри, говорю, как Азим… Неужели убили?..»
– Давай ко мне.
– Нет, я к Валерьяну…
Быстро, сбивчиво, но понятно рассказав, что произошло, он на какое-то мгновение потеряв равновесие, ткнулся лбом в грудь Плута.
– Нет, я тебя такова никуда не пущу. Ты же на ногах не стоишь..
– Заткнись! – стукнув его головой в грудь, простонал он. – Слушай меня. Беги к Козырю… Расскажи все… Он знает, что делать.
– А ты?
– Беги, говорю! Слышишь!?! Немедля!.. Я к Валерьяну.
То и дело, оглядываясь на Когана, Плут кинулся в сторону города.
– Быстрей, быстрей,– шептал он ему вслед.
Вызывать Бальцера из дома не пришлось. Несмотря на поздний час, он сидел на веранде и с кем-то бражничал. Едва держась на ногах, Ефим подошел поближе. Напротив Бальцера, лицом к нему сидел… Торопыжка. Увидев его он, разинув рот оцепенело уставился на него. Валерьян обернулся и Ефим, целясь ему в голову, раз, другой и третий нажимал на спусковой крючок. Торопыжка бросился бежать.
– Иуда, стой! – крикнул он, выстрелив в его вихляющуюся спину.
Больше Ефим ничего не помнил. Очнулся он в знакомом ему тюремном изоляторе.
– Очухался, убийца? – спросил его, маячавший в туман силуэт.
«Так это Троцкий»,– вяло подумал он и снова впал в беспамятство.
Несколько дней, не приходя в сознание, бредил. То, как вспоминали ему кричал: «Азимушка не умирай!»… То на все лады божась, колотил себя здоровой рукой по груди, горячо, с надрывом убеждал: «Дядя Шура, нет моей вины… Скажи итальянцам»…
Его подсознание знало, итальянцам наплевать, как пропал их товар. Главное у них теперь к Одесской братве тяжелая предъява…
Когда он стал соображать где он и почему, Ефим первым делом попросил фельдшера позвать к себе Троцкого. Узнав о его просьбе, Петр Александрович пришел тотчас же. И опять вместо приветствия беззлобно проворчал:
– Очухался душегубец.
– Петр Александрович,– зашептал он,– заклинаю вас сделайте одно одолжение. По гроб жизни буду благодарен.
– Ну и нахал ты, Сапсан. Ты и так по макушку в моих одолжениях и еще просишь… Ну давай, валяй.
– Сходите на Привоз…
– К Соломонычу что ли?
– Он из-за меня, но не по моей вине, сейчас по уши в дерьме.
– Да-к, Фима, ты уж всей тюрьме этим законопатил уши. Орал в бреду… Просил Козыря простить тебя… И еще говорил, что ты спросил с Иуды. Назвал этого Иуду Торопыжкой.
– Неужели? – опешил Коган.
– Откуда же, спрашивается, знаю я?
– Ну и ну! Наверное лишнего наворотил.
– Все, что выбалтывалось, слово в слово, передавалось мне. А я слово в слово передавал тому, к кому ты меня посылаешь.
– И что? – опираясь на локти, приподнимается он.
– Что, что?! Тебе от него малява. Третий день ношу… бери..
«У нас все сладилось. Плут-молодец. Правда Матюша ему отвалял за неурочное беспокойство, но он не в обиде. Пожар погасил одним Плевком. В ту же ночь. Кореши из Аппенин в хорошем наваре. И мы не в накладе…»
Ефим таинственно усмехнулся. Он понял зачем Соломоныч «Плевок» написал с большой буквы. И продолжал читать дальше.
«… Иуду Бог наказал. Кто-то там у барыги керогазом замаслячил ему в хребет. Теперь ему костылять всю жизнь…
Привет от Артамончика. Тебя – уважают. К.»
– Слава Богу! Гора с плеч,– облегченно вздохнул Коган.
– Не поминай имя Господа в суе,– оборвал его надзиратель.– Не Божьим промыслом занимаешься… Душегубы не в чести у Господа.
– Петр Александрович, один умный человек говорил мне, что Бог прощает всех потому, что все приходят от Него и все делается по Его предписанию. По букве, писанной его десницей.
– Не богохульствуй, бандюга,– остановил он его и что удивительно не сел на своего конька по кличке Философ. Просто встал и сказав – «выздоравливай. Тебе нужны будут силенки. Через месяц-другой – на этап. В Сибирь мачеху»,– и ушел.
Поправка шла быстро. Свое дело сделали домашние харчи и медикаменты. Их приносила мама. Она могла его видеть когда хотела. Такого никому не дозволялось. Все Петр Александрович и, конечно же, хрусты, кои мама через него передавала хозяину кичи. Ни в деньгах, ни в продуктах она не нуждалась. То и другое ей шло теперь от Козыря. А однажды, когда рана уже затянулась в изолятор прибежал вертухай от самого начальника тюрьмы и приказал ему следовать за ним. Ничего хорошего это сулить не могло. Сердце екнуло так, словно кто ударил в него, как в рынду. «Наверное, что случилось с мамой,– решил он.– Иначе с чего бы?»
– Куда топаем, служивый,– спросил он вертухая.
– К Куму в кабинет. Уже пришли. Проходи,– постучав в дверь, он подтолкнул его в спину.
Готовясь к самому худшему, Ефим, набрав полную грудь воздуха, нырнул в открытый проем…
В кабинете начальника тюрьмы, у открытого окна, улыбаясь, стояли Артамончик и Козырь. Со своей знакомой на всю Одессу шикарной тростью Щеголь стукнул его по бедру и, как слепой, ощупывая незнакомый предмет холеной ладонью обвел его чуть ли с головы до ног.
– Соломоныч, так Сапсанчик мой, оказывается, на самом деле, жив-здоров.
– Нет, Леха, не Сапсанчик – Сапсан,– тепло наблюдая за обнявшимися товарищами, поправил Артамончика дядя Шура.
– Конечно Сапсан! Настоящий Сапсан! – поедая глазами своего ученика, говорил он.
А ему, Ефиму, не видевшего Артамончика со дня первой своей отсидки, показалось, что он как-то спал с лица, стал меньше ростом и очень сухощавым. Скорее худым. Он это ему заметил.
– Ерунда! Это потому, что ты, Фимок, вымахал,– внес ясность он.
Леня лукавил. Ефим возмужал – само собой, а вот, то что Щеголь был безнадежно болен никому об этом известно не было. Его тихо и давно точила изнутри чехотка.
– Загулял ты в Киеве, Леонид Петрович.
– Может еще и продолжал бы гулять…– начал было Козырь, но Артамончик перебил.
– Не говори Соломоныч! – согласился он. – Если бы мне один из наших корешей не притаранил печального известия…
– Что за известие? – озабоченно спросил Ефим.
– О тебе, Сапсан. О тебе… Дескать, замочили тебя…
Говорили они с полдня. Если бы не дела и не хозяин тюрьмы, прервавший их беседу, они говорили бы и говорили. Он узнал о похождениях Щеголя в Харькове, Киеве, Москве и Питере. Узнал, что Соломоныч весь контрабандный промысел возложил на Плута…
Все сложилось хорошо. Правда было бы еще лучше, будь он на воле. Здесь – худо, но не тяжко. Мучило ожидание этапа и еще изводил его один и тот же видившийся им сон. Снился Азим. Он укорял его за то, что оставил его легавым и не схоронил по правоверным мусульманским обычаям. Ефим просил у него прощения и всегда просыпался от явственно звучавшего в нем Азимова возгласа – «Бах-хо!»
В одно из свиданий с Плутом он попросил его сходить в татарскую мечеть, чтобы мола прочитал молитву за упокой души раба Божья Азима.
– Ты, Витек, крымский татарин. У вас одна, кажись, вера. Ты с ним общался на своем языке. Он тебя понимал… Вот фамилии его я не помню…
– Аллах души знает в лицо, а не по фамилиям,– уверенно сказал Плут и в тот же день выполнил его просьбу.
И что удивительно в ту же ночь Азим впервые за много снов светло улыбался и что-то по-своему, горячо и благодарно лопотал
Ну как после такого не поверить, что Он есть. Что мы все откуда-то Оттуда от Него? И сны наши, и жизнь наша не от мира сего, а от мира Его. И просьбы наши, и молитвы – не пустое, не самообман и, уж, подавно, не дурман для народа, как утверждают большевики. Тут они ошибаются… «Идиот! Ты же сам большевик…» – высунувшись из-под тулупа, кривится он. «Ну и что? Все равно ошибаются»,– говорит он себе и, толкнув под зад возницу, спрашивает:
– Ты коммунист?
– А як же, Умыч? То бишь, был… Исключили.
– В Бога веруешь?
– Как можно?! – с хитрой настороженностью, покосившись на Когана, говорит он. – Опий он и есть опий, как говорил товарищ Ленин… Бог придумка богатеев. Все от нас зависит. От людёв… Посмотри, Умыч, на Лариошку Троицкого. Большой человек в церкви был. Много молитв знает. И что? Бог его слышит? Нет. Бог видит, как он мается? Нет!.. Как червяк под ногами елозит.
«Церковников я тоже не люблю,– не отвечая вознице, думает он.– Многие из них фарисеи. Кормятся тем, что, в угоду властям, врут от Его имени. Навидался… В языке колоколов церковных больше Бога, чем в языках рясоносцев… Бога больше в том, кого жизнь больше бьет. И Илларион, наверное, сейчас гораздо святее, нежели в те времена, когда в одеяньях богатых алилуйствовал в церковных приходах… Колокол звучит по Божьи, потому, что звонарь выбивает из его чугунного нутра, настоящие, понимаемые небом, звуки. В человеке так звучит душа. Она знает язык Бога. И хорошо, когда знание это не надо из нее выбивать»…
И тут его вдруг пронзила неожиданная мысль. Раньше она и в голову ему не приходила. Раньше она в нем возникнуть и не могла. Что он раньше знал о жизни? Да ничего!..
Надо выбивать! Надо, чтобы человек поверил в Него. Как это могут не понимать большевики?! Разрушая храмы, превращая церкви в лошадиные стойла, издеваясь над илларионами и, топча тех, кто верует, а веруют, если не дураки, почти все, они тем самым еще больше укрепляют людей в высшую силу небес. Им кажется, что они выбивают мракобесие, а на самом деле, от их ударов, в душах человеческих появляется настоящий ее голос. Голос понимаемый Господом… Они тем самым, не понимая того, будят Бога в них.
«И хорошо, что не понимают», – бурчит он в овчину, а вслух, снова толкнув возницу в спину, спрашивает:
– За что тебя исключили из партии?
– С ребятками, гамузем, барыньку молоденькую отымели. Прихватили добра, которого ее буржуйская семейка на нашей кровушке нажила… Не мы первые, не мы последние такое делали. А тут оказалось, она сродственница работника английского посольства… Такой хай подняли!.. И меня, солдата революции, до самых печенок большевика, командира боевого краснофлотского взвода, присудили в Соловки. Здесь хоть,Умыч, заслуги мои оценили. Не поставили на одну ногу с каэрами. Опредилили в бугры…
– Понятно,– взмахом руки, прекращая его излияния, Ефим снова окунулся головой в согретый дыханием теплый мех тулупа…
«Он дерьмо похуже меня,– брезгливо скривился Коган.– Хотя плохое или хорошее –дерьмо оно и есть дерьмо. Я хоть каюсь, а он – нисколько. Наверное, – успокоил он себя,– в душе моей больше Бога».
Глава одиннадцатая
Зебра жизни
На этапе. Дар Спирина. Заживо утопленные.
1.
За несколько дней до этапа он, наконец, решился рассказать матери о своем тайнике. Чтобы легче было отыскать его, он начертил подробную схему, как к нему добраться.
– Он здесь,– ткнув пальцем в жирно обведенный им кружок, Ефим добавил:
– Ма, там 26 тысяч…
– Состояние,– захлопала она глазами.
– Возьми и держи при себе,– сказал он, невольно любуясь ее длинными, как персидские опахала, ресницами.
– Не возьму,– воспользовавшись заминкой, всплеснула она руками. – Краденое впрок не пойдет.
– Мамуля, родненькая, деньги не краденые. От коммерции скопленные. Если коммерция воровство, то все государевы люди – воры.
– А разве не так? – неожиданно вырвалось у ней.
Ефим расхохотался. Мать смутилась. Ясно, ляпнула не подумав. Тюремные поборы государевых людей порядком достали ее. Хорошо Соломоныч каждую неделю подсылал ей деньжат и продуктов. Других, у кого не было денег, солдаты гнали взашей, подальше от тюрьмы.
– Так, мамуля! Так! Не в бровь, а в глаз, – восторженно потирал он руки.– Самая лучшая коммерция – государевы законы. Кто служит им, у тех каждый день хапок. И никакого ответа… Моя коммерция – контрабанда. Мой рисковый промысел очень хорошо кормит государевых людишек. Мои хрусты им бельма лепят, чтобы они не видели, что я делаю… А вертухаи тюремные живут на таких, как ты.
– Полно, полно, сынок. Не сыпь соль на рану.
– Хорошо, маменька. Хорошо… Послушай меня, не перебивая. Все хрусты держи дома. Трать как угодно. Да вряд ли придется что брать оттуда. С головой хватит и того, что будут приносить тебе Соломоныч, Артамончик и Витька татарин…
– Совестно как-то брать у них…
– Бери смело. Это моя доля от поставленного мной дела…
Мать в знак согласия тряхнула головой.
– Слушай дальше… Тыщонки три принесешь мне. Дорога дальняя. Понадобятся.
– А остальные?
– Трать, как хочешь. Перестрой дом… А что останется – пригодятся, когда вернусь.
– Три тыщи деньги большие Фимочка. Убить могут за них.
– Эх, ма! Убить могут везде и за что угодно. Даже за черствый сухарик… А деньга такая штука в тюрьме, что вытянет из любой передряги. Она всегда пригодится.
– Дай-то Бог, сынуля,– и упав ему на грудь, горячо заплакала. – У меня кроме тебя , Фимок, никого нет… Береги себя. Возвращайся.
Этап уходил спозоранок. Утро раздраженно звякало кандалами. Их было 33. Воры, убийцы, мошенники… Из-за ворот, пред которыми они стояли, тревожным шелестом листвы доносились тихие голоса, поджидавшей их там родни. Наверное, среди них и его мать. Не усидит. Придет.
Они попращались еще вчера. Устроил Петр Александрович. И он же отобрал у ней все деньги, которые она принесла и еще устроил ему за это нагоняй.
– Ты что, совсем сдурел? В дороге все может быть. Конвой голодный, аки псы. Прибьют и скажут: «сбечь хотел», – передразнил он гипотетического конвоира… Дам тебе размененную на мелочовку полсотни… С головой хватит… Остальные дам позже. В Рязани. Там я встречать буду вас. Где-то через месяц там будете… Сейчас поведут к Ростову. Там вас пополнят другими жиганами. Потом они с Троцким уговаривали матушку завтра к отправке не приходить.
– Солдаты, Машенька,– убеждал Троцкий,– будут гнать всех от колонны. Это тебе нужно?
Мать вяло соглашалась. Но разве что ее сможет удержать? Она – там
Она долго шла вслед за ними. Шла и плакала.
Выбившись из сил, она села на единственный, чудом оказавшийся у дороги валун. Маленькая, одинокая и единственная… Как он ее любил! И, как мучил!..
Если бы… Если бы можно было вернуть все. Но ничего нельзя вернуть назад. Ничто не поправимо. Он остался бы тем же. И дорога была бы та же. И тот же камень у дороги… Нет, ничего изменить нельзя. Все свыше. Все по написанному Им… Дураки, коммунисты. Бога в каэры опредилили. Вместо того, чтобы быть с ним… Глубже оседая в тулуп, кусал он губы…
К исходу недели в Юзовке, на берегу реки Кальмиус, где они встали на ночевку, к ним примкнул этап из Ростова. Конвой называл их ордой дикушей.
Параллельно понуро бредущему этапу, с тощею котомкой за плечами, прижимая к груди девчушку и волоча за ручонку пацаненка, брела женщина. И у них была дальняя дорога. И было им по пути. И женщина знала, что рядом с колонной им будет безопасней. Как никак, не одни. Если что могла кликнуть конную стражу. Да и душегубцы на душегубцев не очень-то походили. Ласково переговаривались с ней и пытались говорить с мальчонкой, а тот им не отвечал и все хныкал, да хныкал.
«Тяжело ей. Тяжелей чем нам,– думал Ефим.– Что цепи наши? Железо оно и есть железо. Вот детишки… Они потяжелее любых цепей. Живые души. Крохи. Они еще не понимают, как ей тяжело. Долго, очень долго еще они этого не будут понимать. Может, никогда и не поймут. И хорошо если поймут, когда она будет жива… Мать не бросит их. Умрет, но не бросит… Даже став взрослыми, когда больно нам и страшно и, когда в предсмертии, мы все кричим: «Мама!». Мы зовем ее, как зовем Господа».
…К горлу подступил ком. И брызнули огнем глаза. Не от встречного ветра Богом проклятых Соловков. Лицо было под плотной овчиной тулупа. Ему припомнился недавно прочитанный им в Москве стих незнакомого ему поэта Дмитрия Кедрина.
Казак полюбил девушку, а она сказала ему, что ей «полюбится тот, кто матери сердце ей в дар принесет».
«Я пепел его настою на хмелю,
Настоя напьюсь и тебя полюблю!»
Казак с того дня замолчал, захмурел,
Борща не хлебал, саламаты не ел.
Клинком разрубил он у матери грудь
И с ношей заветной отправился в путь:
Он сердце ее на цветном рушнике
Коханой приносит в косматой руке.
В пути у него помутилось в глазах,
Всходя на крылечко, споткнулся казак.
И матери сердце, упав на порог,
Спросило его: «Не ушибся, сынок?»
Он, Сапсан, знавший чертовы зубы и медные трубы, прочитав его,
заплакал. Там о матери всего пара строчек, но таких, что сердце в клочья.
…Тогда на Юзовке он не знал ни этого поэта, ни этих его жгучих строчек. Он думал о маме. Он жалел эту женщину с детишками. И вдруг его, как оглушило.
– Бах-хо! – слышит он возглас Азима.
Он резко оборачивается. Нет, это не Азим. Это тоже чернявый, с такими же, как у шкипера усами и накаленными углями глаз. Он смотрит вперед. Ефим невольно бросает взгляд туда же. Гигантского роста мужичище с широченным плечами, из влившегося в Одесский этап Ростовской колонны, на которого невозможно было не обратить внимание, каким-то образом, дотянувшись к женщине, взял у ней мальчонка и усадил себе на шею. Пацаненок заверещал еще пуще. Мать всполошенно крикнув – «Отпусти, окаянный!» – подбежала ближе. Воспользовавшись этим гигант подхватил и ее с девчушкой.
– Не ори,– прогудел он пароходом,– Умаялась ведь. Понесу немного.
По колонне побежала волна беззлобных смешков и подначек.
И некая волшебная сила откатила Ефима далеко-далеко назад. К его малолетству. Отец также, забросив его на шею, шел к берегу. Мама пыталась отнять его. А отец подхватыва и ее. Она также дрыгала ногами, но уже без тревоги и весело звенела, чтобы он отпустил их…
И этот мужик, один к одному, походил на отца. Только у папы на голове пышно вились черные кольца волос, а у этого рыжие.
– Господин урядник! – окликнул вперди шагавшего конника, один из стражников.– Спирин охальничает.
Урядник оценив представшую картину, сразу все понял.
– Пущай… Баба с ребятенками устала… Токмо ты, Бурлак, не забижай их, – разрешил он и снова направил лошадь во главу колонны.
– Не забижу,– гуднул Бурлак.
А мальчик все плакал да плакал.
– Мать, шо он у тебя никак не угомонится? – спрашивает женщину Спирин.
– Голоден он,– говорит она.
– Эва! – жалостливо тянет Спирин и, задрав голову, прогудел:
– Кандальные! У кого шо есть подкиньте дитятям.
Колонна засуетилась. И пошли по рядам черствые корочки. Больше ничего и ни у кого не было. А у Когана имелось кое-что получше. Что значит хрусты. Хрусты они везде хрусты… Тот конвоир, что пожаловался на гиганта, в эту ночевку, у реки, получил полтинник, чтобы тот в ближайшей Юзовской лавчонке купил что-нибудь съестное. Обрадованный щедростью каторожника он принес ему бутылку кваса, булку хлеба и кругляк ливерной колбасы.
– Тебя, случаем, не Азим зовут? – спросил он того, кто выкрикнул «Бах-хо!».
– Ёх, Аgа Rehim,– сказал он на чужом наречии, хотя по-русски говорил не хуже русских.
– Рахим, значит,– сообразил Коган.
– Можно и так,– согласился Басурман.
– Кличка есть? – поинтересовался Ефим.
– Нет,– недовольно поморщился он.
Очевидно, русскоязычный этап об этом его много раз спрашивал. И вопрос и ответ на него он знал наизусть.
– Меня зовут Ефим,– протянув руку Рахимке, назвался он.– Кличка – Сапсан.
– Это кто Сапсан? – пробасил над ними, приотставшийся Спирин.
– Я Бурлак,– назвался гигант и, внимательно посмотрев на него, добавил:
– Мне говорили о тебе.
– Кто?
– Весточка была,– уклончиво ответил тот.
«Сапсан… Сапсан…» – зашушукались в колонне.
Все стало ясно. Блатная братия получила малявы от Одесских паханов. Наверняка отписали, что он упокоил двух легавых и в большом уважении у воров.
– Рахим,– обратился он к смугляку,– тебе удобней будет. Вынь из переметки моей хлеба, колбаски и кваску… От Одесской братвы детишкам и матери,– громко объявил он.
Черствые корочки хлеба, что мальчонка жадно посасывал, он поспешно сунул за рубашонку и ринулся на белую булку… Бурлак с помощью Рахимки и Ефима ссадил их на обочину. Улучив момент Коган сунул в одеяльце крошки рублевку…
…Этап дикушей из Юга Петр Александрович перехватил у самого Нижнего Новгорода. Он опередил его на целую неделю. Многих из того конвоя, что дожидались там южан, Троцкий знал в лицо. А стоявший над ним ротмистр, по фамилии Чубайс, оказался его давнишним приятелем, с которым он не раз и не два пивал белого винца. После того, как южан пристегнули к основному этапу Троцкий сунув Чубайсу четвертную купюру, попросил его приглядывать за его непутевым племянником Коганом.
Эти 25 рублей, обеспечивших Когану благоволение ротмистра, через несколько дней сослужили еще лучшую службу. Не будь ее и тех хрустов, что Петр Александрович втихаря передал Ефиму, Бурлака захоронили бы еще тогда, там, в глухом бездорожьи под Муромом. Без отходной и креста на могильном холмике.
На ночевке, в перелеске под самым Муромом его укусила змея. Ужалила за икру, когда со сна переворачиваясь, он придавил ее к земле. Он дико вскрикнул. Вскочил на ноги и увидев уползающую гадюку сразу все понял. Ступней здоровой ноги он наступил ей на голову, а затем ухватив за извивающийся хвост, несколько раз двинул ее о ствол березы.
– Что с тобой, Даня? – еще как следует не проснувшись, спросил Коган.
– Пропал я, Сапсан. Гадюка жальнула.
– Куда?
– Вот! – задрав брючину, показал он на укушенную икру.
– Не бзди, Бурлак. Не пропадешь,– снимая с себя брючный ремень успокоил его Ефим.
Ему вспомнилось, как в одну из ночей у Бронштейнов Лейба рассказывал о каком-то знаменитом путешественнике, осмелившегося в одиночку перейти пустыню Сахару. Его возле колодца, который, среди песков, вырыли бедуины, укусила не какая-то там лесная гадюка, а самая страшная – кобра. Впилась в руку. После ее укуса человек умирал в течение пяти минут и в страшных муках. Путешественник не растерялся. Затянув ремнем предплечье, чтобы кровь с ядом не пошла к сердцу и мозгу, он ножом разрезал место укуса и стал высасывать и сплевывать вместе с кровью смертельную отраву. И хорошо колодец был полон воды. Он пил ее и рвал. Пил и рвал… Вода не позволяла яду свернуть кровь. Яд, однако, делал свое страшное дело. Смельчак потерял сознание… Очнулся он в том же месте, но уже под тенью бедуинского шатра. Провидение распорядилось так, что они, кочевники пустыни, как раз на верблюдах своих подошли к колодцу. И они-то по своим, известным им методам, вмешались в схватку со смертью, которую вел организм человека. Хлопотавший над ним древний старик, оказавшийся бедуинским лекарем, потом, когда путешественник пошел на поправку, сказал ему: «Ты, чужестранец, наверное, хороший человек. Аллах посмотрел в глаза твои и ты по его велению сделал то, что спасло тебе жизнь… Иначе, ты в лучшем случае остался бы без руки, а в худшем стал бы ты добычей койотов»…
Ефим вспомнив тот рассказ Лейбы, стал действовать так же, как тот смельчак-путешественник. Затянув ремень выше колена, он стал вопить: «Дайте ножа!» Кто-то стал звать конвоиров. Нож мог быть только у них. Но он чудесным образом оказался у Рахимки. Тому, кто звал стражников, он, на своем татарском, прошипел – «Кяс сясини». Тот его понял лишь потому, что Рахимка показывал ему жестом , закрыть себе рот. Фима резанул укус сверху вниз и зубами впился в мякоть Даниной икры. Он высасывал зараженную кровь и отплевывал ее в траву.