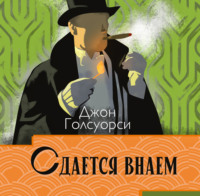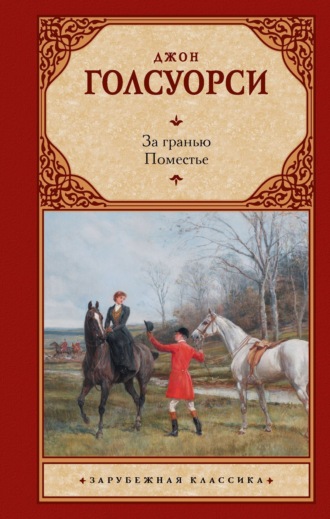
Полная версия
За гранью. Поместье
Джип совершенно серьезно ответила:
– Подобные вещи обычно улаживаются сами собой. Я бы не стала беспокоиться прежде времени.
Мисс Дафна Глиссе уткнула подбородок в кулачок и задумчиво произнесла:
– Да, я тоже так думала. Конечно, можно сделать и так и эдак. Но, знаете ли, я совершенно не ценю невыдающихся мужчин. Мне кажется, что я смогу влюбиться только в по-настоящему выдающегося мужчину. Ведь вы тоже так поступили, не правда ли? Так что вы-то меня точно поймете. Я считаю мистера Фьорсена на удивление выдающимся человеком.
Луч солнца неожиданно коснулся открытой шеи Джип, благополучно погасив противоречивые чувства в душе и готовую вырваться наружу усмешку. Она сохранила серьезное лицо, а Дафна Глиссе продолжила:
– Конечно, если я задам такой вопрос матери, она выйдет из себя, а что сделает отец, вообще невозможно себе представить. Но ведь это важно, не так ли? Можно с самого начала свернуть не в ту сторону, а я действительно хочу преуспеть в жизни. Я обожаю свое занятие и не хочу, чтобы любовь была препятствием: она должна помогать. Граф Росек говорит, что моему танцу не хватает страсти. Интересно, вы тоже так считаете? Вам я поверю.
Джип покачала головой:
– Я не могу судить.
Дафна бросила на нее укоризненный взгляд:
– Ах, я уверена, что как раз вы можете! Будь я мужчиной, я бы страстно полюбила вас. Я готовлю новый танец – нимфы, преследуемой фавном. Очень трудно почувствовать себя нимфой, когда за тобой гонится не фавн, а балетмейстер. Вы тоже считаете, что моему танцу не хватает страсти? Мне положено все время убегать, но не лучше ли сыграть тоньше, создать впечатление, будто я не против, чтобы меня поймали? Вы согласны?
Джип неожиданно сказала:
– Да, я думаю, что любовь пошла бы вам на пользу.
Рот мисс Глиссе приоткрылся, глаза округлились.
– Вы меня напугали своими словами. У вас был такой необычный взгляд… такой напряженный.
Теперь в душе Джип действительно полыхнуло пламя. Пустая неопределенная болтовня о любви вызвала у нее инстинктивное отторжение. Она не хотела любви, не сумела полюбить. Однако, чем бы ни была любовь, это чувство не терпит праздной болтовни. Как у этой простушки из предместья получается, всего лишь встав на пуанты, вызывать бурю эмоций?
– Знаете, что доставило бы мне истинное наслаждение? – продолжала Дафна Глиссе. – Однажды вечером станцевать для вас в этом саду. Как здорово было бы выступить под открытым небом. Трава сейчас жесткая, удобная. Боюсь только, прислуга будет шокирована. Они сюда заглядывают? – Джип покачала головой. – Я могла бы станцевать перед окном гостиной, но только при лунном свете. Могу приехать в любое воскресенье. У меня есть номер, где я изображаю цветок лотоса, – лучше не придумать! И еще мой настоящий лунный танец под музыку Шопена. Я могла бы взять наряды с собой и переодеться в музыкальном салоне, не так ли? – Поерзав, Дафна уселась, скрестив ноги, посмотрела на хозяйку дома и всплеснула руками. – Ах, вы позволите?
Ее энтузиазм передался Джип. Желание угодить, необычность затеи и реальный интерес к мастерству этой девушки заставили ее сказать:
– Да, давайте так и сделаем – в следующее воскресенье.
Дафна Глиссе вскочила, подбежала и поцеловала Джип. Губы у нее были мягкие и благоухали флердоранжем. Джип не любила неожиданных поцелуев, и немного отстранилась. Мисс Дафна же, смутившись, опустила голову и произнесла:
– Вы так милы. Я не удержалась, честное слово.
Джип в знак прощения пожала ей руку.
Они вошли в дом, чтобы на пробу сыграть сопровождение для двух танцев. Вскоре Дафна Глиссе, насытившись сладостью леденцов и надежд, ушла.
В следующее воскресенье она прибыла ровно в восемь вечера с маленьким зеленым холщовым саквояжем, в котором лежали ее наряды. Она держалась робко и – вероятно потому, что наступило время выполнять обещанное, – с некоторой опаской. После салата из лобстеров, рейнвейна и персиков девушка опять осмелела. Дафна поглощала еду с большим аппетитом. Очевидно, ей было все равно, на полный желудок выступать или на пустой, однако от сигареты она отказалась.
– Это плохо для вашего… – она не договорила.
Когда они закончили ужин, Джип заперла собак в дальних комнатах, опасаясь, что песики порвут наряд мисс Глиссе или цапнут ее за икру. Затем, не включая свет, чтобы не пропустить появления луны, они перешли в гостиную. Хотя наступала последняя ночь августа, зной по-прежнему не спадал, в воздухе стояло глубокое неподвижное тепло. Восходящая луна прорезала узкие полоски света в густой листве. Они говорили вполголоса, невольно подыгрывая атмосфере сцены побега. Когда луна поднялась над деревьями, обе на цыпочках прошли через сад в музыкальный салон. Джип зажгла свечи.
– Вы сами справитесь?
Дафна уже сбросила половину одежд.
– Ах, я так волнуюсь, миссис Фьорсен! Надеюсь, вам понравится мой танец.
Джип вернулась в пустой дом – отпустить прислугу в воскресный вечер не составило труда. Она села за пианино и повернулась в сторону сада. В его дальнем конце в темноте вдруг мелькнул неясный белый силуэт и замер без движения, словно под деревьями притаился куст с белыми цветками. Мисс Глиссе остановилась в ожидании луны, а Джип заиграла короткую сицилийскую пастораль, которую, спускаясь с гор, наигрывают на своих свирелях пастухи. Мелодия звучала сначала мягко, исподволь, потом стала нарастать, набирать силу, вплоть до мощного каданса, затем вновь опадать, пока не растворилась в тишине. Луна поднялась над макушками деревьев. Ее свет пролился на боковой фасад дома, на траву, медленно подполз к тому месту, где ждала балерина. Лунный свет упал на подсолнухи у садовой стены, отчего те приняли волшебный, неземной оттенок – то ли золота, то ли другого неведомого металла.
Джип заиграла мелодию танца. Бледное пятно в темноте шевельнулось. Лунный свет упал на Дафну, которая держала в раскинутых руках концы своего одеяния, как белая крылатая статуя, затем, словно гигантский мотылек, сорвалась с места, уверенно и бесшумно пролетела над травой, сделала оборот и как будто зависла в воздухе. Луна высветила силуэт головы, облила ее бледным золотом. В тишине и сиянии, окрасившем подсолнухи и волосы танцовщицы неземным цветом, казалось, что в сад спустилась фея и порхает туда-сюда, не в силах вырваться из западни.
Голос за спиной Джип произнес:
– Боже, кто это? Ангел?
Фьорсен стоял в темной комнате и смотрел в сад, где напротив окна словно зачарованная замерла девичья фигура с круглыми, как блюдца, глазами, разинутым ртом и руками, замершими в позе неожиданности и испуга. Дафна вдруг резко повернулась, собрала свои вещи и убежала, мелькая пятками в лунном свете.
Джип снизу вверх посмотрела на неожиданно появившегося мужа. Она видела только его глаза, преследовавшие убегающую нимфу. А вот и фавн мисс Дафны! Да у него даже уши заостренные! Почему она раньше не замечала, как сильно он похож на фавна? Нет, замечала – в первую брачную ночь! Джип спокойно произнесла:
– Дафна Глиссе репетирует новый танец. Ты вернулся. Почему не сообщил? У тебя все в порядке? Ты замечательно выглядишь.
Фьорсен наклонился и схватил ее за плечи:
– Моя Джип! Поцелуй меня!
Но даже когда их губы соприкоснулись, Джип скорее почувствовала, чем увидела, что он все еще смотрит в сад, и подумала: «На самом деле он хотел бы поцеловать эту девушку».
Пока Фьорсен забирал вещи из такси, Джип прибежала в музыкальный салон.
Мисс Дафна Глиссе, успев одеться, укладывала наряды в зеленый холщовый саквояж. Она подняла голову и жалобно сказала:
– Ах, он недоволен? Скверно вышло, правда?
Джип с трудом подавила желание расхохотаться:
– Главное – чтобы вы были не в обиде.
– Ах, если вы не в обиде, то я тем более! Вам понравился танец?
– Очень мило! Когда закончите, приходите к нам.
– Ах, я лучше домой поеду. Как-то очень глупо получилось.
– Вы можете выйти через заднюю калитку в переулок. Оттуда поверните направо, на главную улицу.
– Ах, конечно! Спасибо. Было бы лучше, если бы он смог увидеть, как я танцую, в подходящем месте. Что он обо мне подумает?
Джип с улыбкой открыла калитку, а когда вернулась в дом, Фьорсен стоял у окна и смотрел в сад. Кого он там высматривал: ее или убегающую нимфу?
Глава 9
Миновали сентябрь и октябрь. Состоялось еще несколько концертов, посещаемость упала. Фьорсен приелся, к тому же его исполнению не доставало приторности и сентиментальности, которые так любит широкая публика. Вдобавок разразился финансовый кризис, но Джип на это обращала мало внимания. В тени предстоящего события все остальное казалось посторонним и нереальным. В отличие от большинства будущих мам она не шила распашонок и не делала никаких приготовлений. Зачем, если все это может никогда не пригодиться? Она часто аккомпанировала Фьорсену, но для себя не играла, читала много книг – поэзию, романы, жизнеописания, – проглатывая их и тут же забывая, как бывает с книгами, которые читают лишь для того, чтобы отвлечься от тяжких мыслей. Уинтон и тетя Розамунда по молчаливому уговору по очереди приезжали после обеда каждые два дня. Уинтон, которого предстоящие роды удручали не меньше, чем Джип, повидавшись с ней, садился на вечерний поезд и весь следующий день проводил на скачках или охоте на лис, возвращаясь утром для нового послеобеденного визита. Это помогало избегать жутких предчувствий и не смотреть в лицо тоске, которой оборачивались ничем не занятые дни.
Бетти, присутствовавшая при рождении Джип, пребывала в странном состоянии. Желанность события для женщин, расположенных к материнству, но обреченных не иметь детей, вступала в ужасный конфликт со старыми воспоминаниями; тревога за ее красавицу была намного сильнее той, какую она испытывала бы за свою собственную дочь. То, что ромашка считает естественным событием для ромашек, вызывает у нее благоговейный трепет, когда то же самое случается с розой. Другая незамужняя женщина пожилого возраста, тетка Розамунда, была полной противоположностью Бетти: длинный тонкий нос у одной против пуговки у другой, сознание собственных прав по факту рождения против полного отсутствия понятия о правах, тягучее, аристократическое произношение против добродушного сиплого говорка, высокий рост против необъятной талии, решительность против покорности судьбе, чувство юмора против его отсутствия, несварение желудка против зверского аппетита, и так почти во всем. Однако и тетка Розамунда тоже беспокоилась, насколько могла беспокоиться натура, напрочь отвергавшая беспокойство и обычно вынуждавшая его отступить, несолоно хлебавши, шутками и презрительным тоном.
Однако в окружении Джип любопытнее всего вел себя Фьорсен. Он не делал даже элементарных попыток скрыть состояние своего ума, а состояние это было, как ни странно и прискорбно, примитивным. Ему хотелось вернуть прежнюю Джип. Опасения, что она никогда не станет прежней, подчас пугали его настолько, что он напивался и являлся домой почти в таком же состоянии, как первый раз. Джип частенько помогала ему добраться до кровати. Два-три раза его страдания были так велики, что он вообще не приходил ночевать. Для объяснения поведения мужа Джип выдумала небылицу, что Фьорсен, если концерт заканчивался поздно, оставался ночевать у Росека, чтобы не тревожить ее. Что на самом деле думала прислуга, она не знала. Она также никогда не спрашивала мужа, где он пропадал, – отчасти из гордости, отчасти потому, что считала, будто не имеет на это права.
Сознавая неприглядность своего состояния, Джип была убеждена, что столь вспыльчивый и нетерпимый к уродству человек больше не может считать ее привлекательной. Более глубоких чувств к ней у него, похоже, вовсе не было. Фьорсен определенно ни в чем не отказывал себе и не приносил никаких жертв. Если бы она любила, то всем бы пожертвовала ради любимого человека. Но, с другой стороны, она ведь никогда не полюбит! И все-таки муж, похоже, по-своему тревожился за нее. Поди разберись! Возможно, долго разбираться не придется: Джип часто казалось, что она умрет. Да и как можно жить, тая в душе обиду на свою судьбу? Где почерпнуть силы, чтобы такое преодолеть? Поэтому по временам она думала, что смерть не такой уж плохой выход. Жизнь обманула ее, или, скорее, она сама себя обманула, своими руками разрушила собственную жизнь. Неужели всего год прошел с того славного дня на охоте, когда она, отец и молодой человек с ясными глазами и заразительной улыбкой неслись наперегонки с собаками по полю, с того рокового дня, когда на них как снег на голову свалился Фьорсен с предложением женитьбы? Джип охватила непреодолимая тоска по Милденхему, желание уединиться в поместье с отцом и Бетти.
Она уехала туда в начале ноября.
Решение жены об отъезде Фьорсен воспринял, как капризный ребенок, который выбился из сил, но по-прежнему отказывается идти спать. Он говорил, что не перенесет разлуки и прочее в таком же духе, но, стоило жене уехать, как в тот же вечер закатил грандиозную попойку в духе богемы. «В пять часов я проснулся с ужасным холодом в сердце, – написал он в письме Джип на следующий день. – Какое это жуткое чувство, моя Джип! Я несколько часов ходил туда-сюда по комнате» – (На самом деле не более получаса.) – Как я перенесу разлуку с тобой? Я чувствую себя брошенным».
Через неделю он уехал с Росеком в Париж. «Я не выдержал вида улиц, сада, нашей комнаты. Когда вернусь, остановлюсь у Росека. Приеду ближе к сроку, я должен навестить тебя». Прочитав эти строки, Джип попросила отца: «Когда он приедет, не посылай за ним. Я не хочу его здесь видеть».
После этих писем она окончательно распрощалась с надеждой, что где-то глубоко в душе мужа еще сохранилось нечто прекрасное и тонкое, как те звуки, которые он извлекал из скрипки. И все-таки его письма были по-своему искренни, трогательны и пропитаны определенным настроением.
С первой же минуты после возвращения в Милденхем ощущение безнадежности начало уходить, и Джип впервые почувствовала желание жить ради новой жизни, которую носила в себе. Первый раз это чувство возникло на пороге детской, где все осталось по-прежнему с того дня, когда в восьмилетнем возрасте она вошла сюда. Вот старый кукольный домик, у которого можно открыть боковую сторону и увидеть все этажи внутри, вот видавшие виды жалюзи, сотни раз опускавшиеся со знакомым стуком, вот высокая каминная решетка, рядом с которой она часто лежала, положив подбородок на руки и читая сказки братьев Гримм, «Алису в стране чудес» или очерки по истории Англии. Возможно, и ее ребенку посчастливится жить среди этих старых знакомых. Ей вдруг пришло в голову, не встретить ли свой час в детской, а не в комнате, где спала в юности. Ей не хотелось нарушать элегантность этой комнаты. Пусть она остается местом, где прошли ее девичьи годы. Зато в детской надежно и уютно! Пробыв в Милденхеме неделю, Джип попросила Бетти перенести ее вещи в детскую.
В доме в это время не было никого спокойнее самой Джип. Бетти грешила тем, что украдкой плакала под лестницей. У миссис Марки совсем разладилась стряпня. Мистер Марки начал забываться и нередко вступать в разговоры. Уинтон заставил лошадь совершить отчаянный прыжок, чтобы срезать путь к дому, и она сломала ногу, поэтому, вернувшись, он был безутешен. Когда Джип находилась в комнате, он, делая вид, что хочет погреть руки или ноги, нарочно проходил мимо, чтобы коснуться ее плеча. В обычно размеренный и сухой голос Уинтона проникали нотки тайной тревоги. Джип, всегда остро ощущавшая отношение к себе, купалась во всеобщей любви. Удивительно, как все они заботятся о ней! Чем она заслужила такое ласковое обращение – в особенности тех, кому доставила своим браком столько горьких минут? Сидя у камина и глядя в огонь широко открытыми, немигающими, как у совы ночью, глазами, Джип размышляла, чем отблагодарить отца, которого чуть не лишила жизни самим фактом своего появления на свет. Она стала мысленно приучать себя к грядущей боли, осваивать территорию неведомого страдания, чтобы оно не настигло ее врасплох, заставив корчиться и кричать.
Ей часто снился один и тот же сон: она погружается все глубже и глубже в пуховую перину, ей становится все жарче, она все больше увязает в бесплотной массе, которая не дает на себя опереться, но и не позволяет провалиться до самого низа, до твердого дна. Очнувшись однажды от этого сна, она провела остаток ночи, завернувшись в два одеяла, на старом диване, где ребенком ее заставляли ежедневно смирно лежать на спине с двенадцати до часу пополудни. Бетти была поражена, обнаружив ее утром спящей на диване: Джип настолько напомнила ей ребенка, лежавшего там в прежние времена, что бывшая нянька потихонечку вышла и все утро роняла слезы в чашку с чаем. Поплакав, она успокоилась и принесла чай своей красавице, заодно отчитав за то, что заснула в неподходящем месте да еще и с потухшим камином.
Джип же только сказала в ответ:
– Милая Бетти, чай совсем остыл. Пожалуйста, приготовьте мне новый.
Глава 10
С того дня, как прибыла сиделка, Уинтон перестал ездить на охоту: боялся отойти от дома больше чем на полчаса. Недоверие к врачам не мешало ему каждое утро проводить десять минут со старым доктором, лечившим Джип от свинки, кори и прочих детских болезней. Старина Ривершоу был занятным обломком былых времен. От него пахло резиновым плащом, щеки были с лиловым оттенком, вокруг лысины – венчик волос, как некоторые утверждали, крашеных, серые глаза на выкате слегка налиты кровью. Он был мал ростом, страдал одышкой, пил исключительно портвейн, подозревался в нюхании табака, читал «Таймс», всегда говорил сиплым голосом и делал визиты в экипаже Брогама, запряженном старой вороной клячей. Однако доктор славился хитрыми приемами, победившими множество заболеваний, и пользовался высокой репутацией в деле успешного появления на свет его новых обитателей. Ежедневно ровно в полдень во дворе раздавался скрип колес маленького экипажа. Уинтон поднимался, с глубоким вздохом шел в столовую, доставал из буфета графин с портвейном, корзинку с бисквитами и одиночный бокал, после чего стоял, глядя на дверь, пока на пороге не появлялся врач, и спрашивал:
– Ну что, доктор? Как она?
– Неплохо, очень даже неплохо.
– Причин для беспокойства нет?
Врач, надувая щеки и косясь на графин, бормотал:
– Сердце в порядке, главная забота… немного… э-э… ничего страшного. Все идет своим чередом.
Уинтон, еще раз глубоко вздохнув, говорил:
– Бокал портвейна, доктор?
Врач изображал приятное удивление.
– Холодный день… э-э… была не была… – И сморкался в лиловый носовой платок в красный горошек.
Наблюдая, как доктор поглощает портвейн, Уинтон интересовался:
– Вы можете явиться по первому зову, не так ли?
Врач, облизнув губы, отвечал:
– Не беспокойтесь, дорогой сэр! Мы давние друзья с маленькой мисс Джип. Я к ее услугам в любое время дня и ночи. Не беспокойтесь.
На Уинтона снисходило ощущение уверенности, продолжавшееся еще минут двадцать после того, как затихал скрип колес и рассеивались сложные запахи, оставленные гостем.
В эти дни самым близким другом Уинтона был старый золотой швейцарский «Брегет» с треснувшим циферблатом в корпусе, ставшим гладким и тонким от долгого использования, – любимая игрушка Джип в детстве. Майор доставал часы каждые пятнадцать минут, смотрел на них отсутствующим взглядом, вертел в пальцах теплый от контакта с телом корпус и совал обратно в карман, после чего прислушивался. Повода прислушиваться не было никакого, но он ничего не мог с собой поделать. Помимо этого, главным развлечением было взять рапиру и поточить о кожаную подушечку, прикрепленную к верху низенького книжного шкафа. Эти занятия перемежались регулярными визитами в комнату рядом с детской, в которую Джип перевели, чтобы ей не приходилось ходить по лестнице, да в оранжерею в надежде обнаружить новый цветок, чтобы поднести его дочери. На это уходило все время за исключением еды, сна и курения сигар, которые то и дело потухали.
По просьбе Джип отцу не сообщили о начале схваток. Когда первый приступ боли схлынул и она в полудреме лежала в старой детской, Уинтон случайно поднялся наверх. Сиделка, миловидная особа, одна из свободных, независимых субъектов рыночной экономики, которых за последнее время расплодилось несметное количество, встретила его в малой гостиной. Привыкшая к суетливости и тревожности мужчин в такие часы, она приготовилась прочитать хозяину дома небольшую нотацию. Однако наткнувшись на выражение лица Уинтона и чутьем уловив, что перед ней человек, чье умение держать себя в руках не требует доказательств, она всего лишь прошептала:
– Началось. Но вы не беспокойтесь, она пока не страдает. Мы скоро пошлем за врачом. Она очень храбрая. – И с непривычным для нее чувством уважения и жалости повторила: – Не беспокойтесь, сэр.
– Если она захочет позвать меня, я буду в своем кабинете. Сделайте все возможное, чтобы ей помочь, сестра.
Сиделка сама удивилась, как у нее вдруг вырвалось это «сэр». Она не говорила ничего подобного бог знает с каких времен. В задумчивости она вернулась в детскую, где Джип сразу же угадала:
– Мой отец приходил? Я же просила не говорить ему.
Сиделка машинально ответила:
– Все хорошо, моя дорогая.
– Как вы думаете, сколько еще… сколько пройдет времени, прежде чем это опять начнется? Я бы хотела повидать его.
Сестра погладила ее по волосам:
– Скоро все закончится, и вы будете в порядке. Мужчины всегда паникуют.
Джип посмотрела на нее и тихо произнесла:
– Да? Видите ли, моя мать умерла, когда рожала меня.
Сиделка, посмотрев на еще бледные от боли губы роженицы, ощутила непривычный укол совести и, поправив постель, сказала:
– Ничего… такое бывает… то есть, я хотела сказать, к вам это не относится.
Увидев улыбку Джип, она призналась:
– Ну и дура же я.
– Если случится, что не выживу, я хочу, чтобы меня кремировали. Я хочу уйти как можно быстрее. Мысль о чем-то другом мне несносна. Запомните, сестра? Я не могу сейчас просить об этом отца: он расстроится, но вы должны мне обещать.
Сиделка подумала: «Такие вещи не делаются без составления завещания или какого-нибудь еще документа, но лучше пообещать. Мрачная причуда, хотя девушка отнюдь не выглядит мрачной», а вслух сказала:
– Очень хорошо, дорогуша, но только с вами ничего подобного не случится. Даже не сомневайтесь.
Джип снова улыбнулась и, помолчав с минуту, сказала:
– Мне ужасно стыдно, что я требую к себе столько внимания и заставляю людей переживать. Я читала, что в Японии женщины потихоньку куда-нибудь уходят и там ждут своего часа.
Сестра, все еще поправляя постель, рассеянно пробормотала:
– Да, это хороший способ. Но вас не ждет и половины невзгод, через которые большинство проходят. Вы в хорошем состоянии, и у вас все будет превосходно. – И подумала: «Как странно! Она ни разу не упомянула о муже. Такой не пристало рожать – слишком совершенна, слишком чувствительна, и лицо такое трогательное».
Джип пробормотала:
– Я хочу видеть отца. Пожалуйста. И побыстрее.
Сиделка, быстро взглянув на нее, вышла.
Джип, сжав кулаки под простыней, остановила взгляд на окне. Ноябрь! Желуди, палая листва, приятный сырой запах от земли. Желуди разбросаны в траве. В детстве она запрягала старого ретривера и каталась по лужайке, усыпанной желудями и мертвой листвой. Ветер еще срывал ее остатки с деревьев. На ней было коричневое бархатное платье – ее любимое! Кто назвал ее, увидев в этом платье, мудрой совушкой? Внутри все оборвалось – снова вернулась боль. Уинтон с порога произнес:
– Что, мой котенок?
– Я просто хотела узнать, как ты там. У меня все хорошо. Какой сегодня день? Ты поедешь на охоту, не так ли? Передавай от меня привет лошадям. До свидания, отец, – на всякий случай.
Он коснулся губами ее взмокшего лба.
В коридоре улыбка Джип словно маячила перед ним в воздухе: прощальная улыбка, но в кабинете на него вновь обрушилось страдание, сильнейшее страдание. Ну почему он не мог забрать эту боль на себя?
Его бесконечные хождения по ковру прервал скрип колес докторского экипажа за окном. Уинтон вышел в парадную и заглянул в лицо врача, совершенно забыв, что старик ничего не знал о причине его смертельной тревоги. Встретив доктора, Уинтон вернулся в кабинет. Злой ветер с юга швырял в окно мокрые листья. Именно у этого окна он стоял год назад и смотрел в темноту, когда Фьорсен приехал просить руки его дочери. Почему он не спустил этого фрукта с лестницы и не увез ее куда глаза глядят – в Индию, Японию, куда угодно? Она не любила этого скрипача, никогда по-настоящему не любила. Чудовищно, чудовищно! Горечь упущенных возможностей накатила на Уинтона с такой силой, что выдавила из него стон. От окна он перешел к полке с книгами. Там в один ряд выстроились те немногие тома, которые он когда-то прочел. «Жизнь генерала Ли». Майор вернул книгу на место и взял другую – роман Уайта-Мелвилла «Шалопай». Грустная вещь, грустный конец. Выпавший из руки томик с глухим стуком ударился об пол. С ледяной ясностью Уинтон представил себе, какой будет его жизнь, если утрата постигнет его во второй раз. Нет, Джип не должна, не может умереть! В древности мужчину хоронили вместе с его лошадью и собакой, как для последней доброй охоты. Этого у него никто не отнимет. Отчаянная мысль принесла успокоение. Присев, он долго смотрел на огонь, словно впал в кому, но лихорадочные страхи снова вернулись. Какого черта они не приходят, не скажут хоть слово? Что угодно лучше этого молчания, убийственного одиночества, ожидания. Что это за шум? Хлопнула парадная дверь. Скрип колес? Неужели чертов старикашка доктор решил потихоньку улизнуть? Уинтон вскочил с места. В дверях стоял Марки с какими-то карточками в руках. Уинтон быстро пробежал их.