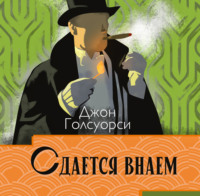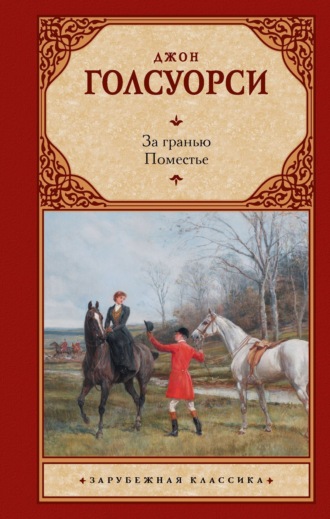
Полная версия
За гранью. Поместье
– Леди Саммерхей, мистер Брайан Саммерхей. Я сказал, что вас нет дома, сэр.
Уинтон кивнул.
– И все?
– Пока ничего нового. Вы не обедали, сэр.
– Который час?
– Пять.
– Принесите мою шубу и портвейн, разожгите камин. Сообщайте любые новости.
Марки кивнул.
Странно сидеть в шубе у огня, причем в не такой уж холодный день. Говорят, жизнь продолжается после смерти. Уинтон ни разу не почувствовал, чтобы она еще где-то жила. Она жила в Джип. И если сейчас Джип… Собственная смерть – пустяк. Но ее! С наступлением темноты ветер улегся. Он встал и раздвинул портьеры.
В семь доктор спустился в коридор и остановился, потирая только что вымытые руки, прежде чем открыть дверь кабинета. Уинтон все еще сидел у огня, не шевелясь, съежившись под шубой. Он привстал и отрешенно посмотрел вокруг себя.
Врач сморщил лицо и, наполовину прикрыв веками выпуклые глаза – такова была его манера улыбаться, – сказал:
– Прелестно, прелестно. Девочка. Никаких осложнений.
Все тело Уинтона словно надули воздухом, он приоткрыл рот, поднял руку, но тут же, схваченный за горло привычкой длиною в жизнь, застыл в молчании. Наконец, закончив подъем из кресла, он предложил:
– Бокал портвейна, доктор?
Врач, пытливо взглянув на него поверх бокала, подумал: «Пятьдесят второй. Дал бы лучше шестьдесят восьмого – у того получше текстура».
Через некоторое время Уинтон поднялся наверх. Ожидая в другой комнате, он ощутил, как в душу снова вползает холодок страха. «Удачный исход – пациент умер всего лишь от истощения сил». В уши проник слабый писк ребенка, но не обнадежил его. Ему не было дела до нового существа. Сзади неожиданно возникла Бетти с ходящим ходуном бюстом.
– Что случилось, женщина? Не тяните!
Бетти, забыв о правах и приличиях, привалилась к его плечу и сквозь всхлипы промямлила:
– Она такая хорошенькая. Господи, какая она хорошенькая!
Оттолкнув от себя служанку, Уинтон заглянул в приоткрытую дверь. Джип лежала тихая и бледная. Огромные карие глаза неотрывно смотрели на ребенка. На лице застыло выражение восхищенного удивления. Она не заметила отца – он стоял с неподвижностью камня и наблюдал, в то время как сестра суетилась за ширмой. Уинтон впервые в жизни видел мать с новорожденным ребенком. Выражение на лице дочери – словно она была далеко-далеко отсюда – поразило его. Она вроде бы никогда не любила детей, да и сама говорила, что не хочет ребенка. Джип повернула голову и увидела отца. Он вошел. Она сделала слабый жест в сторону дочери, ее глаза улыбались. Уинтон посмотрел на завернутую в пеленки кроху, чья кожа была покрыта красными пятнами, наклонился, поцеловал руку дочери и на цыпочках вышел.
За ужином, переполненный благодушным отношением ко всему миру, он выпил шампанского. Глядя на струйки дыма над головой, Уинтон подумал: «Надо бы послать этому субъекту телеграмму». В конце концов, муж дочери тоже человек и, возможно, даже мучается, как сам он мучился всего два часа назад. Не годится держать его в неведении! Уинтон написал на бланке: «Все хорошо, дочь, Уинтон», – и распорядился, чтобы конюх отвез текст на почту сегодня же вечером.
В десять Уинтон еще раз осторожно прокрался к дочери, но она уже спала.
Он тоже пошел спать – счастливый, как ребенок.
Глава 11
На следующий день, возвращаясь под вечер с первой за несколько дней охоты, Уинтон разминулся со станционной коляской, имевшей, как все пустые экипажи, одновременно беспечный и неприкаянный вид.
Вид шубы и широкополой шляпы в прихожей дал понять, чего следовало ожидать.
– Мистер Фьорсен приехал, сэр. Он наверху, у миссис Фьорсен.
Явился не запылился, чертов зануда! Джип этот визит вряд ли пойдет на пользу.
– Он приехал с вещами? – спросил Уинтон.
– С саквояжем, сэр.
– Тогда приготовьте комнату.
Опять придется сидеть за столом и смотреть в глаза этому фрукту!
Джип провела самое чудное утро в своей жизни. Ребенок очаровал ее, а когда сосал грудь, вызывал незнакомое, почти чувственное ощущение размягченности, бесконечной теплоты, желание покрепче прижать маленькое создание к себе, чего, разумеется, нельзя было делать. Но в то же время жалкий комочек плоти с клочком черных волос, грацией уступающий даже котенку, не мог обмануть чувство юмора и эстетический вкус Джип. Однако крохотные розовые ноготки, микроскопические скрюченные пальчики ног, серьезные темные глазки, когда они бывали открыты, и неподражаемое спокойствие, когда девочка спала, поразительная энергия, с которой она сосала молоко, – все это было сродни волшебству. Сверх того Джип испытывала чувство благодарности к ребенку, который не лишил ее жизни и даже не заставил отчаянно мучиться, благодарность за то, что, по словам сиделки, она успешно выполнила свой материнский долг, хотя так мало верила в себя. Она внутренним чутьем сразу же поняла: это ее ребенок, а не его, что дочь, как говорится, «пойдет в мать». Откуда у нее появилась такая уверенность, она не могла сказать; может быть, ее вызывал спокойный характер дочери, карие глаза. В добром здравии и единодушии мать и дитя проспали с часу до трех. Проснувшись, Джип обнаружила у кровати сиделку, явно желавшую что-то сообщить.
– К вам приехали, дорогуша.
Джип подумала: «Это он! Голова плохо работает. Надо быстрее соображать. Хочется, да не получается».
Видимо, мысли отразились на ее лице, потому что сиделка немедленно предположила:
– Мне кажется, вы еще не готовы.
– Готова. Только дайте мне пять минут, пожалуйста.
Душа уплыла куда-то далеко-далеко, и Джип требовалось время, чтобы вернуть ее на место, прежде чем принимать мужа, время осознать то, что она уже смутно успела почувствовать: как сильно эта лежащая рядом с ней кроха изменила ее и его жизнь. Мысль, что это крохотное беспомощное существо в равной мере принадлежит и мужу, казалась неестественной. Нет, это не его ребенок! Фьорсен не хотел его, и теперь, когда она преодолела все муки, дочь принадлежит ей и только ей. Нахлынули воспоминания о том вечере, когда она окончательно убедилась, что беременна, а муж завалился домой пьяный, и заставили Джип съежиться, задрожать и обнять своего ребенка. Ничего не помогало. Вернулась прежняя осуждающая мысль, от которой она избавилась в последние дни: «Но ведь я сама вышла за него замуж, сама его выбрала. От этого не уйти!» Ей захотелось крикнуть сестре: «Не впускайте его! Я не желаю его видеть. Умоляю вас, я так устала». Джип проглотила готовые вырваться наружу слова и вскоре со слабой улыбкой произнесла:
– Теперь я готова.
Первым делом она заметила его наряд – новый темно-серый костюм более свободного покроя, который она сама для него выбрала; на шее вместо морского узла – галстук-бабочка; волосы ярче обычного, что всегда бывало после стрижки; к ушам опять начали сползать бакенбарды. Затем с благодарностью, почти растроганностью она отметила, что у него дрожат губы, дрожит все лицо. Фьорсен приблизился на цыпочках, посмотрел с минуту на жену, быстро подошел к кровати, встал на колени и прижался лицом к ее руке. Щетина усов щекотала ладонь, Фьорсен тыкался носом в ее пальцы, что-то шептал ей прямо в руку, касаясь ладони Джип влажными теплыми губами. Она поняла, что муж пытается скрыть раскаяние за все грехи, в том числе совершенные в ее отсутствие, скрыть все страхи, которые его преследовали, и свое волнение от того, какой притихшей и бледной он ее застал. Через минуту он поднимет лицо, и оно будет совсем другим. В голове Джип мелькнула мысль: «Если бы я его любила, то никогда бы не стала обижаться. Почему я его не люблю? Ведь в нем есть что-то достойное любви. Почему?»
Фьорсен поднял лицо, остановил взгляд на ребенке и осклабился.
– Ты только посмотри! – воскликнул он. – Как такое возможно? Ох, моя Джип, какая она смешная! Ох-хо-хо!
Фьорсен разразился сдавленным смехом, потом посерьезнел и сморщил лицо в гримасе притворного отвращения. Джип дочь тоже казалась забавной: маленькое пухлое красное личико, двадцать семь черных волосков, струйка слюны из едва различимых губ, – но она видела в ней чудо, чувствовала это чудо всей душой, и внутри опять зашевелился протест против пренебрежительного отношения к ее ребенку. Ее ребенок не смешон! Не уродлив! Даже если она ошибается, лучше ей об этом не говорить. Джип крепче прижала к себе теплый сверток. Фьорсен протянул руку и пальцем потрогал щеку ребенка.
– Смотри-ка, настоящая! Мадемуазель Фьорсен. Ц-ц-ц!
Девочка пошевелилась. Джип подумала: «Если бы я любила, то не обиделась бы на то, что он потешается над ней. Все было бы иначе».
– Не буди ее! – прошептала Джип и, почувствовав на себе взгляд мужа, поняла, что его интерес к дочери исчез так же быстро, как появился, и что теперь он думает: «Сколько мне еще ждать, прежде чем ты снова примешь меня в свои объятия?»
Фьорсен погладил жену по волосам, и ее вдруг охватило сосущее предчувствие обморока – такого ощущения она прежде не испытывала. Снова открыв глаза, она увидела перед собой субъекта рыночной экономики – та что-то совала ей под нос и произносила звуки, складывающиеся в слова. «Какая же я дура!» – повторила несколько раз сиделка. Фьорсена в комнате не было.
Заметив, что Джип снова открыла глаза, сестра убрала нашатырь, положила ребенка рядом с матерью и со словами: «А теперь спать» – ушла за ширму. Как и все грубоватые натуры, она привыкла перекладывать досаду за собственные промахи на других. Но Джип не хотела спать. Она смотрела то на дочь, то на узор обоев, машинально пытаясь отыскать птицу в промежутках между бурыми и зелеными листьями – по одной в каждом втором квадрате, отчего птица всегда находилась в окружении четырех других. У птиц были зеленые и желтые перья и красные клювы.
Фьорсен, которого сиделка выпроводила из детской со словами: «Ничего страшного, всего лишь небольшой обморок», в унынии спустился вниз. Атмосфера этого темного дома, где его встречали как чужака, непрошеного гостя, была для него непереносима. Ему здесь была нужна одна Джип, а жена при первом же его прикосновении вдруг лишилась чувств. Неудивительно, что так мерзко на душе. Фьорсен открыл какую-то дверь. Что это за комната? Пианино. Гостиная. Тьфу! Камин холодный – какая жалость. Он отступил к порогу и прислушался. Ни звука. Серый свет в унылой комнате. В коридоре за спиной почти темнота. Что за жизнь влачат эти англичане: хуже зимы в его родной Швеции – там хотя бы жарко топят. Внутри вдруг все вскипело. Торчать здесь и пялиться на ее отца, на постную физиономию их слуги! Торчать здесь всю ночь! Джип, лежащая с младенцем в этом враждебном доме, больше не принадлежала ему. Стараясь не шаркать, он вышел в переднюю. Вот его пальто и шляпа. Фьорсен надел их. Где саквояж? Нигде не видно. Какая разница! Потом пришлют. Он ей напишет: объяснит, что обморок его расстроил, что он боится вызвать у нее новый обморок, поэтому не может оставаться в доме так близко от нее и в то же время так далеко. Она должна понять. Тут его охватила страшная тоска. Джип! Он так горячо ее желал. Желал быть с ней, смотреть на нее, целовать ее, ощущать, что она снова принадлежит ему. Открыв дверь, он вышел на дорожку и зашагал прочь с ноющим, неприкаянным сердцем. Это болезненное, дрянное чувство преследовало его на темной дороге до самого вокзала и в вагоне поезда. Его удалось немного стряхнуть лишь на освещенной улице по пути к Росеку. За ужином и после него, выпив особенного бренди графа, Фьорсен почти избавился от уныния, но по возвращении, уже в постели, снова навалилась тяжесть и продолжала давить, пока не пришел спасительный сон.
Глава 12
Поначалу Джип быстро и уверенно шла на поправку, что радовало Уинтона. Как заметила субъект рыночной экономики, его дочь была во многом обязана этим своему прекрасному телосложению.
Перед Рождеством Джип начала потихоньку выходить, а в рождественское утро старый доктор вместо подарка объявил ее полностью выздоровевшей и разрешил, если она захочет, вернуться домой в любое время. Однако после полудня Джип все еще нездоровилось, и весь следующий день она опять провела наверху. У нее вроде бы ничего не болело, просто напала отчаянная апатия, словно упадок духа произошел от понимания: ей уже по силам вернуться – осталось всего лишь принять решение. Так как никто другой не знал о ее сокровенных чувствах, все, кроме Уинтона, гадали о причинах ее хандры. Кормление ребенка грудью было немедленно прекращено.
И только в середине января Джип наконец вымолвила:
– Отец, мне пора возвращаться домой.
Упоминание о «доме» задело Уинтона, и он ограничился коротким ответом:
– Хорошо, Джип. Когда?
– Дом уже готов. Думаю, завтра. Муж все еще у Росека. Я не хочу ему сообщать. Проведу в доме два-три дня одна, пусть ребенок привыкнет.
– Хорошо. Я тебя отвезу.
Уинтон не стал выпытывать мысли дочери о Фьорсене: и так прекрасно знал.
Они отправились на следующий день и прибыли в Лондон в полтретьего. Бетти приехала на место еще утром. Собаки все это время оставались у тетки Розамунды. Джип скучала по их радостному визгу, однако обустройство Бетти и ребенка в комнате для гостей, превращенной в детскую, отняло у нее последние силы. Начало смеркаться, когда она, все еще в меховом манто, взяла ключ от музыкального салона и пересекла сад, чтобы посмотреть, как здесь без нее шли дела последние десять недель. Какой зимний вид принял сад! Как все не похоже на ту томную теплую лунную ночь, когда танцующая Дафна Глиссе вышла из тени деревьев. Как голы и остры сучья на фоне серого темнеющего неба, не поют птицы, ни одного цветка! Она обернулась и посмотрела на дом: холодный, белый, свет горел только в ее комнате и в детской, – там кто-то как раз отодвигал шторы. Листва осыпалась, открыв взору другие дома на улице, непохожие на своих соседей формой и цветом, – это так типично для Лондона. Холодно, зябко. Джип поспешила вперед по дорожке. Под окном музыкального салона выросли четыре маленькие сосульки. Они привлекли ее внимание. Проходя мимо, Джип отломила одну. Ей показалось, что внутри салона горит огонь – за неплотно задернутыми шторами мелькнул свет. Какая умница Эллен, что решила протопить камин. Джип вдруг остановилась как вкопанная. Огонь горел в салоне неспроста. В щель между гардинами она разглядела две фигуры на диване. В голове Джип быстро закрутились мысли. Она повернулась и хотела было убежать, но тут ее охватило какое-то сверхчеловеческое хладнокровие и она твердо посмотрела в окно. Фьорсен и Дафна Глиссе! Муж обнимал девушку за шею. Джип впилась в лицо балерины глазами. Приподняв подбородок и приоткрыв рот, та смотрела на Фьорсена взглядом, полным обожания, как жертва сеанса гипноза. Обнимавшая Фьорсена женская рука подрагивала – от холода? От вожделения?
В голове Джип опять что-то завертелось. Она подняла руку и на секунду задержала у стекла, потом, ощутив приступ отвращения, опустила и отвернулась.
Никогда! Она никогда не покажет ему и этой девице, что они заставили ее страдать. Пусть не боятся – она не станет устраивать сцену в их любовном гнездышке. Ничего не видя перед собой, Джип прошла по покрытой инеем траве, через неосвещенную гостиную, наверх, в свою комнату, и села там у огня. В душе бушевала оскорбленная гордость. Джип бессознательным жестом до боли в губах стиснула зубами носовой платок. Глаза опалял жар из камина, но она даже не пыталась от него отодвинуться.
Вдруг мелькнула мысль: «А каково мне было бы сейчас, если бы я его любила?» – и она усмехнулась. Платок упал на колени, и Джип посмотрела на него в удивлении – на нем алела кровь. Она отодвинула кресло подальше от огня и замерла со слабой улыбкой на губах. Какие у этой девушки были глаза – как у преданной собаки. А ведь она и к ней ластилась тоже! Дафна нашла своего «выдающегося мужчину». Джип вскочила, посмотрела на себя в зеркало, передернула плечами, отвернулась от своего отражения и снова села. В ее собственном доме! Почему тогда не здесь, в супружеской спальне? Или прямо у нее на глазах? Со дня свадьбы не прошло и года! Почти смешно. Почти. Пришла первая спокойная мысль: «Теперь я свободна».
Мысль эта, однако, имела для нее мало смысла; душа, чья гордость была так жестоко уязвлена, не находила в ней ценности. Джип снова пододвинула кресло ближе к огню. Почему она не постучала в окно? Почему не заставила лицо этой девицы стать пепельно-серым от ужаса? Почему не захлопнула крышку западни в той самой комнате, которую она украсила для мужа, где столько часов аккомпанировала ему, которую считала гордостью всего оплаченного ей дома? Как давно они там встречаются, тайком пробираясь через калитку в переулке? Не исключено, что встречи начались еще до ее отъезда, пока она вынашивала его ребенка! В душе вспыхнула борьба между материнским инстинктом и чувством крайнего возмущения, моральная схватка на такой огромной глубине, что в ней не участвовали разум и сознание. Можно ли еще считать ребенка своим? Или сердце потеряет с ним связь и она станет чуть ли не презирать его?
Джип ежилась; несмотря на близость огня, ей было холодно и мерзко, как от физического недомогания. Внезапно она подумала: «Если не сообщить прислуге, что я здесь, чего доброго, выйдут во двор и увидят то, что увидела я!» Закрыла ли она за собой окно гостиной, когда возвращалась на ощупь, как слепая? А что, если слуги уже все знают? Она лихорадочно позвонила в колокольчик и отперла дверь. На зов явилась горничная.
– Прошу вас, Эллен, закройте окно в гостиной и передайте Бетти: боюсь, я немного простудилась в дороге. Я пока прилягу. Спросите, справится ли она с ребенком без моей помощи. – Джип заглянула в лицо горничной. Оно выражало озабоченность, даже сочувствие, но глаза не бегали – она явно ничего не знала.
– Хорошо, мэм. Я принесу вам горячую грелку, мэм. Хотите принять горячую ванну и выпить чашку горячего чая?
Джип кивнула. Все, что угодно! Когда горничная ушла, она машинально подумала: «Чашка горячего чая! Как нелепо! Разве чай пьют холодным?»
Горничная принесла чай. Это была ласковая девушка, ее переполняло восхищенное обожание, какое всегда испытывали к Джип челядь и собаки: обожание с примесью заговорщицкой лояльности, которая неизбежно накапливается в сердцах тех, кто живет в доме, где атмосфера отравлена разобщенностью. На взгляд служанки, хозяйка была слишком хороша для мужа – иноземца, да еще и с дурными привычками. А манеры? У него их вообще не было! Ничего хорошего из этого не могло получиться. Ничего! Эллен твердо так считала.
– Я пустила воду, мэм. Хотите, положу в ванну немного горчицы?
И опять Джип кивнула. Спускаясь на кухню за горчицей, горничная сказала кухарке, что с хозяйкой «чтой-то не так, ажно жалость берет». Кухарка, перебирая клавиши гармоники, занятая любимым занятием, ответила:
– Дык она всегда прячет свои чувства, они все так делают. Слава богу, хоть не тянет слова, как ейная старая тетка. Той мне всегда хочется сказать: «Не жеманься, старая карга, не такая уж ты важная птица».
Когда Эллен, взяв горчицу, ушла, кухарка развернула гармошку на всю длину и принялась осторожно разучивать «Дом, милый дом».
Лежавшей в горячей ванне Джип эти приглушенные звуки казались не мелодией, а далеким гудением больших мух. Горячая вода, острый запах горчицы и монотонные звуки гармоники постепенно успокоили и заглушили резкость эмоций. Джип смотрела на свое тело, серебристо-белое в желтоватой воде, словно во сне. Когда-нибудь наступит день, и к ней тоже придет любовь – странное чувство, которого она никогда не испытывала. Воистину странное, коль мысль о нем пробилась сквозь прежнюю инстинктивную зажатость. Да, однажды любовь найдет ее. Перед мысленным взором опять проплыл восхищенный взгляд Дафны Глиссе, дрожь, пробежавшая по ее руке, и в сердце Джип прокралось наполовину горькое, наполовину завистливое сожаление. К чему держать на них обиду ей, которая не любит? Звуки гудящих мух стали еще ниже, завибрировали еще больше. Кухарка вкладывала всю душу в первые строки песни: «Где-то за лесом, за холмом дом, милый дом».
Глава 13
Ночь Джип проспала спокойно, словно ничего не произошло и о будущем можно было не думать, но проснулась глубоко несчастной. Гордость не позволяла ей объявить миру о своем открытии: заставляла делать бесстрастное лицо и вести бесстрастную жизнь, но душевная борьба инстинкта матери с протестом против своей участи не затихала. Перспектива увидеть своего ребенка пугала ее. Джип передала Бетти, чтобы ее не беспокоили до самого обеда, и только в полдень потихоньку спустилась на первый этаж.
Она осознала, какая жесткая борьба идет в душе из-за его ребенка, лишь проходя мимо двери комнаты, где девочка лежала в колыбели. Если бы Джип позволили продолжать кормить ребенка грудью, никакой борьбы не возникло бы. У нее ныло сердце, но неведомый бес толкал ее пройти мимо двери. Джип бесцельно слонялась внизу, протирала фарфор, переставляла книги, которые после уборки дома горничная расставила чересчур аккуратно, отчего первые тома Диккенса и Теккерея на верхней полке шли друг за другом и совпадали со вторыми томами этих же авторов на нижней полке. Все это время она думала: «Зачем я это делаю? Какая разница, как стоят книги? Это не мой дом. Он никогда не будет моим».
На обед она выпила мясного бульона, продолжая разыгрывать недомогание, после этого села за конторку писать письмо. Что-то надо решать! Она долго сидела, подперев рукой лоб, на ум ничего не приходило, ни единого слова. Джип даже не знала, какое лучше выбрать обращение. Может быть, просто поставить дату, и дело с концом? Дверной звонок заставил ее вздрогнуть. Она не желала никого принимать! Однако горничная всего лишь принесла записку от тетки Розамунды и привела песиков, которые, вне себя от радости, накинулись на хозяйку, соревнуясь между собой за то, кто первым завладеет ее вниманием. Джип опустилась на колени, чтобы разнять сорванцов и восстановить мир и спокойствие, и те принялись жадно лизать ее щеки. Под ласковыми прикосновениями влажных язычков обруч, сдавливавший разум и сердце, разжался, и Джип захлестнуло страстное желание вновь увидеть свое дитя. После того как она видела девочку последний раз, прошли почти сутки – как такое могло случиться? Она целый день избегала вида этих серьезных глазок, пухлых ручек и ножек. В сопровождении собак Джип поднялась наверх.
Из музыкального салона дом не был виден. Преследуемая мыслью, что, не догадываясь о ее возвращении, парочка могла оставаться в объятиях друг друга бог знает сколько времени, Джип в тот же вечер написала:
«Дорогой Густав! Мы вернулись. Джип».
Что еще она могла сказать? Записку он не увидит, пока не продерет глаза к одиннадцати. Инстинктивно желая отсрочить встречу с мужем и по-прежнему не в силах предсказать, как поведет себя при его появлении, Джип ушла из дому еще до полудня и весь день, стараясь ни о чем не думать, ходила по магазинам. Вернувшись к вечернему чаю, она сразу же прошла в детскую, где Бетти сообщила, что Фьорсен приходил, но потом взял скрипку и ушел в музыкальную комнату.
Наклонившись над ребенком, Джип сдержалась от проявления эмоций, пустив в ход все свое самообладание, которое за последнее время заметно окрепло. Скоро Дафна прилетит, как мотылек, по темному узкому переулку, постучится маленьким кулачком в калитку, а он откроет и пробормочет: «Нет-нет, жена вернулась». Как она испугается! Быстрый шепот: «Давай встретимся в другом месте!» Поцелуй впопыхах, обожающий взгляд Дафны, и вот она уже спешит прочь от закрывшейся калитки в темноту, разочарованная. А он сядет на обитый парчой диван, покусывая кончики усов, и будет смотреть на огонь кошачьими глазами. А потом, может быть, из скрипки польются пленительные звуки, полные слез и ветра, которые когда-то околдовали Джип.
– Откройте немного окно, милая Бетти, – попросила она. – Очень душно.
А вот и она, музыка, то нарастает, то ниспадает! Почему стоны скрипки когда-то так сильно ее трогали, хотя сейчас звучат как издевка? Джип вдруг осенило: «Он хочет, чтобы я пришла к нему и начала подыгрывать. Но я не пойду. Ни за что не пойду!»
Она опустила ребенка в колыбель, вернулась в спальню, торопливо переоделась в платье для чаепития и приготовилась спуститься вниз. Ее внимание привлекла фарфоровая фигурка пастушки на каминной полке. Джип взяла ее в руки. Она купила статуэтку года три назад, только-только переехав в Лондон, в самом начале периода беззаботной юности, когда жизнь казалась одним сплошным котильоном, в котором ей выпало танцевать ведущую партию. Холодное изящество фигурки напоминало Джип о другом мире, без глубины и теней, лишенном каких-либо чувств, – таком счастливом мире!
Ждать пришлось недолго: вскоре Фьорсен постучал в окно гостиной. Джип поднялась из-за чайного стола и впустила его. Почему взгляд человека, заглядывающего в окно из темноты, всегда кажется голодным, ищущим, высматривающим, что есть у тебя такого, чего нет у него? Отодвигая щеколду, она подумала: «Что ему сказать? У меня не осталось никаких чувств». Пыл во взгляде, голосе, жестах Фьорсена показался ей до смешного фальшивым. Еще более смехотворным и фальшивым был вид разочарования на лице мужа, когда она сказала: «Прошу тебя, будь осторожнее. Я еще не совсем окрепла».