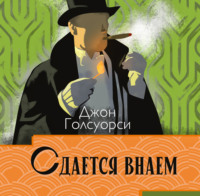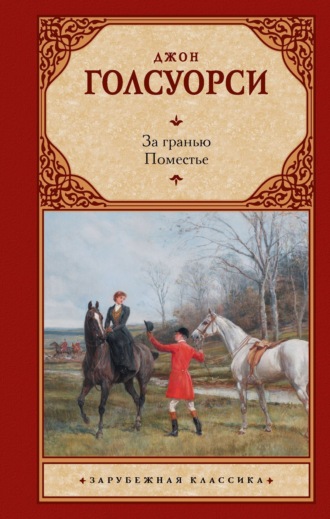
Полная версия
За гранью. Поместье
– Прошу вас, принесите щенков.
– Да, мадам.
В саду лениво нежился в летнем тепле полдень. Удачный год, середина июня. Воздух осоловел от жужжания пчел и ароматов.
У ее ног катались и хватали друг друга зубами щенки. Сидя в тени, Джип мысленно шарила по своему маленькому миру в поисках утешения и хоть какой-нибудь защиты, но не могла найти, как если бы ее окружал плотный горячий пар с прячущимися в нем существами, в котором ей удавалось устоять на ногах лишь за счет гордости и решимости не закричать во весь голос о своем бедственном положении и страхе.
Покинув дом утром, Фьорсен шел пешком, пока не увидел таксомотор. Отклонившись на сиденье и сняв шляпу, он распорядился ехать куда глаза глядят, и побыстрее. Он всегда так делал, когда в мыслях царил сумбур, – дорогостоящая причуда, особенно когда в карманах у тебя свистит ветер. Быстрая езда и щекочущая нервы постоянная близость – на грани столкновения – других автомобилей действовали на него успокаивающе. А сегодня он как никогда нуждался в спокойствии. Просыпаться в своей постели, не помня даже, как туда попал, ему, как и многим другим мужчинам двадцати восьми лет, было не в новинку, однако после вступления в брак это случилось впервые. Было бы легче, если бы он совсем ничего не помнил, но в памяти отложилось, как он стоит в темной гостиной, видит рядом с собой призрачную фигуру Джип и прикасается к ней. Этот образ отчего-то нагонял на него страх. А в страхе он, как и большинство людей, начинал вести себя наихудшим образом.
Если бы Джип была похожа на других женщин, в обществе которых он срывал плоды страсти, он бы не ощущал сейчас столь гнетущего унижения. Если бы она была похожа на остальных, то, продолжая в темпе, взятом после того, как завладел Джип, он бы теперь, говоря словами Росека, «иссяк». Но Фьорсен хорошо знал, что он далеко не «иссяк». Да, он мог напиться вдрызг, мог позволять себе всяческие излишества, однако мысли о Джип не отпускали его, но он так и не смог духовно сблизиться с женой. Ее сила, тайна ее притяжения заключалась в уступчивости. Он чувствовал в ней загадочную восприимчивость природы, которая, даже уступая горячему напору человека, остается безучастной, сохраняя легкую улыбку – неуловимую улыбку лесов и полей, одинаковую и днем и ночью, от которой желание разгорается еще сильнее. Он чувствовал в ней неизмеримое, мягкое, трепетное безразличие цветов, деревьев, ручьев, скал, птичьих трелей, тихий гул вечности яркого солнечного дня и звездной ночи. Ее темные улыбчивые глаза манили его, вызывали неутолимую жажду. Он же принадлежал к числу тех, кто, столкнувшись с душевными затруднениями, немедленно пятился, искал отвлечения, заглушал страдания собственного «я» эскападами. Так ведет себя избалованный ребенок – безрассудно, с прирожденным пафосом; иногда он противен, а иногда, как часто бывает с такими людьми, вызывает умиление. Фьорсен возжелал достать луну с неба, и вот он ее достал, но теперь не знал, что с ней делать, лишь откусывал от нее понемногу, а луна тем временем все больше отдалялась от него. Иногда ему хотелось отомстить за неспособность духовного сближения, и он был готов совершать всяческие глупости. В узде его держала одна лишь работа. Работал он действительно упорно, но и работе уже чего-то недоставало. Он обладал всеми качествами, необходимыми для успеха, не хватало только морального костяка, чтобы не разбрасываться ими, только этот костяк и мог дать ему заслуженное, как он считал, превосходство над другими. Его часто удивляло и раздражало, что какой-нибудь современник котировался выше него.
Фьорсен колесил по улицам на такси и размышлял: «Может, я сделал вчера ночью что-то такое, что ее по-настоящему шокировало? Почему я не дождался ее утром и не узнал, насколько плохо обстоит дело?» Он скривил губы – выпытывать дурные новости он не любил. Мысленные поиски козла отпущения привели его к Росеку. Как у многих эгоистичных ловеласов, у Фьорсена было мало друзей. Росек был одним из самых постоянных, но и к нему Фьорсен подчас испытывал презрение, смешанное со страхом, какое посещает несдержанного, но более одаренного человека при виде менее талантливого, но более волевого собрата. Фьорсен относился к Росеку, как капризный ребенок к няньке, с примесью артиста, особенно исполнителя, не способного прожить без ценителя и мецената с тугим кошельком.
«Черт бы побрал Павла! – подумал он. – Ведь я должен был знать, и я знаю, что его бренди пьется легко, как вода. Можно не сомневаться: он видел, как я дурею! Наверняка что-то задумал. Куда я потом пошел? Как попал домой?» И опять прежняя мысль: «Неужели я обидел Джип?» Хуже всего, если сцену наблюдали слуги. Это страшно ее расстроило бы. Он рассмеялся. Но тут снова нахлынул страх. Фьорсен не понимал Джип, не знал, что она думает или чувствует, вообще ничего о ней не знал. «Как несправедливо! – с негодованием думал он. – Я-то от нее не прячусь. Я открыт, как дитя природы. Ничего не скрываю. Что же я сделал? Горничная как-то странно смотрела на меня сегодня утром». Он вдруг приказал шоферу ехать на Бери-стрит, в Сент-Джеймс. По крайней мере он выяснит, не уехала ли Джип к отцу. Мысль об Уинтоне не давала ему покоя, он несколько раз менял решение в уме, но такси прибыло на маленькую улицу так быстро, что он не успел отдать водителю новое распоряжение. Пока Фьорсен стоял и ждал, когда ему откроют, у него вспотел лоб.
– Миссис Фьорсен у вас?
– Нет, сэр.
– И не приезжала сегодня утром?
– Нет, сэр.
Он пожал плечами, отгоняя мысль, что не мешало бы чем-то объяснить свой неожиданный визит, снова сел в такси и попросил отвезти его на Керзон-стрит. Если Джип не окажется и у тетки Розамунды тоже, тогда все в порядке. Жены там не было. Куда-то еще она не могла уехать. Фьорсен ощутил облегчение и вместе с ним голод, ведь он ушел из дому, не позавтракав. Сейчас он заедет к Росеку, займет денег, чтобы заплатить за такси, и у него же пообедает. Но Росека не оказалось дома, и за деньгами на оплату такси приходилось возвращаться домой. Водитель поглядывал на него искоса, словно сомневался, что ему вообще заплатят.
Проходя под шпалерами, Фьорсен разминулся с вышедшим из дома мужчиной с продолговатым конвертом в руках.
Джип сидела в кабинете и подсчитывала сумму расходов по корешкам в чековой книжке. Она не обернулась, и Фьорсен остановился в ожидании. Как-то она еще его примет?
– Есть что-нибудь на обед? – спросил он.
Джип протянула руку и позвонила в колокольчик. Фьорсен устыдился своего поведения, он был готов заключить ее в объятия и сказать: «Прости меня, маленькая Джип! Я виноват перед тобой!»
На звонок явилась Бетти.
– Принесите что-нибудь поесть мистеру Фьорсену.
Толстуха на выходе громко фыркнула. Она тоже играла роль в этом спектакле. Внезапно Фьорсена охватила ярость.
– Какой муж тебе нужен? Буржуа, который скорее умрет, чем пропустит обед?
Джип обернулась и показала ему чековую книжку.
– Меня ничуть не волнует, пропустишь ты обед или нет. Меня волнует вот это.
Фьорсен прочитал на корешке: «М-ры Траверс и Санборн, портные, счет оплачен: 54 фунта 35 шиллингов 7 пенсов».
– И много еще таких счетов, Густав?
Фьорсен побледнел, что говорило об уязвленном честолюбии, и резко ответил:
– А что такое? Подумаешь, счет! Ты его оплатила? Тебе необязательно платить по моим счетам.
– Этот человек сказал, что, если ты сейчас же не заплатишь, он подаст на тебя в суд. – У нее задрожали губы. – Я считаю долги позором. Иметь долги – значит не уважать себя. Много их у тебя? Прошу, скажи мне правду!
– Я не собираюсь ничего говорить! Тебе-то какое до них дело?
– Очень даже большое. Я содержу этот дом, плачу горничным и хочу знать свое финансовое положение. Я не намерена копить долги. Терпеть этого не могу.
В лице Джип появилась жесткость, какой он прежде не замечал. Фьорсен смутно сознавал, что сегодняшняя Джип сильно отличается от вчерашней, когда он был последний раз в состоянии видеть ее и говорить с ней. Непривычность ее протеста странным образом его встревожила, ранила самомнение, вызвала необъяснимую опаску и в то же время возбудила. Он подошел к ней и примирительно сказал:
– Деньги! К черту деньги! Поцелуй меня!
С выражением нескрываемой досады на лице, немало его удивившей, Джип ответила:
– Проклинать деньги – ребячество. Я готова тратить весь свой доход, но ничего сверх того, и отца просить тоже не стану.
Фьорсен плюхнулся в кресло:
– Ха-ха! Какая добродетельность!
– Нет, гордость.
– Значит, ты мне не веришь, – мрачно констатировал он. – Ты не веришь, что я могу заработать столько, сколько потребуется: больше твоего и в любое время? Ты никогда в меня не верила.
– Я считаю, что ты не сможешь когда-либо зарабатывать больше, чем сейчас.
– Это ты так думаешь! Мне не нужны деньги – твои деньги! Я способен жить налегке, если захочу. Я уже не раз так делал.
– Тсс!
Фьорсен обернулся и увидел в дверях горничную.
– Извините, сэр, водитель просит заплатить за проезд, если вы не хотите продолжать поездку. Двенадцать шиллингов.
Швед уставился на нее взглядом, от которого, как нередко жаловалась горничная, она ощущала себя последней дурой.
– Нет-нет. Заплатите ему.
Девушка взглянула на Джип и кивнула:
– Да, сэр.
Фьорсен расхохотался, держась за бока. Какая насмешка над его последним заявлением! Взглянув на жену, он сказал:
– Правда, смешно, Джип?
Но ее лицо не изменило серьезного выражения. Зная, что нелепицы смешат Джип даже больше, чем его самого, он почувствовал новый приступ страха. Что-то изменилось. Что-то очень сильно изменилось.
– Я тебя обидел вчера вечером?
Джип передернула плечами и подошла к окну. Фьорсен мрачно проводил ее взглядом, вскочил и выбежал в сад. Мгновением позже из музыкального салона зазвучали яростные стенания скрипки.
Джип слушала с горькой усмешкой. Ко всему прочему еще и деньги! Какая теперь разница? Ей не выбраться из западни собственных поступков. Никогда не выбраться. Вечером он опять будет ее целовать, а она будет делать вид, что все в порядке. И так без конца! Что ж, ей некого винить, кроме себя. Вынув из кошелька двенадцать шиллингов, она положила их на конторку, чтобы потом отдать горничной. Джип вдруг подумала: «Быть может, он еще ко мне охладеет. Ах, если бы он ко мне охладел!» Но дорога, ведущая к этому, была намного длиннее той, которую она уже прошла.
Глава 7
Те, кто бывал во время мертвого штиля в тропиках, когда паруса на беспомощном судне повисают как тряпка и надежда на избавление тает с каждым днем, возможно, могли бы понять, какую жизнь теперь вела Джип. Однако на корабле даже самый затяжной штиль когда-нибудь подходит к концу. Но молодая женщина двадцати трех лет, выйдя замуж по ошибке, в которой виновата она одна, не видит никакого просвета, если только не относится к современным дамочкам. Джип к ним не относилась. Решив, что никому не признается в ошибке и будет ждать, стиснув зубы, рождения ребенка, она не открылась даже отцу. С мужем Джип держалась как обычно, стараясь сделать для него быт легким и приятным: аккомпанировала ему, хорошо кормила, принимала его ласки. Да и какая разница? Ведь она никого не любила. Глупо корчить из себя мученицу. Ее дискомфорт, дискомфорт духа, таился намного глубже, был острой, невыразимой тоской человека, своими же руками обрезавшего себе крылья.
К Росеку она относилась так, словно сцены в ее доме никогда не было. Мысль, чтобы в трудную минуту положиться на мужа, улетучилась без остатка после той ночи, когда он явился вдрызг пьяным. Она не решилась рассказать об этой сцене отцу. Не ровен час, он мог что угодно сделать. При этом она оставалась начеку, понимая, что Росек никогда не простит ей унизительной насмешки. Намеки графа насчет Дафны Глиссе она попросту выбросила из головы, чего не смогла бы сделать, если бы любила Фьорсена. Джип воздвигла для себя идола гордости и сделалась верной его поклонницей. Только Уинтон и, возможно, Бетти замечали, что она несчастлива. Долги Фьорсена и безответственное отношение мужа к деньгам мало ее заботили, ведь это она оплачивала все в доме – аренду, жалованье прислуги, питание и собственные наряды. До сих пор она избегала долгов, а на то, как муж вел себя вне дома, не могла повлиять.
Лето медленно подошло к концу, а вместе с ним – концертный сезон. Оставаться в Лондоне стало невозможно, однако переезд страшил ее. Джип хотелось, чтобы ее оставили в покое в ее маленьком доме. По этой причине однажды вечером после театра она рассказала Фьорсену о своем секрете. Тот, сидя на козетке с бокалом в руке и сигаретой в зубах, в этот момент рассуждал об отпуске. На его щеках, побледневших и запавших от эксцессов лондонской жизни, выступил странный тусклый багрянец. Он вскочил и уставился на жену. Джип сделала непроизвольный жест:
– Незачем на меня так смотреть. Я не лгу.
Фьорсен оставил бокал и сигарету на столе и забегал по комнате. Джип стояла с легкой улыбкой, даже не глядя на мужа. Он вдруг схватился за лоб и воскликнул:
– Но я не хочу ребенка! Я не хочу, чтобы дитя испортило мою Джип. – Он подскочил к ней с испуганным лицом. – Я не хочу. Я его боюсь. Откажись от него.
В сердце Джип шевельнулось то же чувство, как в тот вечер, когда он пришел пьяным: скорее сострадание, чем осуждение вздорного поведения. Взяв его за руку, она сказала:
– Все хорошо, Густав. Тебе не следует волноваться. Когда стану некрасивой, я возьму Бетти и уеду отсюда, пока все не закончится.
Фьорсен упал на колени.
– О-о нет! О-о нет! Моя прекрасная Джип!
Она же сидела, как сфинкс, опасаясь, что у нее вырвутся те же слова: «О-о, нет!»
Через открытые окна в комнату влетели ночные бабочки. Одна из них опустилась на цветок гортензии, стоявшей в камине. Джип посмотрела на белое мягкое пушистое существо, чья головка напоминала на фоне голубоватых лепестков крохотную сову, на фиолетово-серые каминные изразцы, ткань своего платья, приглушенный абажурами свет ламп. Это «о-о нет!» бросило вызов ее эстетическому чувству. Скоро она сама станет некрасивой и, возможно, умрет, как умерла ее мать. Джип сжала зубы, выслушивая протест великовозрастного ребенка против того, чему сам был причиной, и покровительственно коснулась его руки.
Она с любопытством наблюдала в тот вечер и на следующий день, как Фьорсен будет переваривать обескураживающую новость. Наконец, поняв, что от природы не убежишь, он, как и предполагала Джип, начал шарахаться от всего, что напоминало о ребенке. Зная о его порочных наклонностях, она не стала предлагать, чтобы он куда-нибудь уехал без нее, но, когда Фьорсен предложил поехать с ним и Росеком в Остенде, Джип, сделав вид, что колеблется, ответила отказом – будет лучше, если она спокойно посидит дома, а ему пожелает как следует отдохнуть.
После отъезда мужа на нее снизошел покой. Такое состояние испытывает больная, обнаружив, что не отпускавшая ее, настырная лихорадка наконец прошла. Как хорошо больше не ощущать странное, беспорядочное присутствие мужа в доме! Проснувшись поутру в душной тишине, она не смогла себя убедить, что ей не хватает его, не хватает шелеста его дыхания, вида всклокоченных волос на подушке, продолговатой фигуры под простыней. В сердце не было ни пустоты, ни боли. Оно лишь ощущало, как приятно, свежо и покойно лежать в постели одной. Джип долго не вставала. Так сладко лежать с настежь распахнутыми окном и дверью, бегающими туда-сюда щенками, проваливаясь в дрему, слушая воркование голубей и далекий уличный шум, вновь ощущать себя хозяйкой своего тела и души. После того как Фьорсен узнал ее секрет, скрывать его от других больше не имело смысла. Решив, что отец обидится, если узнает новость не от нее, она позвонила ему и предложила приехать на Бери-стрит, чтобы вместе пообедать.
Уинтон не уехал из Лондона, потому что в период между скачками в Гудвуде и Донкастере не происходило никаких достойных его внимания событий, а сезон охоты на лис еще не начался. Для столицы август, пожалуй, был самым приятным временем года: в опустевшем клубе можно сидеть, не опасаясь, что к тебе начнет приставать с разговорами какой-нибудь старый зануда. Мастер фехтования, коротышка Бонкарт, всегда готов к поединку – Уинтон давно натренировал левую руку делать все то, что когда-то умела правая. В турецких банях на Джерми-стрит почти не попадалось разжиревших завсегдатаев. Можно было прогуляться до Ковент-Гардена, купить дыню и вернуться домой пешком, не встретив на Пикадилли ни одну из герцогинь за исключением самых малообеспеченных. Теплыми вечерами он любил бродить по улицам или паркам с сигарой в сдвинутой назад, чтобы остудить лоб, шляпе, ворочая в голове случайные мысли, вспоминая случайные эпизоды своего прошлого. Он не без удовольствия получил известие, что дочь сейчас одна и свободна от общества этого субъекта. Куда пригласить ее на ужин? Миссис Марки взяла отгул. Почему бы не в «Блафар»? Там тихо, залы небольшие, не слишком респектабельные, всегда прохладно, хорошее меню. Точно, в «Блафар»!
Когда она приехала, Уинтон уже ждал на пороге. Тонкое обветренное лицо, острый взгляд из-под опущенных век – образец собранности, хотя сердце ликовало как у мальчишки, которому позволили провести уикенд у товарища. Как прекрасно она выглядит! Правда, немного бледна от лондонской жизни. Какие у нее черные глаза, какая улыбка! Поспешно приблизившись к такси, он сказал:
– Нет, я с тобой, давай поедем в «Блафар», Джип, гульнем сегодня вне дома!
Уинтон вошел вслед за дочерью в маленький ресторан, испытывая истинное удовольствие от того, что посетители в красных зальчиках с низкими потолками один за другим поворачивают головы и смотрят на него с завистью, вероятно, принимая их и Джип за пару иного рода. Он усадил дочь в дальнем углу у окна, откуда она могла все видеть, а другие могли видеть ее. Уинтону очень хотелось, чтобы ее видели, в то время как сам он повернулся к окружающему миру гладкими седеющими прядями на затылке. Он не собирался позволять этим евеям, амореям и прочим бездельникам, лакающим шампанское и потеющим от духоты, испортить им праздник, ибо никто не знал, что сегодня он вновь переживает один заветный вечер, когда обедал в этом самом углу с матерью Джип. В тот вечер его лицо принимало на себя все взгляды, а она сидела к любопытным спиной. Но Уинтон не стал рассказывать об этом дочери.
Джип выпила два бокала вина и только тогда сообщила новость отцу. Он воспринял ее с хорошо знакомым выражением – поджав губы и глядя куда-то поверх ее головы, – потом тихо спросил:
– Когда?
– В ноябре, отец.
По телу Уинтона пробежала неконтролируемая дрожь. В том же месяце! Протянув руку, он крепко сжал ее ладонь.
– Все будет хорошо, дитя мое. Я рад.
Не отпуская его руку, Джип пробормотала:
– А я нет, но бояться не буду – обещаю.
Оба пытались обмануть друг друга, и оба – безуспешно. Однако и отец и дочь умели принимать невозмутимый вид. Кроме того, это был ее первый вечер вне дома после вступления в брак: момент свободы, забытого ощущения, когда весь мир – твой бальный зал и перед тобой открыты все пути. А для Уинтона наступил момент возобновления ничем не отягощенной родственной близости и тайных блаженных воспоминаний о прошлом. После замечания вслух: «Так значит, он уехал в Остенде?» – и мысли: «Ну еще бы!» – они больше не возвращались к Фьорсену. Разговор шел о лошадях, Милденхеме – Джип казалось, что она не была там несколько лет – и ее детских шалостях. Глядя на Уинтона с веселым любопытством, она спросила:
– А каким был в детстве ты, отец? Тетя Розамунда говорит, что мальчиком ты иногда впадал в такую ярость, что к тебе боялись подойти. Якобы ты всегда лазал по деревьям, стрелял из рогатки, выслеживал дичь и никогда никому не доверял то, что хотел оставить при себе. И правда ли, что ты без памяти влюбился в свою няню-гувернантку?
Уинтон улыбнулся. Как много времени прошло после этого первого увлечения! Мисс Хантли! Елена Хантли – завитки каштановых волос, голубые глаза, умопомрачительные платья. Он помнил, с какой тоской и горькой обидой воспринял во время первых школьных каникул известие о ее уходе.
– Да-да, – подтвердил он. – Боже мой, как давно это было! Мой отец как раз собирался ехать в Индию. Больше мы его не видели – погиб в первую афганскую кампанию. Когда я влюблялся, то любил по-настоящему. Но я не воспринимал вещи так же тонко, как ты, у меня не было и половины твоей чувствительности. Нет, я совсем не был похож на тебя, Джип.
Наблюдая за рассеянным взглядом дочери, которым она следила за движениями официантов – не нацеливая взгляд, но в то же время вбирая все происходящее вокруг, – он подумал: «Она самое прелестное существо на свете!»
– Чего бы тебе сейчас еще хотелось? – спросил он. – Может быть, съездим в театр или мюзик-холл?
Джип покачала головой. Слишком жарко. Может, просто прокатиться и посидеть в парке? Было бы очень мило. Опускались сумерки, изнуряющая духота немного спала, свежий ветерок приносил аромат деревьев на площадях и в парках, перемешанный с запахами конского навоза и бензина. Уинтон назвал тот же, что и в тот далекий памятный вечер, адрес: Найтсбридж-Гейт, – когда стояла прекрасная погода, ночной бриз дул в лицо, а не так, как в этих чертовых такси, – сзади в шею. Они вышли из машины, пересекли Роттен-роу и приблизились к деревьям у оконечности озера Лонг-Уотер. Там они присели бок о бок на два сдвинутых и накрытых сюртуком Уинтона стула. Роса еще не выпала. Тяжелая листва повисла без движения. В теплом воздухе витали сладкие ароматы. На фоне деревьев и травы выделялись другие темные, темнее сумерек, молчаливые пары. Тишина повсюду, если не считать непрерывного шума транспорта. Дым сигары, слетая с губ Уинтона, поднимался в небо ленивыми кольцами. Майор предавался воспоминаниям. Сигара в зубах дрогнула, с нее сорвался длинный столбик пепла. Уинтон машинально вскинул руку, чтобы смахнуть его, – правую руку!
– Какие приятные, теплые, таинственные сумерки, – раздался голос Джип у самого его уха.
Уинтон вздрогнул, будто, очнулся от грез наяву, и, тщательно отряхнув пепел левой рукой, ответил:
– Да, очень мило. Вот только сигара потухла, а я не захватил спички.
Джип взяла отца под руку:
– Эти влюбленные, их темные фигуры, шепот, они придают сцене особое своеобразие. Ты это тоже чувствуешь?
– Безлунная ночь! – пробормотал в ответ Уинтон.
Они снова замолчали. Дуновение ветра взъерошило листья, ночной воздух как будто в один миг наполнился шепотом голосов. Тишину разрезал хохоток девушки: «Ах, Гарри, перестань!»
Джип поднялась:
– Я уже чувствую росу, отец. Может быть, пойдем?
Чтобы не намокла тонкая обувь Джип, они шли по дорожкам и болтали на ходу. Волшебство исчезло. Вечер опять стал обычным лондонским вечером, парк – земельным участком с сухой травой и дорожками, посыпанными гравием, влюбленные – обыкновенными, свободными от работы клерками и продавщицами.
Глава 8
Письма Фьорсена вызывали у Джип долго не проходившую улыбку. Муж писал, что страшно скучает по ней. Ах, если бы она могла быть с ним! И так далее и тому подобное, что почему-то никак не противоречило картинам на редкость приятного времяпровождения. Письма содержали просьбы выслать денег, но старательно избегали отчета о каких-либо конкретных событиях. Джип выкраивала денежные переводы из похудевшего бюджета, ведь это был и ее отпуск тоже, и она могла себе позволить за него заплатить. Она даже нашла магазин, скупавший драгоценности, и не без злорадного торжества отправила мужу все вырученные средства. Ей и Фьорсену их хватило еще на одну неделю.
Однажды вечером она сходила с отцом в «Октагон», где все еще выступала Дафна Глиссе. Вспомнив восхищенный писк девушки в своем саду, Джип на следующий день запиской пригласила Дафну пообедать вместе, а после обеда понежиться в тени деревьев.
Танцовщица с готовностью приняла приглашение. Она приехала бледной и понурой от духоты, но роскошно одетой в шелковое платье из магазина Артура Либерти и соломенную шляпу с опущенными полями. Они пообедали пикальным мясом, мороженым, фруктами, после чего настал черед кофе и сигарет, а также множества леденцов и конфет, разложенных в самой густой тени. Джип сидела в низком плетеном кресле, Дафна – на подушках, брошенных на траву. После вступительных восклицаний она проявила себя большой говоруньей и принялась безо всякого стеснения изливать свою душу. Джип умела слушать и получала удовольствие, какое получает человек, которому исповедуются о другой, не похожей на его собственную, жизни, да еще при этом считают его существом высшего порядка.
– Разумеется, я не задержусь дома дольше необходимого. Вот только негоже входить в жизнь, – это выражение Дафна часто употребляла, – не узнав сначала своего положения. В моей профессии надо держать ухо востро. Разумеется, некоторые думают, что она хуже, чем на самом деле. На отца иногда находит. Вы себе не представляете, миссис Фьорсен, как ужасна обстановка у нас дома. У нас подают на стол старую баранину. Вы понимаете, о чем я говорю? Запах старой баранины в спальне в жаркий день – это тихий ужас. И заниматься негде. Мне хотелось бы иметь студию в каком-нибудь милом местечке: у реки, например, или рядом с вашим домом. Вот было бы здорово! Кстати, я уже начала потихоньку откладывать деньги. Как только наберется двести фунтов, я сбегу. Было бы прелестно вдохновлять художников и музыкантов. Я не хочу быть обычным «номером» и заниматься из года в год одним балетом. Я хочу быть не такой, как все. Моя мать – глупая женщина, которая страшно боится любого риска. Так я ни за что не продвинусь. Нет, с вами так приятно беседовать, миссис Фьорсен, ведь вы достаточно молоды, чтобы понимать мои чувства. Я уверена, что вас не шокирует ни один вопрос. Я хотела бы спросить о мужчинах. Что лучше: выйти замуж или взять себе любовника? Говорят, настоящей артисткой невозможно стать, пока не испытаешь страсть. Но если выйти замуж, то опять начнется старая баранина и, возможно, дети. А если еще и муж плохой попадется… Брр! Но, с другой стороны, я не хочу выглядеть вульгарно. Я терпеть не могу вульгарных людей, просто ненавижу их. Что вы думаете? Это ужасно трудный вопрос, правда?