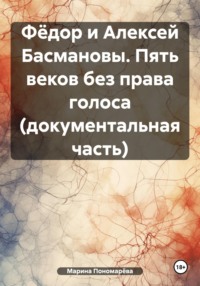Полная версия
Фёдор Басманов книга первая
Такие, да не такие.
С того момента как приехал Фёдор с вестью победной о взятии государевым войском града Полоцка, принял из рук крестницы Владимира Андреевича братину с вином, умудрился ненароком покой потерять. Пил смело, гордо, повторяя виденное у взрослых мужиков. А всё ж голова закружилась, и сердце застучало. От вина ли? Девица – чудная. Взгляда не упустила кротко. Сверкнула живыми глазами похожими на серую дымчатую яшму. На плече коса немного растрепанная. То ли русая, то ли рыжая. Не понятно совсем. Уж как скрутило! Захотелось ту косу ухватить, расплести, чтобы узнать, чего больше: золотого али рыжего? Лиса – огнёвка!
Поклонился девушке тогда до полу. Не хозяевам дома, что глядели на него зло. В глубине души презирал их Фёдор, ибо знал – приехал в княжество изменников государевых. Знал, что приехал погубить их. Или же начало той погибели положить. И не победе поклонился. Мало ли их ещё будет, побед славных? А этой девушке, которую первый раз увидел.
Ныне коса из-под плата видна, снова растрепанная. Точь с ленцой заплетала её девка. Но уже знал Фёдор, как та старается каждое утро. Просто коса такая упёртая! У Старицких, каждая кошка с норовом. И девка каждая с норовом. И даже коса с норовом, будь здоров! Вечно выбиваются завитки, падают на уши, придавая вид смешной. А после дождя, когда воздух тягучим и густым становится, совсем беда бедовая.
Несколько минут юноша мучительно решал, стоит ли озаботиться приветствием после окончания службы? Все вокруг прекрасно знали, что трещина в отношениях царя и его двоюродного брата растет не по дням, а по часам. Фёдор лучше всех это знал, ибо помог этой трещине стать больше. Про то, что любые сношения со Старицкими теперь особенно небезопасны, осознавал. Но и не поприветствовать княгиню, в доме которой пил-ел с зимы до весны, Фёдор тоже не мог. Промучившись так какое-то время, ничего не решил, но с самим собой договорился, предоставил право решения батюшке.
Сам же, огляделся воровато. Убедившись, что никого из знакомых рядом нет, юноша аккуратно стал пробираться туда, где расположилась на молитву женская часть старицкого двора, и туда, где в переливчатом свете лампад, краснело кармазиновое пятно. Крестясь перед иконами наугад, не разбирая толком, кто из святых перед ним, юноша юркнул в тень, что падала от сводов возле ризницы. По пути возжёг свечу. Досадливо и даже брезгливо поморщился, обнаружив подле себя сюжетцы Учительских икон и Страшный Суд почти над головой. Окинул взглядом знакомые образа, в который раз подивившись пугающей и грозной придумке. Экий мудрёный путь человеческой душе пройти надобно, чтобы даже до Геенны огненной добраться! Всякая ли душа дойдёт и не заплутает? А всякая ли в путь этот двинется? А бывает ли такие души, что не схотят через мытарства такие проходить, на земле захотят остаться? Каждый раз, когда Фёдор пытался выспрашивать у батюшки такие вещи, тот сердился, называл богохульником и еретиком и приказывал подобные бредни из головы выкинуть, чтобы не ляпнуть там, где после такого голову потерять можно. А ещё лучше – забыть начисто и покаяться. Ибо от людей и даже от государя помыслы утаить можно, а от Господа, как утаишь? Он всего тебя всего знает.
–И все твои глупости непотребные – назидательно добавлял Алексей Данилович, с трудом скрывая тоску, которая поднималась каждый раз, когда приходилось видеть глаза сына в такие минуты.
–А есть, чего Господь не знает? – спрашивал маленький Фёдор.
Когда повзрослел же, вопросы усложнились, стало только хуже.
–Цикавый27 больно – злился отец.
С горечью замечал он голубоватый озёрный отсвет, что казался проклятием языческим, невесть откуда и как, проникшим в родовую кровь и пустившим свои корни через Федьку. В нём всякая благая мысль, ухает точно камень, брошенный в воду. На самое дно. И пользы не будет, сколько крапивой выпороть не грозись.
Фёдор торопливо кивал, каялся, горячо и даже искренне обещал глупости из головы выкинуть. А думал всё равно о своем. Глядя отрешённо на небо, на дождь, на открытый огонь. Страшно иной раз было вообразить, о чём думает.
После таких разговоров долго гадал Алексей Данилович, где сын такой опасной еретической вольности нахвататься успел. Но разуметь не мог. Не водилось таких вольнодумцев рядом с Басмановыми.
Девушка, которую высматривал Фёдор, зашевелилась, точно почуяла чего. Впрочем, видно было, что и до этого службу выстаивала с каким-то затаённым беспокойством.
Сердце Федькино стучало быстро-быстро, даже Страшный Суд перестал пугать. Воды огненного озера слились с красным кармазином пятном, стали единым. От запаха яблочного сока и ладана, голова и так кругом, а теперь и совсем невмоготу. Фёдор испуганно поискал взглядом любую богородичную икону. Неужто матушка-Богородица да не поймёт?
–Буди убо мне многогрешному теплый ко Христу предстатель и молитвенник… Да и аз, от потопления греховнаго избавлен, ко пристанищу непорочнаго жития благодатию Христовою достигну28…Улита! – прошептал Фёдор, не выдержал. Тихая молитва оборвалась.
– Уля!
Прошептав, нырнул в тень от полукружья низко нависающего потолка. Так тихо прошептал, что пламя свечи, что таяла в горячих пальцах, не дрогнуло. А всё ж девушка обернулась. Услышала.
Сквозняк ли, ветерок, дым нашептали, ведьме рыжей?! Показалось на мгновение – белый царский кречет за спиной опустился! Да откуда же хищная птица сюда попадет? Помытчики в слободке умелые, такого не дозволят. Всего–то… Тонкий юношеский стан, золотым поясом поверх белоснежного одеяния перехваченный. Рукава белые – крылами! Не видно отсюда, а точно откуда-то знает, пальцы воском закапаны.
А, никакой не кречет! Всего-то кудри русые, что разметались по вороту. А отчего-то Улите дурно стало, точно также сердце застучало, как и у Фёдора. Память злая – сразу Старицу из дурноты подняла. Снег искристый вспомнился. Тот же стан гибкий, смешливость надменная. Щёки от мороза красные, как яблоки что сейчас на освящение принесли. Тяжело дышали тогда, по снегам-то пробираться – пар изо рта валил… Звёзд на небе, ох… к ягодному году. Так и вышло. Но как лето наступило, Улита меньше всех остальных девушек ягод собрала. Всё не о том думала. Сестры смеялись, Евдокия, душа добрая сочувственно головой качала. Правды всей не знала, но понимала всё. Дочка князя, сама влюбленными глазами, на юношу посматривающая, всё Ульку пытала, да ничего не выпытала!
Сдержалась Улита, волнения не выказала. Отвернулась, ничем размеренный ход праздничной службы не нарушив. Фёдор едва в кровь губы не искусал. Себя последними словами обругал. Знал ведь – будет душу ведьма эта, из него тянуть. Слепил комочек из воска, повертелся, но не найдя успокоения ни в чём, сунул руку в калиту дорожную. Нащупал там безделицу, что для сегодняшней встречи заготовил.
Несколько минут ещё, пока Фёдор переминался с ноги на ногу, ничего не происходило. Улита усиленно молилась позади княжеского семейства и лишь когда заволновалась толпа людская, сделала несколько шагов назад, чтобы незаметно для своих, проскользнуть за людскими спинами. Задрожало красное кармазиновое пятно, волнами пошло, точно это волны огненного озера. Явилась меж Фёдором и образом Страшного Суда.
Запахло нестерпимо мягкой полевой травой.
Не сдержавшись, коснулся Фёдор красного рукава. Но мало показалось. К руке прикоснулся.
–Что за молитву читаешь? – прошептал он.
– Не знаю я, что и кому читать, чтобы защититься. Нам двоим читать от мыслей похотных надобно!
Фёдор глупо улыбнулся.
– Неужто у нас мысли с тобой одни и те же, ясочка? Не смотря на сердитость твою!
– Глупости! – фыркнула Улита.
–Ну, а чего отозвалась, раз я такой негодный? Скажи лучше, получила грамотку мою с человеком? Али так, случайно встретились, Господь не оставил меня в тоске-кручине?
–Господу делать нечего таким причудам покатать. Полно Фёдор Алексеевич, как шелова29 себя вести – тихо и ворчливо промолвила Улита, ничем не выдав кручину собственную. Лишь по глазам догадаться можно было, что радость от встречи, надменно скрывает.
Попыталась руку отнять, да Фёдор ухватил, сжал крепко – как своё сжимают. Пальцы Улиты зимой горячими были. А сейчас наоборот – прохладными. Нестерпимо захотелось, чтобы такими пальцами прямо сейчас ко лбу его прикоснулась, жар уняла.
– В храме мы, в святом месте! И я не девка корчмарская, хотя ты с моими благодетелями, а почитай семьей моей, и того хуже поступил. Получила я… весточку. Человек три дня и три ночи под моими окнами кружил, спасения от него как черта, не было – Улита перекрестилась, – Ни мне, ни девушкам нашим. Караулил окаянный, сколь ни тулилась30, проходу не давал. Вижу теперь, что правду зимой сказал, что из-под земли меня достанешь.
Улита наклонила голову, с опаской повернулась к Фёдору. Тот завороженно глядел, как орлики в ушах над белой шеей покачиваются. Улита, вспыхнув, поправила плат, отвернулась.
–Увидят нас вместе, тебе худо будет в первую очередь – заговорила девушка жалобно, точь из последних сил, точь сама через себя переступала – Вон, Алексей Данилович у двери. Вон дружок твой…Востроглазый. Смотрит, смеётся. Вечно он смеётся. Мне-то что? Столько в нашем доме за всеми слушали. Мы нынче точь прокаженные! День прожили, молимся. Слава Богу, живы. Утром встаем, молимся с благодарностью, что ночь пережили, что никто в наш дом ночью не постучался…
– Все так живут – пожал плечами Фёдор – Скажи лучше…неужто не рада встрече? Не верю тебе.
Басманов свечу поднял так, чтоб свет упал на медовую рыжеватую косу.
– Чему мне радоваться, Фёдор Алексеевич? Сразу я поняла, зачем ты в дом наш приехал. По глупости, помогала даже. Зачем? Почему? Сама себе ответить не могу. Наверное, потому что поверила, что всё, что творишь ты – правильно и богоугодно. Ибо волей государевой или для него. Надеялась, наверное, что не выйдет притки большой31
– Чего же ты князю не пожаловалась, ежели такая смышлёная? Али сразу этой… – Фёдор кивнул в сторону Ефросиньи – А? Травить меня хотели, а не дотравили. А ведь ты ж могла!
– Могла – эхом отозвалась Улита.
– Ну вот! Казалось мне, что вырваться из болота своего хочешь, на волю-вольную, от благодетельницы своей! Что, спина-то зажила после порки? – ухмыльнулся Фёдор – Матушка-заступница – передразнил он – Пойми вас, девок! А твоя беда, Улька, в том, что думаешь слишком много. Хотя это не дело бабское. Сидела бы за пяльцами своими!
–Сидела бы я за пяльцами – вскинулась девушка – Ты бы в сторону мою и не посмотрел!
Друг на друга поглядели. Точь два озера, серое и голубое, в непогоду из берегов вышли.
– Благодарить ещё меня будешь – зашептал Фёдор – Как можно с изменниками царскими путаться?! Не надо литовцев у себя принимать и бояр беглых. Что я, про увиденное молчать должен был? Я и так, сделал что мог. Кое о чём умолчал, дабы по тебе, дуре не ударило!
–Мне до того, с кем Ефросинья и Владимир Андреевич шепчутся, кого у себя привечают, дела нет!
– А дорожку по ночам гостям кто освещал?
– Что теперь от меня хочешь? – устало перебила Улита.
Юноша пошарился в калите, что-то достал и протянул девушке, сунул почти в руку. Едва Улита ладошку приоткрыла, увидела, как блестят одинцы золотые, сердоликом да венисом украшенные. Глазки загорелись, сразу в головке мысли появились о том, как чудно смотреться будет с лучшими нарядами, еще не надёванными! Но недолго этот блеск, являющийся залогом примирения, грел сердце Фёдора. Быстро глазки затянулись холодком.
– Возьми подарочек. Как обещал. Думал о тебе. Кто ж знал, свидимся ли? Но надеялся. Руку жжёт, словно горсть углей держу. Бери, давай! Эх, Улечка, помоги мне грешному! Мою тоску-кручину-то развеять, дело плёвое! Разочек на твоём плече уснуть, так и от бахмура моего, от недуга зельного32 и следа не останется! Веришь ли, ясочка? Разве не тому Господь учит, что ближнему помогать надо? Разве я не ближний? Тот самый, что в помощи нуждается! Нуждаюсь, ей-Богу! Поможешь ли, душа твоя добрая? Не бросишь в беде, меня горемычного?
Щеки Улиты покраснели.
– Перестань! Слушать соромно! Мою семью чуть не сгубил, а нынче думаешь одинцами откупиться?!
– Дура! – рассердился Фёдор.
– Не возьму – Улита попыталась сунуть серьги обратно юноше – И от меня отойди! А то прямо здесь…
– Что здесь? Закричишь?
Фёдор, окончательно забывшись, придвинулся к Улите, ягливо33 коснувшись бедра, прошептал на ухо грубо, самоуверенно:
– Не закричишь, соромно! Кто ж на службе – то в храме кричит? Полоумный только! Да и кто царскому человеку поперек встанет? Заступники твои малахольные? – юноша кивнул в сторону Старицких – Им, заступникам твоим, всем угодникам молиться без устали, чтобы заступничества для себя найти! Они ли на Басманова гавкнуть посмеют?
– Рано, Фёдор, власть свою показываешь!
–Когда иная власть у меня будет, батюшкиной равная, а то и более, я тебя спрашивать не стану…
–Тише, Фёдор Алексеевич, тише – чуть ли, не плача зашептала Улита, пытаясь от рук его увернуться.
–Что хочу, то возьму!
–На этом ли свете?
– На любом! Уж не знаю, сколько их?! А, сколько бы ни было!
– Побойся Бога, Фёдор Алексеевич! – девушка обернулась. Но испуганный голос заглушило высокое праздничное пение. Никто на них не смотрел. Подружки-мастерицы, полукругом встали, загородив от Старицкой всё, что творилось позади. А другим и дела нет.
–Эх, блазная! Сил никаких нет – прошептал Фёдор на ухо, так что волосы у виска дрогнули, – Соскучился по тебя, ясочка, сил моих нет! Почитай с весны не видал тебя…Думал пройдет маята, как из Старицы уеду, днем и ночью молился, а ты перед глазами стоишь, коса твоя рыжая…
– Обоих нас погубишь – отчаянно зажмурилась Улита, – Но не про тебя, а про меня гулливая34 скажут!
–Ясочка, сам знаю – грешу! Стоять мне, грешному ни сегодня, так завтра в притворе! Ты виновата. Как тебя вижу, сам не свой.
–Подарок забери! Если он тебе руку жжёт, то мне тем паче. А повешу на себя, так бесы ночью тягать придут!
– Не заберу. От сердца, Улита!
– Мне от сердца твоего, Фёдор Алексеевич, ничего не надо!
Внезапно Фёдор переменился. Тем необычным образом, каким пугал знакомых и незнакомых людей, заставляя досадливо сплевывать, называя сына царского воеводы, то бесом, то гадёнышом полоумным. Перемены эти в Фёдоре происходили мгновенно, никогда беспричинно, но причин этих обычно никто не знал. Лицо, почти девичье, с чертами упрямыми, но мягкими, мягкость свою фресочную теряло, словно изнутри прорывалось что-то темное, злое.
Фёдор цепко схватил Улиту, и грубо потянул к ризнице с такой силой, что тут уже не откажешь. Втолкнул в самое темное место, дунул на свечу, загасил. Продолжая болезненно сжимать локоть Улиты рукой, привыкшей и к рукояти сабли и к поводьям, но не привыкшей ещё силу соизмерять, зашептал:
–Не верещи заполошно, терпеть не могу, воя бабского. Думаешь, пришел я к тебе пустое суторить? Слабость свою тебе, насмешнице показывать? Много о себе возомнила! Сюда слушай! Упредить тебя хочу, а времени мало. Ты мою шкуру дважды спасла. И я тебя, тоже губить, не намерен. И не подумай, что из человеколюбия – усмехнулся Фёдор, наклонившись к самому лицу так, что девку дыханием его обожгло. Задул и ту свечу, что в дрожащей руке сжимала Улита. Вокруг ещё темнее стало. Золотой поток огоньков впереди течёт, будто мимо темноты полукруглой. Лишь Споручница впереди, да отсветы красные Учительных икон. Точно ночка на землю ухнула. Лишь глаза, горящие перед Фёдором. Глаза, которые в ад ночи молодецкие превратили.
– Для себя тебя берегу. Ясно? Слушай и не перебивай. Юлил твой Володимир Андреевич, так и сяк, да в этот раз не свезло. Не его нынче время, не помогают святые угодники. Шибко дьяк ваш, Савлук, обиделся. Его за то осудить сложно. Не каждый день тебя убивать приходят. Еще один человечек нашелся, что решил супротив Старицких слово свое сказать. Имени не скажу, не проси – упредил Фёдор, заметив, как в испуганном взгляде, промелькнуло любопытство – Нечего с больной головы валить на здоровую. Я всего лишь службу свою нес, светлым князем мне порученную. Да и служба-то невеликая, если по совести. В бедах ваших, беглеца Хлызнева, что во время осады Полоцка на сторону вражью переметнулся. А не меня. Нынче всё решено… – чуть мягче заговорил Басманов, заметив самодовольно, что Улита, вырываться перестала. Обмякла, подрагивает, но слушает внимательно. Ума у девки на троих хватит. Если выслушает, всё как надо разумеет.
– Ефросинью Андреевну постричь хотят в Горицкую обитель вологодскую. Ежели моё мнение знать хочешь, то милостиво с ней поступают. Не будет сильно артачиться и не учинит зла напоследок, разрешат слуг взять и на богомолья отлучаться никто воспрещать не станет. Государь сердит, но и хуже бывало. Вмешался митрополит Макарий. Всё лето из слободы да в слободу! Старался раздор в семье государевой погасить. На том и порешили. Владимира Андреевича к суду призовут больше для острастки. А так, меной земель всё обойдётся. Уж больно воин хороший. С этим даже батюшка не спорит. Когда потребовалось, он сам встал и слово молвил, об отваге князя сказав.
–Зачем мне это всё знать? Что изменится?– тихо спросила Улита, на Фёдора глядя безотрывно. Юноша доволен остался. Гадал только, дергаться девка из страха перестала, али…согрелась всё ж в его хищных лапах, точь птица, которую вабишь. Не ручная ещё, но уже и не дикая.
– Говорю я тебе всё это, чтоб сама в боготь35 этот не попала. От судьбы не уйдёшь, но зачем голову в медвежью берлогу совать, коли обойти можно? Тебе за них отвечать не нужно. Ты – не Старицкая.
–Чем судьба моя дороже?
–Не чем, а кому. Успеешь ещё норов свой показать – усмехнулся Фёдор – Там, где это не грешно. Али грешно, но дюже сладко. Тогда и посмотрим, везде ли он таков – юноша улыбнулся мечтательно, ласково. Улиту дрожью гневливой объяло с ног до головы, едва зубками не клацнула, точь лиса дикая.
– Э-эх, ты, чаровница! Ясочка! Свет мой невечерний!36 Как есть, правду говорят – ведьма! Да я и сам знаю…
Девушка отстранилась, но не грубо. В задумчивость впала. Её теперь больше занимал смысл услышанного, нежели речи похабные.
–Всё?
– Нет. Попросись к Владимиру Андреевичу – продолжил шептать Фёдор, касаясь пальцев девичьих, что держали подарочек и погасшую свечу – Что хочешь, делай, но сделай. Хочешь в услужение, хочешь на коленях моли, реви, в ножки падай. Вы, девки, это умеете! Любит он тебя, знаю. Ещё в Старице понял. И не поверю никак, что любовью отцовской. Добрый – добрый, а брат наш такой, что…
– По себе не мерь!
– Помолчи! Потом разберемся. Просись, говорю, к Владимиру. Он не откажет. Да и супруга его к тебе расположеньице имеет. С Владимиром Андреевичем спокойнее будет, только если опять в дурное что не попадёт. А будет мать его далёко – не попадёт. Старицкое имение отберут, наместника царского в Старицу назначат. Зато другие земли дадут и вернут двор в кремнике. Будем видеться часто – шепча, Фёдор наклонился к шее так близко, что Улите страшно стало.
Одна только мысль о ничтожном расстоянии от собственного московского терема до двора Старицких Фёдора внутри обожгла. Едва удержался от того, чтобы шею не поцеловать в том месте, где плат немного сполз.
– Слуг и свиту не тронут – с трудом разжимая губы, проговорил юноша, пытаясь вглядываться в темный лик Спасителя – Про родичей всех тоже сказа нет. При князе останешься. А там, придумаю, что для тебя ещё сделать можно…
Улита гордо рыжую косицу на грудь перекинула. Вот бы растрепать ещё больше! Властно, как лихой злой разбойник может. Отыграться за каждую бабскую издевку, за холодность, за каждый час, проведённый в мучения. Заслужила девка самых страшных мук и наказаний! Растрепать косу, расшвырять по доннику, по чине луговой, чтобы потом долго рядом лежать, выплетать из волос сиреневатые мелкие цветочки.
– С чего взял ты, Фёдор Алексеевич, что мне милость и помощь нужны? Мне за благодетелями моими в суводь37 дорога! Откуда они сироту вытащили, в беде не оставили. Коли погибать, вместе. Особливо, после того что именно я, в сердце свое их погубителя впустила! Свою шкуру спасти, первой и последней грешницей стать? А потом что? Как Иуда на осинке повеситься?!
Речь возмущенной вышла, но голос прозвучал слабо. Ликовал Фёдор. Понял он давно всё. Знал, что говорить и на что давить. Жизнь в Улите по венам кровушкой горячей течёт. Жизни в ней, как и разума на троих хватит. Упрямства ещё больше. Гулливой до сих пор стала, лишь потому, что сам не тронул, милость проявил более на службе, чем от порядочности. Ну, и пожалел пока. Для самого себя оставил. А страшнее монашеского ничего для этой девки нет. Лучше вены перегрызёт зубами, чем постричь себя даст. Нынче стоит и врёт! Вид смиренницы приняла, лукавая. Сама уши навострила, каждое слово его ловит, смотрит блазно.
– Грешницей стать разные способы есть – хмыкнул Фёдор, не отрывая взгляда от огневой косицы, – Есть и такие способы, которые тебе по душе будут, головой ручаюсь. Хоть своей, хоть чьей! А дурь эту брось! – у юноши потемнело в глазах от негодования. Точно загасили не две, а все свечи в храме. Едва Улита представилась в монашеских одеяниях.
–Погибнуть успеем ещё. Вот убьют меня на сече с татарскими нехристями, тогда и пойдёшь в монашки. Будь воля моя, я бы царских охальников и христопродавцев вроде Курбского вашего, живьем закапывал! Так далеко, чтобы несколько столетий никто не сыскал! Чтобы собака на могилу помочиться, и та не пришла. Самая сука распаршивая. Пожри их огонь проклятый. Но государя милость границ не знает – Фёдор широко перекрестился ,– Храни Господь государя, а ты, за здравьице его помолись! Поняла? Лучше скажи, что в инокини, что так рвешься? – не без ехидства поинтересовался Басманов, – С чего вдруг? Куда угодно? Так от меня поганого спрятаться хочешь?!
–Полно – смутилась Улита, не поняв, что юноша просто дразнит.
–В монастырь собралась – с ехидством победителя проговорил Басманов, прижимая к себе ослабевшую добычу – На себя бы поглядела, прежде чем меня упрекать. В храм и то… разоделась, как на Сырную неделю! Эх, щёки твои румяные до сих пор как вспомню, спать не могу. Костры до неба, а над кострами – Иерусалим-дорога! Весело было! А сейчас? Для меня принарядилась? Лучшее, поди? Ни тётке, ни крестному не пожаловалась? Защиты не попросила, смолчала! С твоими очами блазными, только по монастырям таскаться! Что делать тебе там, в сырых стенах?
–Богохульник! – наконец по-настоящему рассердилась Улита – Ветер-кубра! И себя и меня погубишь, как бы потом несколько веком шатить не пришлось!
– Коли шатить, так вместе, вдвоем – прижавшись к телу горячему, зашептал Басманов – Грех-то такой Улечка, одному не дается! На двоих. Углядел твоё платье красное среди всех, думаешь, через пять веков не угляжу, не найду, спрячешься от меня?! Как дерево одинокое для грозы стоишь, посередь полюшка. Так дай, я под это деревцо присяду, пусть молния в обоих ударит. Коль сгорим вместе, то и не жалко! Ежели б не храм! Пред Господом не стыдно! В помыслах моих обиды для тебя, поругания нет и быть не может! Любовь моя честная! Людей уж больно много – сжал её локоть Фёдор – А то прям тут, норов бы твой проверил! Не смотрит ты так, бесстыдная! А когда злишься, так нет тебя лепше, рыжая!
–Фёдор Алексеевич! Не меня… собственную душу пожалей, Христа ради!
Оттолкнув Фёдора, с трудом сдерживающего молодецкий озорной хохот, девушка отскочила. Бросилась к Старицким, неаккуратно пролезая сквозь толпу.
Тут же Фёдора дверью ризницы стукнуло слегка. Монашек испуганный выглянул, но поймав недобрый взгляд, перекрестился и юркнул обратно.
За плечо тронул кто-то решительно. Юноша обернулся, готовый дать отпор наглому смельчаку, но увидел Афанасия.
–Что ты руками машешь, брат Фёдор? – проговорил тот насмешливо – Батюшка передать просил, что лучшего места для назидания, твой ангел-хранитель выбрать и не мог – Вяземский выразительно указал взглядом Учительную икону – Дабы поразмыслить над превратностями земной своей жизни и мытарствами посмертными. И напомнить велел про святейшего и мудрейшего Златоуста: блудники дорогой смерти сами идут, доколе стрела в печень не вонзится. Римляне блудников своих за воротами храма хоронили. Сам не знаю, не видел, но говорят без почестей. А дети блудников, нести за родителей будут грех. Семя ложа такого исчезнет, ужасным концом неправедного рода. У Златоуста, что-то ещё про свиней было, но я подзабыл. И батюшка тоже подзабыл. Сейчас вместе вспоминали, не вспомнили.
–Врёшь ты! – возмутился Фёдор, сердито тряхнув русыми кудрями, что упрямо ёршились от горячего липкого воздуха. Почувствовал испуганно, что щёки полыхнули. Отвернулся от Афанасия.
–Про свиней?
–Про то, что батюшка передать такое велел.
– Федька, дурная башка, угомонись ты! – уже по-простому заговорил князь – Охолонись, приди в себя. Глаза больные! Как звать маяту твою злокозненную? Не она ли? – Афанасий указал взглядом в сторону Улиты, что нынче понуро плелась за Евдокий в сторону выхода.