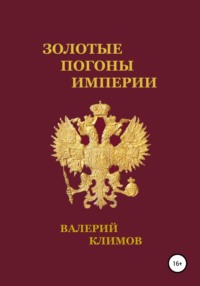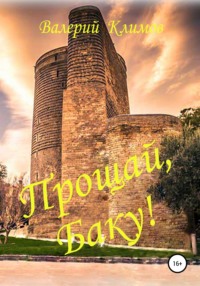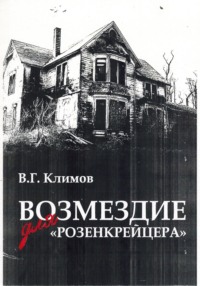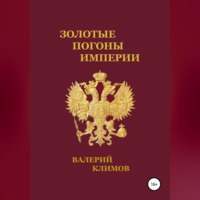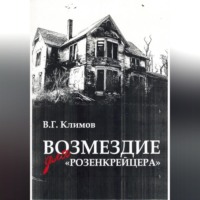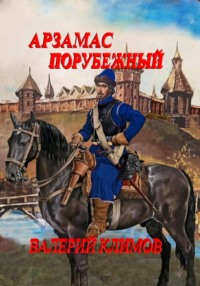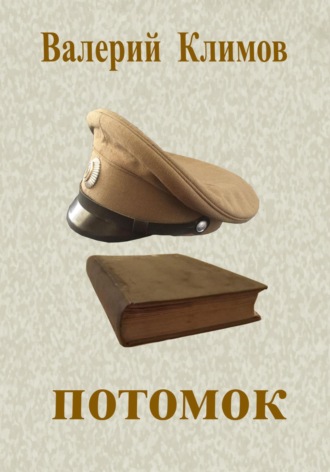
Полная версия
Потомок
Война, бесцеремонно вторгшись в мирное существование огромной страны, коснулась своим чёрным крылом десятков миллионов семей, в числе которых оказалась и семья Алексея Живова.
В первый же день после её объявления ушёл добровольцем на фронт его старший брат Гриша.
Учитывая его высшее образование, он был направлен на краткосрочные командирские курсы, после которых уже в офицерском звании попал в самое пекло ожесточённых боев. Первые месяцы от него ещё приходили редкие весточки, но в самом начале 1942 года связь с ним оборвалась.
Гриша пропал без вести (как позднее выяснилось, он был, тогда, ранен и попал в госпиталь, после которого вновь направился на фронт, где весной 1943 года вторично пропал без вести, и, на этот раз, уже окончательно – судя по всему, он погиб в мае того года при штурме знаменитого Крымского укрепрайона врага, располагавшегося впереди главного немецкого оборонительного рубежа на Кубани под названием «Голубая линия» и опоясывавшего станицу Крымская – ныне города Крымск) – и Алексей понял, что больше он его никогда не увидит…
Из писем родни Живов знал, что на фронт попал и его младший брат Костя, до последнего времени проживавший вместе с родителями в их родной Ольховке, куда те, после долгих мытарств и скитаний по Сибири, всё же вернулись перед самой войной.
Одного только Алексея, до поры – до времени, не призывали в действующую армию.
Виной тому была бронь, которая, в то время, полагалась в Баку основным работникам местных нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей отраслей, являвшихся стратегическими в обеспечении обороноспособности страны.
Сказать, при этом, что он рвался на фронт, было бы неправдой. Родившиеся в предвоенные годы у них с Лидой две дочки (Римма и Жанна) были ещё совсем крохами, и его отцовское сердце разрывалось от мысли, что их может ждать безотцовщина в таком юном возрасте в случае его гибели на фронте.
Но и от армии Алексей не увиливал. В их роду давно бытовал такой принцип: «Сам в охотники (добровольцы) не рвись, но и смерти не боись, а попал в неравный бой – погибай, но насмерть стой». Вот, Гриша нарушил этот семейный девиз и… погиб (что стоит за словами «пропал без вести», к тому времени, все уже знали достаточно хорошо). Поэтому, когда Алексей, всё-таки, получил повестку из военкомата, он принял это как должное.
1942 год. Отправка на фронт.
17 июня 1942 года Алексей Живов был призван в РККА (Рабоче-крестьянскую красную армию) Орджоникидзевским РВК города Баку Азербайджанской ССР.
Ускоренный курс молодого бойца он проходил в учебной части в Приуралье, в которой вновь призванных на службу солдат, в прямом смысле, морили голодом и, при этом, до изнеможения мучили изнуряющей физподготовкой.
Жирный нерусский майор, являвшийся командиром их части, видимо, был из местных, потому что к нему каждый вечер, почти не таясь, приходили его многочисленные родственники и сумками уносили продукты, предназначенные для солдат. Не отставали, в этом, от него (только в более скромных размерах) и некоторые ротные командиры, кстати, тоже из местных.
Результатом этого стала смерть сразу нескольких солдат, не выдержавших «ритма жизни» данной части.
К удивлению Алексея и других новоявленных красноармейцев никакого серьёзного разбирательства по этому поводу не было.
Умерших буднично похоронили, а приехавший извне «разбиратель» уехал из части с тяжело нагруженными сумками.
Алексея и его товарищей по учебной роте спасало то, что один из бойцов нечаянно обнаружил в полукилометре от их части полуразрушенный сарай с достаточно большим количеством кормовой свеклы, и теперь каждую ночь, по очереди, небольшая группа солдат их роты уходила туда за «провиантом» для себя и своих товарищей.
После их возвращения все быстро разбирали принесённую свеклу и усердно грызли ослабевшими зубами эти слегка промёрзшие овощи, дающие им силы продержаться следующие сутки, в обеденном рационе которых их вновь ожидала лишь «пустая» вода с какой-то травой, скромно называемая руководством «солдатским супом».
Соседней роте повезло больше. Их «ротный» продукты не воровал, солдат понапрасну не гонял и, судя по всему, действительно, был порядочным человеком, за что, впрочем, находился в явной немилости у тучного майора.
В один из дней этого кажущегося нескончаемым курса молодого бойца, на очередном занятии по физподготовке, Алексей неудачно оступился и подвернул ногу, и как назло, именно после этого, их занятие посетил редко появляющийся на подобных мероприятиях майор.
Он сразу же накричал на прихрамывавшего и поэтому отставшего от остальных Живова, назвав его «симулянтом» и «плохим солдатом».
От захлестнувшей его обиды Алексей впервые потерял над собой контроль и, остановившись, демонстративно сел на пригорок, сказав, что никуда больше не побежит, так как подвернул ногу.
Жирный майор сначала долго нецензурно ругался, потом выхватил из кобуры свой пистолет и исступленно заорал, что застрелит его, если он немедленно не присоединится к пробегающим мимо него товарищам.
Но на Алексея, то ли от голода, то ли от сильной боли в уже ставшей опухать ноге, накатило какое-то безразличие к своей судьбе, и он, резко расстегнув ворот своей гимнастерки, совершенно спокойно произнёс:
– Стреляйте, товарищ майор! Стреляйте! Раз «слабо» – на фронт – в немцев пулять, так хоть, в тылу в своего стрельните! Одной смертью больше, одной – меньше, на вашем счету будет, не всё ли Вам равно?! А, товарищ майор?
Ошалевший майор, от неожиданности, не сразу нашёлся, что сказать, и лишь, по прошествии нескольких секунд, дал команду «ротному» доставить солдата Живова к фельдшеру, пообещав «разобраться» с ним позже.
Но выполнить своё обещание нечистый на руку командир не успел, так как уже на следующий день он был арестован.
Когда его сажали в автомобиль особистов, на него было страшно смотреть. Его толстые щёки разом опали, а помутневшие от страха глаза слезились и молили о пощаде. Но никому в части не было его жалко. Жаль было нескольких ящиков с тушёнкой, «конфискованных» особистами в его кабинете и увезённых ими в качестве «вещественных доказательств» его воровства.
В части появился новый командир, и солдаты в оставшийся срок их боевой подготовки впервые стали получать свою законную пайку.
По окончании курса молодого бойца Алексея и ещё нескольких солдат из их учебной части направили на курсы военных водителей.
Какими критериями руководствовались, при этом, производившие данный отбор офицеры, никто не знал, но этот поворот судьбы давал их «избранникам» ещё один временной промежуток тыловой жизни перед отправкой на передовую.
Успешно окончив вышеуказанные курсы, рядовой Живов совместно с другими новоявленными шоферами был отправлен на фронт.
В каком-то промежуточном палаточном лагере, где не менее сотни военных водителей были размещены перед их распределением в конкретные воинские части, в его судьбе чуть было не произошёл ещё один крутой поворот.
На утреннем построении всему личному составу, расположенному в данном лагере, было неожиданно объявлено о том, что большая часть присутствующих будет направлена в танковые части и переучена, там, на водителей танков.
Это сообщение прозвучало, как гром среди ясного неба. О том, насколько коротка жизнь танкистов, знали все, и поэтому в лагере моментально установилась угрюмая тишина.
Офицер из танковой части с небольшой возвышенности стал зачитывать список будущих танкистов, а солдаты, услышав свою фамилию, ёжились и, с горестным вздохом произнеся в ответ уставное: «Я», нехотя переходили во вновь образовавшееся за его спиной построение.
Первоначальный строй молодых шоферов, в котором находился и Живов, таял прямо на глазах.
Наконец, в нём остался лишь один Алексей, но в этот момент офицер закончил читать список и, даже не взглянув на него, дал команду своим новым подчинённым следовать за ним.
Колонна будущих танковых водителей молча двинулась с места, а Алексей, простояв в полной растерянности не менее минуты, нерешительно направился в сторону капитана, командовавшего в данном лагере со времени их вчерашнего прибытия.
Подойдя к нему на расстояние двух метров, он представился ему, как положено по уставу, и спросил разрешения обратиться.
Капитан разрешил, и Алексей доложил ему, что его фамилия не прозвучала в списке офицера-танкиста.
– Ну, и радуйся, – неожиданно прозвучало в ответ. – Теперь у тебя больше шансов остаться в живых появилось. И не ты один здесь остался. Ещё восемь человек, находящихся в наряде по лагерю, тоже не попали в тот список. Значит, такая ваша судьба, солдатики! Дуй, Живов, обратно в свою палатку и не высовывайся оттуда, пока танкисты вместе с «отобранными» отсюда не уедут. Сегодня ещё шоферов пригонят и вас вместе с ними перераспределят в ваши новые части. Давай, Живов, иди! Не маячь передо мной! Утомил…
Алексей всё в той же растерянности медленно отошёл от капитана и не спеша проследовал в свою палатку.
А к вечеру в их лагерь, действительно, прибыло несколько десятков молодых шоферов, и на следующий день он и ещё девять военных водителей, получив десять новеньких американских «студебеккеров» уже ехали своим ходом к фронту под командованием молоденького лейтенанта.
1943 год. Лето. Курская дуга. Центральный фронт.
По просёлочной дороге, проложенной вдоль опушки густого хвойного леса, ревя моторами, шла большая колонна русских военных грузовиков, перевозивших менявший свою дислокацию пехотный батальон.
В середине данной колонны на своём «студебеккере» ехал уже давно адаптировавшийся к фронтовой жизни Алексей Живов.
Он уверенно держал дистанцию до ехавшей впереди него машины, которую вёл его новый фронтовой друг – одессит Жорка, и успешно преодолевал все ухабы на своём пути.
Они подружились с первых же минут своего знакомства и, с тех пор, всегда старались держаться вместе.
Вот, и в этот раз их машины следовали одна за другой.
Накануне у них произошла случайная вечерняя встреча с незнакомым старшиной в потёртой гимнастёрке около старенькой церкви в центре села, в котором уже вторую ночь подряд приходилось ночевать шоферам их части.
Немолодой пехотинец рассказал им, что ровно семь дней назад он со своей частью тоже стоял в этом селе. Как раз тогда вновь открылась эта церковь, и он был единственным, кто зашёл сюда помолиться Богу о своём спасении.
После этого, при наступлении, их батальон попал под плотный миномётный огонь, из которого живым и невредимым вышел только он один. Даже раненых было совсем немного…
Старшина замолчал, снял со своей головы пилотку, перекрестился и вошёл в церковь.
Алексей и Жорка, поражённые рассказанным, без колебаний последовали за ним и, поставив по свечке к иконам, робко простояли в церкви до окончания службы, изредка осеняя себя крестным знамением и тихо шепча молитвы, слегка позабытые ими за последние – «безбожные» – годы.
Вспомнив событие прошедшего вечера, Алексей машинально бросил взгляд на голубое небо и невольно перекрестился. С западной стороны на их автоколонну заходили для атаки немецкие самолёты.
– Воздух! – истошно закричали красноармейцы, сидящие в машинах, но было уже поздно…
Первые же бомбы накрыли передние и задние автомашины, которые, моментально превратившись в груды пылающего искорёженного металла, лишили колонну необходимой маневренности.
Командиры пехотных рот стали срочно уводить своих солдат в лесную чащу.
Впрочем, выпрыгивавшие из автомашин пехотинцы, и так, без всяких команд, подчиняясь лишь инстинкту самосохранения, в массовом порядке рванули с дороги в спасительный лес.
Остановив машину, хотел побежать за ними и Алексей, но, услышав, в последний момент, отчаянный крик Жорки: «Давай за мной!», бросился за другом в противоположную сторону от леса.
Отбежав метров на тридцать от дороги, они одновременно рухнули на землю лицом вниз и зажали ладонями себе уши, чтобы не слышать этот ужасающий «вой» моторов немецких бомбардировщиков, раз за разом «накатывавших» на их растерзанную колонну, и леденящий душу звук падающих бомб.
В один из таких «накатов» Алексей, не выдержав, повернулся на бок и взглянул вверх. И тут же его обуял парализующий волю смертельный страх.
Ему показалось, что все летящие с неба бомбы падают именно на него… и только на него…
Он моментально зажмурился и стал горячо шептать молитву: «Отче наш…».
Волны немецких воздушных атак «накатывались», одна за другой, в продолжение десяти минут, но Алексею представлялось, что бомбёжка длится уже несколько часов.
Наконец, сбросив весь свой бомбозапас, немцы улетели.
Алексей и Жорка, оглушённые и от этого немного дезориентированные, с трудом поднялись с земли и принялись медленно отряхиваться.
Лишь спустя несколько минут они окончательно пришли в себя и с ужасом стали осматривать остатки горящей автоколонны, от которой остались всего два относительно неповреждённых автомобиля, способных к передвижению. И это были… их «студебеккеры».
Вид горящих автомашин разом навёл на обоих друзей какую-то страшную – животную – тоску.
Но настоящий ужас их ждал ещё впереди – тогда, когда они перешли дорогу и заглянули в придорожную часть леса.
Там всюду раздавались крики и стоны раненых, а вокруг них, среди поваленных сосен и елей, многие из которых ещё продолжали гореть – трупы, трупы, трупы…
Алексею, по пути, попался молодой раненый солдат с его автомашины, верхняя часть тела которого, в районе поясницы, была развёрнута на сто восемьдесят градусов относительно своей нижней части.
Самым странным, однако, было то, что он, при этом, всё ещё оставался жив.
Солдат дико кричал от нестерпимой боли, но, увидев Алексея, замолчал и стал слёзно просить застрелить его, чтобы он больше не мучился.
Однако, преисполненный состраданием, Алексей категорически отказался это сделать, сказав, что не возьмёт такой грех на душу.
Вместо этого он вместе с Жоркой попытался вынести несчастного солдата к дороге, но тот, потеряв сознание, умер у них на руках…
Тем временем, редкие уцелевшие солдаты, выходившие из леса, следуя примеру Алексея и Жорки, стали выносить и выводить раненых к уцелевшим машинам.
Загрузив первой партией тяжелораненых свои пробитые осколками автомашины, Алексей и Жорка повезли их в ближайший медсанбат, сообщая всем встречным на своем пути о случившейся трагедии и прося их выслать туда машины за пострадавшими бойцами.
Лишь разгрузившись у медсанбата, они внимательно оглядели друг друга и, убедившись, что оба – целы и невредимы, разом перекрестились, вспомнив свои вчерашние молитвы в старой сельской церкви…
1944 год. Февраль. Ленинградский фронт.
«Студебеккер» Алексея Живова, возглавляя колонну своих автотранспортных собратьев, легко и непринуждённо «шёл» по шоссе, ведущему к небольшому эстонскому городку, в котором их недавно переброшенная на Ленинградский фронт автоколонна должна была присоединиться к своей новой танковой части.
В кузове его автомашины, как впрочем, и в кузовах остальных автомобилей их части, мирно покачиваясь в ритм движения грузовика, сидели «попутно подбрасываемые» артиллеристы.
На въезде в город его неожиданно обогнал на своём «студебеккере» неунывающий Жорка, хитро подмигнувший ему сквозь пыльное стекло кабины, и сидевший вместе с Алексеем командир артиллеристов, недовольно поморщившись, погрозил Жорке кулаком.
Живов же лишь улыбнулся и слегка притормозил, давая другу возможность беспрепятственно возглавить их автоколонну.
У них в части все знали про Жоркину страсть к эффектным въездам в населённые пункты, которые он, высунувшись из кабины, неизменно сопровождал искромётными одесскими шутками и «воздушными поцелуями» в адрес встреченных на пути девушек.
Из-за этого обгона Алексей не сразу заметил выбежавшего откуда-то сбоку молодого лейтенанта в каске, который что-то кричал и, при этом, отчаянно размахивал руками.
Жорка же не увидел его вовсе и на скорости влетел в город.
Дальше всё произошло очень быстро…
Из окна второго этажа ближайшего каменного дома по Жоркиному «студебеккеру» прицельно «ударил» вражеский пулемёт.
«Студебеккер» тут же повело в левую сторону, и через пару секунд он врезался в угол другого каменного дома, расположенного на противоположной стороне улицы.
Пулемёт, не уставая, «бил» по кабине Жоркиного «студебеккера» и по артиллерийскому расчёту, находившемуся в его кузове, не оставляя водителю и солдатам-артиллеристам ни единого шанса на спасение.
Используя получившуюся отсрочку стрельбы по нему и его бойцам в кузове, Алексей резко затормозил и, благо дистанция между его машиной и следующим за ней другим автомобилем была достаточно велика, судорожно дал задний ход.
В результате ему удалось, сбив чей-то лёгкий забор, завернуть свой «студебеккер» за какую-то постройку прежде, чем пулемёт «переключился» на него и сидевших в его машине артиллеристов, после чего все сидевшие у него кузове бойцы мигом покинули его «студебеккер» и, заняв оборону, стали отвечать редким огнём на неумолкающий пулемётный обстрел.
Тем временем, к ним пробрался молодой офицер, ранее пытавшийся остановить их колонну на въезде, и принялся возбуждённо кричать:
– Вы, что – с ума посходили? Вперёд танков город штурмуете?!
– А где наши танки? – недоумённо спросил у него командир, ранее ехавший в одной кабине с Живовым.
– Где, где… в Караганде! – зло «отрубил» молодой офицер. – Вот-вот должны подойти. Мы сами их ждём – не дождёмся, чтобы вслед за ними в город войти! Здесь, кстати, всю оборону «СС» держат. Бьются до последнего. Причём, разведка говорит, что «СС» тут – сплошь местные – эстонцы, какой-то батальон, специально натасканный немцами для карательных операций. Так что, терять им нечего, и в плен они сдаваться не будут.
Не успел он договорить, как на другой дороге, также ведущей к «Жоркиному» въезду в город, показались наши – русские – танки.
Они, моментально оценив обстановку, с ходу открыли огонь по обороняющимся «точкам» эсэсовцев и, рассредоточившись, сминая на своём пути все палисадники и лёгкие домашние постройки, вошли в город, минуя «пристрелянный» фашистами въезд.
За ними поднялась в атаку залёгшая, до поры, на подступах к городским строениям русская пехота, вместе с которыми, стреляя на ходу, побежал вперёд и Алексей.
Добежав до Жоркиного «студебеккера» и оказавшись за ним вне поля зрения вражеского пулемётчика, он с надеждой рванул водительскую дверцу кабины на себя, и… оттуда на него вывалилось обмякшее тело его друга.
Жорка был мёртв.
Изрешечённый несколькими пулемётными очередями, он не смог бы выжить ни при каких обстоятельствах.
Осознав это, Алексей медленно опустился на колени и бережно положил окровавленное тело друга возле его машины.
Затем он спокойно вышел из-за «студебеккера» и с винтовкой наперевес, молча, в одиночку, направился к дому, в котором всё ещё находился пулемётчик, убивший Жорку.
Сделав несколько небольших шагов, Алексей плавно перешёл на бег и с мгновенно охватившей его яростью вдруг стал исступленно «материться» в адрес этого эсэсовца и всех его ближайших родственников.
Пулемётчик, конечно, его не слышал (да, и услышал бы – ничего не понял из сказанного), но зато увидел сразу, как только тот появился из-за машины.
Поймав его бегущую фигуру в прорезь прицела своего пулемёта, эсэсовец сделал по нему пару коротких очередей, но тот, всё равно, продолжал бежать в его сторону как заговорённый.
Пулемётчик занервничал и постарался прицелиться потщательнее, но в этот момент по его окну удачно «попал» русский танк, шедший в атаку «вторым эшелоном», и пулемёт замолчал.
А Живов уже нёсся по лестнице, ведущей на второй этаж этого дома.
Он, буквально, влетел в наполненную дымом и гарью, разрушенную от взрыва танкового снаряда, комнату с единственной целью добить пулемётчика, если тот вдруг ещё будет жив, но стрелявший… был уже мёртв.
Опустошённый гибелью друга, Алексей молча присел на крыльце покинутого им дома и просидел так несколько минут, пока звуки боя, переместившегося в другой квартал, вновь не привлекли к себе его внимание.
Злость снова охватила Живова, и он, догнав ушедших вперёд пехотинцев, вместе с ними принялся «очищать» городские постройки от фашистов.
Впрочем, сломив их яростное сопротивление при входе в город, дальше русские солдаты уже не встречали сколько-нибудь серьёзных оборонительных действий.
Кидая оружие и меняя свою эсэсовскую форму на заранее припасённую гражданскую одежду, эсэсовцы пытались выдать себя за мирных эстонцев – жителей этого небольшого городка.
Так, когда Алексей и ещё несколько пехотинцев, к которым он «прибился» в пылу боя, попытались ворваться в большой дом, из окон которого только что вёлся автоматный огонь, его дверь неожиданно распахнулась, и на пороге перед ними предстал вполне мирный сорокалетний эстонец, с самым доброжелательным видом повторявший в их адрес: «Тэрэ, тэрэ!» («Здравствуйте, здравствуйте!» по-эстонски).
Оттолкнув его в коридор, бойцы «прочесали» весь дом, но, кроме пары трупов в эсэсовской форме около окон, никого не обнаружили.
Они уже хотели было уходить, когда Алексей обратил внимание на сапоги «мирного» эстонца.
Сапоги были немецкого военного образца.
– Тэрэ, тэрэ, а сапоги не успел поменять, сволочь? – озлобленно выкрикнул Алексей и ударил кулаком фашиста в лицо.
Тут же, за входной дверью, нашлась и эсэсовская форма эстонца, брошенная им второпях.
Его мгновенно выволокли во двор и хотели было пристрелить прямо здесь, у крыльца, но откуда-то появившийся молодой лейтенант, встретившийся Алексею с артиллеристами на въезде в город, запретил самосуд и велел отвести пленного в штаб.
Бойцы с неохотой согласились, но тут же обратились к лейтенанту с настойчивой просьбой поручить конвоирование этого пленного какому-то Ваньке.
Лейтенант усмехнулся, но не стал им возражать и громко позвал этого бойца по имени.
Моментально перед ним, как из-под земли, возник худенький солдатик маленького росточка с автоматом на груди, и Алексей с большим удивлением разглядел в нём четырнадцатилетнего мальчика.
– Иван! – по-взрослому обратился к нему лейтенант. – Поручаю тебе отконвоировать этого пленного эсэсовца в наш штаб. Только, давай, не как в прошлый раз! Хорошо? Ты меня понял, Иван? Ну, тогда, давай, веди его, боец!
Мальчик Ваня в солдатской, подогнанной специально для него, форме только молча кивал в такт лейтенантской тирады.
Затем он, взяв свой автомат наизготовку, с непроницаемым выражением лица повёл пленного куда-то на соседнюю улицу.
Алексей тревожным взглядом сопроводил маленькую тщедушную фигурку Вани и крепкую высокую фигуру эсэсовца и невольно спросил у пехотинцев:
– А вы не боитесь посылать мальчонку конвоировать этого верзилу?
Солдаты, как и их лейтенант, лишь загадочно усмехнулись и сказали, что не боятся.
Почти тут же, как только Ваня с эсэсовцем скрылись из вида, в их стороне раздалась короткая автоматная очередь, но лейтенант и солдаты, переглянувшись между собой, лишь вновь дружно усмехнулись.
Через минуту, с соседней улицы, возвратился Ваня.
Автомат у него был заброшен на плечо, а лицо, по-прежнему, ничего не выражало.
Только его глаза горели какой-то недетской ненавистью.
Подойдя к лейтенанту, Ваня по-военному чётко доложил о том, что пленный во время конвоирования попытался сбежать и был застрелен им при данной попытке.
В ответ лейтенант только махнул рукой и с нарочитой серьёзностью попенял мальчишке за самоуправство, однако, при этом, явно чувствовалось, что он, как и рядовые солдаты, нисколько не осуждает его за это.
Алексей не выдержал и тихонько расспросил ближайшего к нему солдата про этого загадочного подростка.
– Да, это – наш «сын полка». Мы его три месяца назад в сожжённой немцами деревне подобрали. У него на глазах «фрицы» всю его семью расстреляли. Ему одному тогда только и удалось спастись. Вот, с тех пор, он и «конвоирует» фашистов… на тот свет, – с какой-то потаённой гордостью и сочувствием к мальчишке ответил ему немолодой пехотинец.
Ещё до вечера город был полностью освобождён от врага, и Алексей вместе с остальными шоферами их части похоронил Жорку рядом с артиллеристами, погибшими в его машине…
1945 год. Весна. 3-й Украинский фронт. Румыния, Венгрия и Австрия.
Только что с боем была взята столица Австрии – город Вена, и 12 апреля 1945 года командованию 207-й Самоходной артиллерийской Ленинградской Краснознаменной ордена Суворова бригады от командира роты технического обеспечения капитана Мельяченко поступил наградной лист на шофёра его роты ефрейтора Живова Алексея Петровича, в котором последний представлялся к медали «За отвагу».
В наградном листе было отражено следующее краткое изложение личного боевого подвига Живова А.П.: