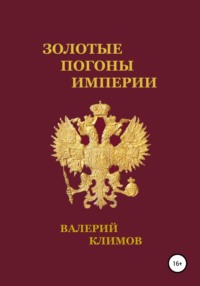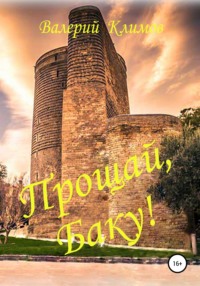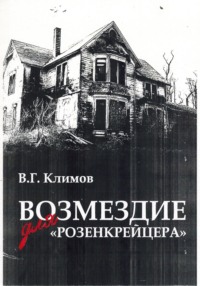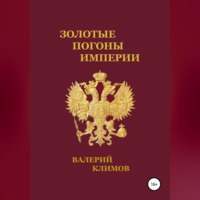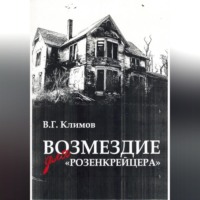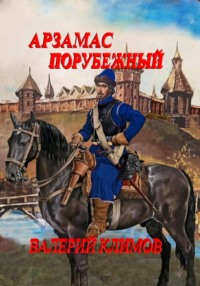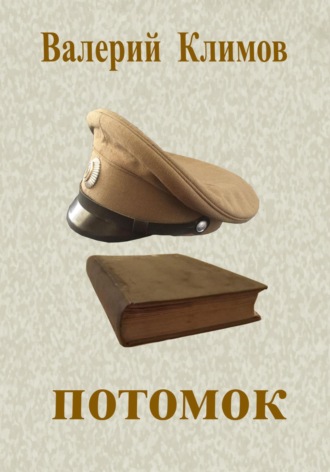
Полная версия
Потомок

Валерий Климов
Потомок
Климов Валерий Геннадьевич
« ПОТОМОК »
Автобиографический роман
Автобиографический роман – не исповедь и не скупая хроника жизни автора, а художественное отражение видимой вершины его «жизненного айсберга», свободно дрейфующего со множеством ему подобных в огромном океане человеческих судеб…
Валерий Климов
ПРОЛОГ
Поздним утром 17 августа 1914 года в съёмную комнату доходного дома на Фонтанке тихо вошёл молодой двадцатичетырёхлетний поручик с возбуждённо блестящими глазами на уставшем красивом лице и, наскоро оглядевшись, быстро направился к столу, на котором находились лишь металлическая перьевая ручка, стеклянная чернильница и маленькая стопка чистых листов бумаги.
Резко присев на единственный стул в этой комнате и поставив рядом с собой свой скромный офицерский чемоданчик, он оперативно достал из него и положил на стол небольшую книгу в шагреневом переплёте, размером, примерно, с ладонь и толщиной в два его пальца.
Судя по её названию и цифре «3» на корешке, это была третья книга из пятикнижного Полного собрания сочинений А.С. Пушкина, изданного в 1887 году в Санкт-Петербурге типографией Товарищества «Общественная польза» (состоявшего из десяти томов пушкинских произведений: по два тома в каждой из пяти книг) и являвшегося третьим изданием Ф. Павленкова под редакцией А. Скабичевского.
Тем временем офицер медленно извлёк из кармана своего поношенного военного кителя две купюры десятирублёвого достоинства, 1909 года выпуска, и, аккуратно сложив вдвое, осторожно поместил их между последних страниц вышеуказанной книги.
После этого поручик достал из чемоданчика иголку с тонкой ниткой бежевого цвета и бережно, по краям (по два маленьких стежка на каждую из трёх сторон), пришил друг к другу те две книжные страницы, между которыми были помещены вышеупомянутые купюры.
Вернув иголку с ниткой обратно в свой чемодан и взяв из стопки чистый лист бумаги, молодой офицер принялся очень быстро писать на нём нижеследующее послание:
«Здравствуй, Фёдор! Я задолжал нашему общему с тобой приятелю Ан-ву двадцать рублей. Собрал эту сумму только сейчас, однако в снимаемой им комнате его уже не застал. Оказывается, он ещё вчера убыл в свой полк, направляемый завтра на фронт. А ныне – ранним утром – и я получил предписание срочно прибыть с той же перспективой в мою артбатарею… Ты же, со своей частью, насколько я слышал, направляешься на передовую лишь на следующей неделе, и в связи с этим, у меня к тебе, мой друг, есть одна небольшая просьба. Поскольку ты среди нас троих, в данный момент – единственный петербуржец и семейный человек, отправляю тебе (а значит – и твоей прелестной супруге) на сохранение до возвращения с фронта главную свою ценность (остальные личные вещи распродал для погашения упомянутого мной долга) – мою любимую третью книгу из Пушкинских сочинений (с «Пов-ми Бел-на», «Дубров-м», «Капит-й дочкой» и т.д.). Если же мне суждено будет погибнуть на данной войне – передай, пожалуйста, её (вместе с этой запиской) Ан-ву или его прямым потомкам! И пусть, тогда, он (или они) ПОСТРАНИЧНО прочитает в ней концовку последнего произведения!».
Дописав последнюю строчку, он аккуратно поставил внизу данной записки текущую дату и свою длинную, но довольно простую подпись, в которой, несмотря на её конечную «завитушку», вполне чётко можно было рассмотреть фамилию «Соболев».
Затем поручик, сложив и поместив своё послание вовнутрь книги, срочно вызвал посыльного – шустрого мальчонку лет двенадцати – и, вручив ему авансом одну копейку, отправил последнего (вместе с «шагреневой» книжкой) по устно указанному им адресу.
После этого молодой офицер, посидев по традиции с минутку на стуле, резко поднялся с места и, взяв с собой чемоданчик, решительно покинул съёмную комнату своего приятеля.
И в этот миг никто (ни он сам, ни его друг, коему была направлена вышеуказанная книга, ни их общий приятель, которому он задолжал деньги) ещё не знал, что ни одному из них не было суждено вернуться живым с только что начавшейся «германской» войны…
ГЛАВА 1. Моё детство на нефтепромысловой окраине и
в криминальном районе города Баку
Родившись ранним утром 29 ноября 1960 года в непритязательном на вид роддоме крупного рабочего посёлка «Сабунчи», соседствующего со схожим с ним «по пейзажу» посёлком «Забрат1», входящем в состав Апшеронского нефтепромыслового района и находящемся на окраине широко раскинувшегося на берегу тёплого Каспийского моря древнего города-красавца Баку (на тот момент, столицы ещё советского Азербайджана), я первые шесть с половиной лет собственной жизни провёл вместе со своей семьёй в вышеуказанном «забратском» населённом пункте.
Небольшой дворик, вокруг которого (помимо принадлежавшего горсовету однокомнатного домика нашей семьи с пристроенной к нему крохотной кухней-прихожей, по крыше которой раскинул свои длинные ветви посаженный моим дедом рядом с её входной дверью виноградник) были расположены ещё несколько аналогичных (и весьма хлипких по своей конструкции) жилых строений наших соседей, находился примерно в двухстах метрах от Механического завода им. Кирова (одного из двух «забратских» заводов) и в каких-то пятидесяти-шестидесяти метрах от уже упомянутой нефтепромысловой зоны (с её нефтяными вышками и неприятными «ароматами» в воздухе), отгороженной, если так можно выразиться, от «жилых кварталов» здешнего рабочего люда одноколейным железнодорожным полотном, которое, практически, всегда было занято очередным стоящим или медленно движущимся по нему составом, перевозящим (по мере его загрузки) продукцию вышеуказанного завода по десятилетиями проторённому маршруту (через построенную ещё в первой четверти двадцатого века железнодорожную станцию «Забрат1»).
Низко расположенное окно нашего старенького домика выходило на узкий тротуар возле широкой асфальтированной дороги (проходящей через весь посёлок и ведущей из центра Баку до находящихся на побережье Апшеронского полуострова многочисленных пляжей и населённых пунктов Бакинской агломерации), которая после её очередного ремонта (прямо перед моим рождением) была основательно приподнята, в результате чего (во время особо сильных дождей – к счастью для нас довольно редких) сливавшаяся с неё бурным потоком дождевая вода, несмотря на предусмотрительно вырытые сливные канавки, сначала полностью заливала всю территорию до стены нашего жилища, а затем предательски проникала и в его единственную комнату, покрывая собой весь деревянный пол на двенадцатисантиметровую высоту, отчего я часами грустно сидел «с ногами» на своей кровати и с большой опаской наблюдал за тем, как мои дед, бабушка и мать, обутые в резиновые сапоги, привычно вычерпывают и выливают грязную жидкость из дома в небольшой палисадник, размещённый (сразу за входной дверью кухни) в противоположной от комнатного окна стороне.
С этим бедствием (к слову, общим для абсолютного большинства домов, расположенных вдоль нашей улицы) все местные жители (включая взрослых членов моей семьи) боролись как могли, но избавиться от него смогли лишь при их (в том числе, и нашем) будущем переезде (расселении) на новые места жительства.
Мои родители (также как и я) родились и выросли на этой же рабочей окраине Баку. Их семьи проживали в соседних «жилых кварталах» посёлка «Забрат1» (в частности, я – после своего появления на свет в «сабунчинском» роддоме – до исполнения мне шести с половиной лет жил вместе с моей матерью и её родителями – моими дедушкой и бабушкой Живовыми в уже упомянутом мной «милом» домике у автомобильной трассы).
Мой отец – Климов Геннадий Александрович – родился 29 мая 1937 года в семье служащих Климова Александра Ивановича и Климовой (в девичестве – Родионовой) Марии Фёдоровны – моих дедушки и бабушки по отцовской линии (вместе с ним в их семье росла ещё и его старшая сестра Ирина, 1935 г.р., которая, едва достигнув совершеннолетия, вышла замуж и, сменив девичью фамилию «Климова» на «Ишукова», переехала жить к своему мужу – Владимиру Ишукову, впоследствии – спустя десять лет после женитьбы – трагически погибшему в ДТП).
Окончив среднюю школу, он трудоустроился на уже упомянутый мной местный Механический завод им. Кирова (где, к тому моменту, трудился его отец – мой дед – Александр) и проработал там несколько лет вплоть до его призыва на срочную службу в ряды Советской Армии.
Отслужив в армии положенный срок, мой отец поступил в Азербайджанский институт нефти и химии и, получив по его окончании диплом о высшем образовании и квалификацию инженера, занял весьма престижную инженерно-техническую должность в Бакинской метростроительной организации, где и проработал до конца своей жизни (а умер он довольно рано – в пятьдесят четыре года – после сложной внутричерепной операции в одной из московских хирургических клиник в самом конце 1991 года и был похоронен на кладбище в «Забрат1» рядом с могилами своих родителей). И хотя особо больших карьерных высот в этом виде трудовой деятельности он не достиг – на работе его очень ценили и уважали.
Моя мать – Климова (в девичестве – Живова) Жанна Алексеевна (крещённая в церкви с именем «Евгения») – родилась 2 марта 1939 года в рабочей семье Живова Алексея Петровича и Живовой (в девичестве – Солдатовой) Лидии Ивановны – моих дедушки и бабушки по материнской линии (вместе с ней в их семье росла ещё и её старшая сестра Римма, 1934 г.р., которая, достигнув совершеннолетия и окончив местный медицинский институт, вышла замуж за советского офицера Николая Брежнева и уехала с ним жить в другой город).
Окончив среднюю школу, она сначала поступила в Бакинский статистический техникум, а затем (по завершению в нём своей учёбы) – и в Азербайджанский институт народного хозяйства, который окончила с дипломом о высшем образовании и квалификацией экономиста. Большую часть своей жизни (вплоть до её выхода на пенсию) моя мать проработала по полученной ею профессии в планово-экономическом отделе одного из военных заводов города Баку.
О качестве её трудовой деятельности говорят многочисленные грамоты, включая Почётную грамоту профильного союзного министерства (присланную ей из Москвы на заводской адрес). Умерла же она (после своей десятилетней «прикованности» из-за болезни к постели) в возрасте семидесяти восьми лет в городе Арзамас Нижегородской области в 2018 году (куда она переехала в 2000 году – спустя десять лет после переезда туда меня, моей жены и наших детей) и там же была похоронена на Троицком кладбище.
Так сложилось, что мои родители, едва успев пожениться (в 1959 году), вскоре развелись… и сделали это за пару месяцев до моего рождения (в 1960 году). Молодость и бытовые трудности (а жить им после свадьбы – так решил отец – пришлось вместе с его родителями в однокомнатной квартире на втором этаже построенного буквой «П» деревянного двухэтажного дома барачного типа) быстро довели их до развода, и моя мать (уже будучи беременной мной) решительно вернулась к своим родителям в их маленький домик у автомобильной трассы.
Впоследствии, мой отец неоднократно предлагал ей сойтись вновь, но она почему-то всякий раз отказывалась от его предложения.
Все последующие годы отец исправно платил ей небольшие алименты и изредка брал меня в дом своих родителей для родственного общения, но после достаточно ранней смерти последних и переезда в конце 1967 года из посёлка «Забрат1», как его самого, так и моей матери (вместе со мной и её родителями), на места нашего нового проживания в диаметрально противоположных районах полуторамиллионного города (особенно – после их вторых бракосочетаний с другими лицами), число его встреч со мной уменьшилось до одной–двух в год, при том, что никаких препятствий для его более частого общения со мной ни со стороны дедушки Алексея и бабушки Лиды, ни со стороны матери и её второго мужа Фомина Анатолия Павловича (1938 г.р.) – сварщика по профессии и талантливого музыканта по увлечению, умевшего играть на фортепиано, гитаре и духовых инструментах (впоследствии умершего в Баку в 1988 году в возрасте пятидесяти лет), не было, так как их взаимоотношения с моим отцом всегда были вполне доброжелательными, что, безусловно, не способствовало возникновению слишком большой привязанности к нему с моей стороны (хотя, справедливости ради, надо сказать, что и негативного чувства к отцу я также никогда не испытывал).
На сороковой день после своего рождения я, как и положено всем христианам, был крещён в небольшом Соборе Рождества Пресвятой Богородицы Ставропольско-Бакинской епархии Русской православной церкви (ныне именуемой Бакинско-Азербайджанской епархией), расположенном неподалёку от центрального железнодорожного вокзала города Баку.
Надо отметить, что все члены моей семьи, в которой я рос со дня своего рождения (а это: моя мама Жанна, дедушка Алексей и бабушка Лида), были искренне верующими православными христианами и с малых лет старательно, но ненавязчиво, приобщали меня к христианской вере, частенько беря меня с собой в храм и обучая главным православным молитвам.
Конечно, жизнь в атеистическом государстве (каким тогда был СССР) постоянно накладывала отрицательный отпечаток на отношение подрастающей молодёжи к религии, но, к счастью, в Баку это было не так ярко выражено из-за традиционного уважения местного населения, как к своим (мусульманским), так и к чужим (и, в первую очередь, христианским) религиозным обычаям. Поэтому ничто не мешало очень сплочённой семье Живовых воспитывать меня в исконно русских традициях.
И, надо сказать, удачно заложенный, тогда, в меня православно-христианский «фундамент», впоследствии, сыграл огромную положительную роль в становлении моей личности, на которое, в немалой степени (я так думаю), повлиял также и генетический «код» старинного казачьего рода Климовых.
В совокупности же именно эти факторы (я полагаю) и поспособствовали формированию у меня – обычного русского человека – столь ярко выраженного казачьего менталитета.
Я мало что помню об относительно коротком периоде своей жизни в многонациональном «забратском» дворике (к слову, там, нашими соседями, помимо таких же, как и мы сами, русских семей, были также армяне, азербайджанцы, татары, лезгины, курды, евреи и представители многих других национальностей).
Поэтому у меня в памяти остались лишь крайне разрозненные отрывки воспоминаний о моём детстве:
Вот я, совсем маленький, выхожу вместе с бабушкой Лидой (держащей в своём кармане, на всякий случай, «милицейский» свисток) встречать мою молодую маму с электрички, на которой та возвращается с работы из центра города (в то время она работала там в крупной статистической организации машинисткой и параллельно обучалась на вечернем факультете института), что бывало только тогда, когда дедушка Алексей работал в ночную смену.
В остальных же случаях мою мать выходил встречать именно он – мой любимый дед (успешно заменивший мне в психологическом и воспитательном плане отсутствовавшего рядом отца) – крепкий и смелый мужчина, рядом с которым никому и никогда не бывало страшно.
Местное хулиганьё хорошо знало моего деда и откровенно побаивалось его мощных кулаков, которыми он в считанные секунды мог раскидать сразу двух или трёх своих противников (чему неоднократно были свидетелями, как многие его знакомые, так и сами «забратские» хулиганы).
А вот я (в свои пять лет уже умевший читать, писать и играть в шахматы), прочитав в какой-то несуразной детской книжонке о том, что главная героиня данного произведения – маленькая девочка с мягко звучащим именем «Фенечка» – зовёт всех малолетних читателей к себе в гости, внезапно сбегаю вместе со своим ровесником Славиком – мальчишкой из соседской армянской семьи – на местную железнодорожную станцию, чтобы немедленно отправиться, оттуда, на ближайшей электричке в загадочный «Город», в котором (как я почему-то полагал) и живёт столь гостеприимная книжная Фенечка.
Однако «интереснейшее» приключение заканчивается, так толком и не начавшись.
Проморгавшие своих внуков бабушка Лида и бабушка Маринэ, прочитав предусмотрительно оставленную для них мной записку с коротким текстом: «мы пАехали к фенИчке» и применив наряду с неординарными сыскными способностями такие же незаурядные легкоатлетические навыки, нагнали нас на подступах к «забратской» станции и, ожидаемо применив к нам широко практиковавшиеся в то далёкое (и абсолютно не «ювенально-юстициальное») время методы воспитательного характера, оперативно вернули меня и Славика в родные пенаты.
Тогда-то впервые и прозвучало из уст прочитавшего вечером вышеупомянутую записку деда Алексея (иронично-уважительно оценившего сей эпистолярный жанр своего внука) пророческая фраза: «Да ты, у нас, оказывается, не только турист, но ещё и… писатель!».
Тем не менее, в «Городе» (так жители бакинских окраин с незапамятных времён называли исторический центр города Баку, впервые упомянутого в старинных манускриптах, датированных ещё 885-м годом нашей эры), я всё же вскоре побывал и, с тех пор, всегда с огромным удовольствием (сначала, со своими взрослыми родственниками, а потом – лет эдак, с двенадцати – в компании друзей-сверстников) выбирался на узенькие улочки древней крепости «Ичеришехер», взбирался по крутой внутренней лестнице на вершину знаменитой «Девичьей башни» (являвшейся, в своё время, самым большим зороастрийским храмом мира), поднимался на фуникулёре в расположенный на горе парк имени Кирова (ныне – Нагорный парк), из которого открывается захватывающая дух панорама всей старой части города и его красивейшей морской бухты с многокилометровым Приморским бульваром на её берегу, и посещал поражающую воображение архитектурную жемчужину этого бульвара – «Венецию» – комплекс искусственно сооружённых островков (на каждом из которых расположены разнообразные кафе и чайханы), соединённых между собой лёгкими ажурными мостиками, нависающими над не очень широкими водными каналами (по которым специальные моторные лодки, в постоянном режиме, катают многочисленных «венецианских» посетителей).
Ну, а теперь вновь вернёмся к моим детским воспоминаниям, одним из памятных, среди которых, было то, как я вместе с дедом моюсь в мужском отделении общественной «забратской» бани (вход в женское отделение, куда я ходил мыться вместе с мамой и бабушкой до своего трёхлетия, был, конечно, мне уже перекрыт) и восторженно наблюдаю за тем, как здоровенный и наглый мужик (весь в тюремных наколках), «доставший» всех моющихся своим неадекватным поведением и, вдобавок ко всему, по-хамски скинувший с банной лавки мою детскую мочалку, после моментально последовавшего от дедушки Алексея удара кулаком в область его лица, летит кувырком до входной двери и, открыв её своим «летящим» телом, позорно ретируется под хохот всего банного люда.
Другое моё памятное воспоминание о своём дошкольном детстве – покупка дедушкой Алексеем только недавно появившегося в свободной продаже чёрно-белого телевизора «Огонёк» (право на безочередное приобретение которого было предоставлено ему, как ветерану ВОВ и заслуженному нефтянику нефтяной промышленности Азербайджанской ССР), ставшего первым и единственным телевизионным приёмником на весь наш многонациональный двор (в связи с чем, к нам в дом каждый вечер стали «битком» набиваться соседи, желавшие посмотреть по нему новый художественный фильм или футбольный матч союзного чемпионата с участием нашей бакинской команды «Нефтяник»).
Конечно, в посёлке «Забрат1» был свой летний кинотеатр (зимой фильмы крутили в маленьком и очень душном зале местного Дома культуры), и я, к тому моменту, даже видел там несколько художественных фильмов (из которых, кстати, по-настоящему запали мне в душу только три: «Спартак», «Фантомас» и «Кавказская пленница»), но просмотры кинофильмов на большущей киноконцертной площадке и внутри своего маленького, но очень уютного, дома сопровождались столь разными ощущениями, что я всё равно был чрезвычайно рад дедовской покупке.
И, наконец, самое главное моё воспоминание о своём дошкольном детстве было связано с тем, как я в компании со своим неразлучным другом Славиком пытался пролезть под вагонами давно стоящего на железнодорожной колее гружёного состава, чтобы добраться до находящихся среди мазутных луж нефтяных вышек и вблизи поглядеть на работающие в режиме «вечного двигателя» типовые качалки нефти.
Мы бесстрашно нырнули под ближайший от нас вагон и… надо же было такому случиться, что именно в этот момент стоявший здесь более двух дней без движения железнодорожный состав неожиданно, с большим шумом, вздрогнул, и вагонные колёса медленно тронулись с места, застав нас прямо посередине рельсов.
Страх мгновенно парализовал меня и Славика, и, возможно, этот фактор, лишив нас привычной подвижности и вполне понятного в такой ситуации чувства внезапной паники, спас нам тогда наши только ещё начинающиеся жизни…
Вторым же определяющим моментом в нашем чудесном спасении послужила внезапная (длившаяся, буквально, несколько секунд) остановка движения состава (чья «голова» находилась за поворотом и не позволяла машинисту увидеть болтавшихся, до того, рядом с серединой его товарняка двух малолетних пацанов), во время которой мы пулей выскочили из-под вагона и, договорившись на бегу, никогда и никому об этом не рассказывать, с быстротой лани помчались в свой двор (кстати, данный договор не был нами нарушен до конца нашего пребывания в посёлке «Забрат1»).
Но получить в тот день своё «причитающееся» мне с ним всё же пришлось.
Увидев мою безнадёжно испачканную рубашку и содранный до крови локоть (последствия экстренной эвакуации из-под вагона), мать сначала применила ко мне всё те же вышеупомянутые методы воспитания, которыми поколениями пользовались все родители нашей страны, а затем, продезинфицировав и смазав целебной мазью рану на локте, наложила на неё бинтовую повязку и на три дня лишила меня права на прогулку.
Впрочем, уже на следующий день я получил прощение и, как ни в чём не бывало, вышел гулять в наш маленький дворик, где меня уже ждал также получивший заслуженное наказание от своих родителей за испачканную им одежду мой верный друг Славик…
В 1967 году моя семья вместе со мной переехала с «рабочей окраины» в расположенный на территории Шаумяновского (переименованного позднее в Низаминский) района столицы Азербайджана новый «спальный» микрорайон – посёлок «Восьмой километр», находящийся ровно в восьми километрах от исторического центра города Баку – туда, где моей матери организацией, в которой она тогда работала, была предоставлена двухкомнатная квартира со всеми удобствами на втором этаже одного из двух стоящих рядом одноподъездных девятиэтажных домов на улице Жданова (впоследствии – в 90-х годах – переименованной в улицу Мамедали Шарифли), метко прозванных местными острословами «свечками».
Кстати (согласно информации из Википедии), посёлок «Восьмой километр», до сих пор, является одним из самых криминальных районов столицы Азербайджана, в котором, в основном, проживают жители (или их потомки), переселённые сюда (в связи со сносом в середине 60-х годов трущоб и рабочих построек в центре старого Баку) из другой традиционно криминогенной части города (а именно – с хорошо известной ранее каждому бакинцу улицы «Советская» и прилегавшей к ней территории), отчего и поныне все дворовые банды и молодёжные группировки различной направленности из данного посёлка на специфическом бакинском сленге традиционно зовутся «восьмойскими».
Там – в этом микрорайоне – в далёком уже 1968 году я и пошёл в первый класс ближайшей от меня «русской» школы №229 («русскими» в Баку назывались школы, в которых обучение шло не на титульном – азербайджанском, а на русском языке).
Началась замечательная школьная пора…
В моём «А» классе (численностью более тридцати учеников) учились мальчишки и девчонки самых разных национальностей: русские, украинцы, белорусы, поляки, армяне, азербайджанцы, татары, лезгины, евреи, талыши, а также дети из так называемых «смешанных» семей (русско-азербайджанских, русско-армянских, азербайджано-армянских и т.п.), но, при этом, все они отлично владели русским языком и, конечно, специфическим бакинским сленгом (по уровню специфики бакинский жаргон сравним, пожалуй, лишь со знаменитым одесским лексиконом).
И со всеми ними я был в хороших, а порой, и по-настоящему дружеских, отношениях.
Одним из самых близких мне друзей, с первого школьного дня, стал мой невысокий и щуплый одноклассник – Виталий Пыршенков.
В начальных классах Виталий, поскольку его родители днём находились на работе, сразу после школы шёл вместе со мной ко мне домой и находился там ровно до семи часов вечера, пока те, возвращаясь, не забирали сына к себе.
Всё это время (до их прихода) мы проводили вместе: делали уроки, играли и обедали под бдительным присмотром лишь одной бабушки Лиды, так как не привыкший сидеть без дела дедушка Алексей, даже находясь на пенсии, нашёл себе работу по силам – устроился дежурным лифтёром в своей же «свечковой» девятиэтажке, а моя мать, уже работавшая, к тому моменту, на военном заводе, разрывалась «на два дома»: двухкомнатную квартиру, где жил я с бабушкой и дедушкой, и однокомнатную квартиру в посёлке «Сабунчи» (в полутора часах езды от нас), где обитал мой больной отчим (тяжело заболевший через семь лет после бракосочетания и так не избавившийся от этого тяжёлого недуга до конца своей относительно недолгой жизни).