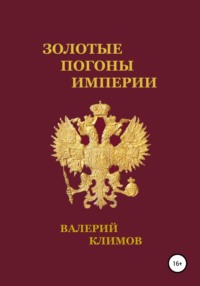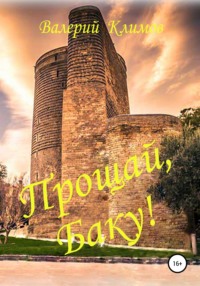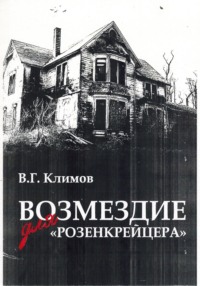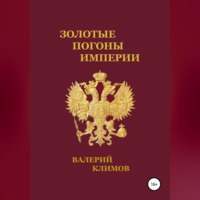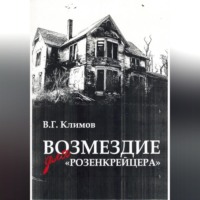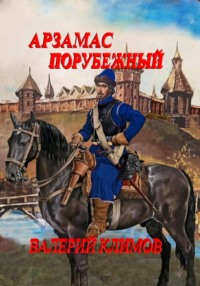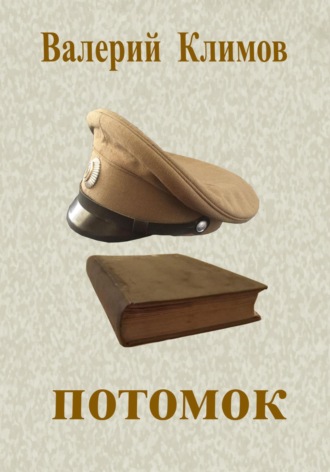
Полная версия
Потомок
Немного повзрослев, Виталий после школы стал один оставаться в своей квартире вплоть до прихода его родителей с работы. И теперь уже я стремился под разными предлогами улизнуть к нему из дома, чтобы беззаботно болтать там на самые различные темы и бесконечно строить грандиозные планы. Мы даже городские кружки посещали, до поры – до времени, одни и те же: шахматный, теннисный и фотографический. И лишь в четырнадцатилетнем возрасте наши личные интересы стали понемногу расходиться в разные стороны.
Пыршенков вместе с другим нашим одноклассником по-настоящему увлекся лёгкой атлетикой. И это увлечение оказалось достаточно серьёзным (оба они довольно быстро попали в молодёжную легкоатлетическую сборную Азербайджанской ССР).
Что же касается меня, то я в это время стал увлекаться игрой на семиструнной гитаре с сочинением собственных песен и занятиями в школьном оперативном отряде (или, как его ещё иногда называли, «отряде содействия милиции»). В этом небольшом отряде, руководителем которого был завуч нашей школы по воспитательной работе, я вместе с другими заинтересовавшимися данными занятиями старшеклассниками увлечённо обучался основам криминалистики, правоведения и рукопашного боя.
Помимо этих увлечений, мне, как одному из самых заметных школьных активистов и хорошему ученику (учившемуся на «отлично» без всяких репетиторов и какой-либо помощи домашних, которых я быстро «перерос» в своих учебных познаниях), приходилось частенько принимать участие в различных школьных, районных и городских олимпиадах по основным изучаемым предметам и разнообразных шахматных, теннисных и прочих спортивных турнирах, а также – в смотрах художественной самодеятельности и, конечно, собраниях комитета комсомола нашей школы (куда я входил вместе с ещё одним другом-одноклассником – Сергеем Морозовым, высоким парнем спортивного телосложения, перешедшим к нам из другой школы ещё во втором классе).
Сергей производил впечатление надёжного товарища, и мне с ним было также легко, как и с Виталием. Единственным мешавшим тогда нашему более частому и близкому общению фактором было то обстоятельство, что Морозов проживал весьма далеко от моего дома и школы.
Впрочем, начиная с девятого класса, я после учебных занятий проводил с ним и ещё одним моим другом-одноклассником Александром Саркисовым (перешедшим к нам из другой школы после восьмого класса) времени уже никак не меньше, чем ранее с Пыршенковым, так как, помимо комитета комсомола, Морозов входил также и в состав вышеуказанного школьного отряда содействия милиции, а Саркисов – в кружок художественной самодеятельности и секцию шахмат (которые, до поры – до времени, посещал и я).
Что же касается ещё одного общего для нас всех увлечения – футбола, то на нём, тогда, были, буквально, «помешаны» не только я и три моих близких друга, но и добрая половина всех остальных наших одноклассников, периодически «стиравших» в кровь свои коленки о каменистую поверхность утрамбованной «донЕльзя» школьной спортивной площадки во время ожесточённых футбольных «междусобойчиков»…
В 1970 году (в десятилетнем возрасте) мне пришлось перенести операцию по удалению гланд, из-за воспаления которых я частенько болел ангиной и, бывало, по неделям пропускал занятия в школе.
И тогда, на время, лучшим другом мне тут же становился мой дедушка Алексей, который, несмотря на своё, невесть какое «ценное», образование (а в детстве, в дореволюционный период, он, как и бабушка Лида, прошёл лишь трёхлетнее обучение в сельской церковно-приходской школе), был очень начитанным человеком.
Он за свою жизнь прочитал множество интереснейших книг и с удовольствием рассказывал мне их содержание. Дед был очень хорошим рассказчиком, и, благодаря ему (задолго до собственного прочтения рассказанных им книг), я весьма неплохо знал истории приключений большинства героев произведений Александра Пушкина, Михаила Лермонтова, Александра Дюма, Виктора Гюго, Вальтера Скотта, Роберта Стивенсона, Конана Дойля и Джека Лондона. Вполне возможно, что именно эти дедовские пересказы всемирно известных книг и стали, впоследствии, причиной моей любви к литературе, как таковой.
Тем временем частые воспаления гланд дали серьёзное осложнение на моё сердце, вследствие чего я вплоть до десятого класса страдал от «недостаточности митрального клапана» (так называлось это сердечное заболевание) и до выпускного десятого класса (когда вышеуказанное заболевание прошло) был полностью отстранён от уроков школьной физкультуры (впрочем, я, вопреки рекомендациям врачей и тайком от семьи, всё равно продолжал играть с друзьями по классу и двору в свой любимый футбол везде, где только это было возможно).
Операция по удалению моих гланд проходила тайно (и не бесплатно) «на дому» у знаменитого тогда на весь Баку профессора Полунова. Другому хирургу дед, бабушка и мать меня не доверили, а попасть именно к этому врачу людям «не из городской элиты» как то иначе было, практически, невозможно.
Прошла операция успешно, и спустя всего лишь несколько дней я вернулся к обычному ритму своей жизни.
Несомненно, данное событие довольно скоро стёрлось бы из моей памяти, если бы не одно обстоятельство: буквально, через несколько дней после него, «на дому» у Полунова, во время проведения тем следующей подпольной операции, умер очередной доверившийся ему пациент, вследствие чего совершивший врачебную ошибку профессор был немедленно арестован и вскоре осужден.
Узнав про смерть несчастного на врачебном кресле, в котором совсем недавно при схожих обстоятельствах располагался сам, я очень долго находился под негативным впечатлением от этого печального события…
В 1975 году, поскольку учёба в школе мне давалась очень легко, я начал, параллельно с ней, подрабатывать (по льготному графику для несовершеннолетних) сначала курьером в одной из местных газет, а затем и помощником библиотекаря в городском Дворце пионеров, где, как-то раз, произошло вначале моё короткое личное общение с известными лётчиками-космонавтами Береговым, Шаталовым и Севастьяновым (проводившими там же официальную встречу с бакинскими школьниками), причём последний решительно защитил меня от местных правоохранителей, рьяно пытавшихся помешать мне пробиться с фотоаппаратом к ним в момент их посадки в служебный автомобиль после окончания торжественного мероприятия, и при расставании даже ласково потрепал мой вихрастый затылок, а после – через непродолжительное время – и моё столь же короткое общение с приехавшим вместе с одним из своих боевых товарищей из Грузии в Баку на встречу с местными пионерами ветераном Великой Отечественной войны младшим сержантом Мелитоном Кантарией (который 30 апреля 1945 года совместно с сержантом Михаилом Егоровым водрузил над берлинским рейхстагом Знамя Победы).
Обе эти встречи закономерно произвели на меня колоссальное впечатление и отложились в моей памяти на всю оставшуюся жизнь…
Воспитанный дедом в духе мужественного отношения к любым превратностям судьбы я с детства привык давать сдачи своим обидчикам, что выгодно отличало меня от других отличников школы. А отвечать «по-бойцовски» приходилось довольно часто: то – хулиганам, беспричинно приставшим ко мне на улице, то – неуважительно отнёсшимся ко мне и моим близким друзьям старшеклассникам или ярым драчунам из параллельных классов, то – в случаях, когда возникала крайняя необходимость «привлечь к ответу» очередного самоуверенного наглеца.
При этом я, по своей натуре, всегда был крайне неконфликтным и компанейским пареньком и никогда не начинал драку первым.
В своём же классе, как, впрочем, и во дворе моего дома (а двор этот был общим сразу у трёх многоподъездных пятиэтажек и двух одноподъездных девятиэтажек – вышеупомянутых ранее «свечек») у меня вообще не было никаких проблем с одноклассниками и «однодворниками», так как: во-первых, «приблатнённая» взрослая молодёжь двора весьма уважала моего деда Алексея с его фронтовыми наградами, надеваемыми тем в преддверии ежегодного празднования Дня Победы при встречах ветеранов ВОВ с учениками школы (которую оканчивали, в своё время, и местные «блатняки»), работавшего лифтёром вместе с его сменщицей-азербайджанкой (чьи два взрослых сына, по очереди побывавшие в бакинских тюрьмах за кражи и грабежи, задавали тон в вышеуказанной молодёжной тусовке криминального оттенка), а во-вторых, на первом этаже дома, где я жил, проживал местный криминальный авторитет – так называемый «смотрящий» за своей, кстати, весьма значительной, частью густонаселённого посёлка «Восьмой километр» (также крайне уважительно относившийся к дедушке Алексею и всей нашей семье).
К слову, этот «смотрящий» (азербайджанец по национальности) был, действительно, очень крут и авторитетен в своём кругу. Сначала он «на раз» вычислил «обчистивших» квартиру над ним гастролёров-«домушников» и заставил их вернуть всё украденное потерпевшим (причём некоторые дворовые ребятишки случайно видели, как перед этим, на расположенном невдалеке пустыре, неудачливые воры на коленях вымаливали у него прощение за покушение на его «ареал обитания»), а позднее – руками своих подчинённых – ликвидировал «отморозка» из соседнего квартала, совершившего изнасилование местной девушки, чьи родители тотчас обратились к нему с просьбой покарать преступника (и кара не заставила себя долго ждать – обезображенный труп последнего был найден поутру после их обращения неподалёку от его дома).
С таким тылом «криминал» мне был не страшен, а справиться с обычным хулиганьём хватало собственных кулаков и кулаков ещё одного моего друга – Александра Леонтьева (дворового приятеля, по ряду объективных причин учившегося в соседней школе), с которым мы сошлись на почве любви к чтению и кино, общего восприятия юмора и схожего отношения к жизни…
Как-то раз (а точнее – в конце лета 1976 года) я совершенно случайно (можно даже сказать, от безделья) обратил свой взор на нашу семейную книжную этажерку, стоящую в дальнем углу зала (залом мы называли самую большую из двух комнат нашей квартиры), которая с незапамятных времён всегда была занята различными фотоальбомами, журналами и книгами (в том числе, религиозного содержания) из, так сказать, семейного архива дедушки Алексея и бабушки Лиды, и принялся медленно просматривать (а точнее – перелистывать) книжки с её самой нижней полки.
Надо сказать, что никогда ранее я не любопытничал по поводу содержимого данной этажерки, искренне считая, что там – в этой «архаике» – вряд ли найдётся что-то интересное для меня (имевшего, на тот момент, свою довольно большую «библиотеку» с классической и историко-приключенческой литературой, размещавшуюся в моём домашнем секретере), и поэтому был сильно удивлён, когда сразу же наткнулся там на небольшую старинную книгу в шагреневом переплёте (с номером «3» на корешке) из Полного собрания сочинений А.С. Пушкина, изданного в 1887 г. в Санкт-Петербурге типографией Товарищества «Общественная польза» и являющегося третьим изданием Ф. Павленкова под редакцией А. Скабичевского.
В эту книжку была вложена пожелтевшая от времени записка с просьбой какого-то Соболева (а, возможно, Соболевского или Соболевича – «завитушка» в конце подписи этого человека после фамилии «Соболев» могла, ведь, играть роль и сокращающего слово графического элемента) к его другу «Фёдору» сохранить на время войны (судя по дате подписания данного послания – 17 августа 1914 года – речь шла о I-й Мировой войне) данную книжку в своей семье и в случае его гибели передать её некому Ан-ву (или потомкам этого Ан-ва), которому он задолжал двадцать рублей.
Нетрудно было догадаться, для чего «Соболев» (при внимательном рассмотрении подписи в обнаруженной мной записке я пока остановился на этом варианте фамилии автора послания, как наиболее вероятном) рекомендовал «Ан-ву» (конечному адресату получения данной «шагреневой» книжки) «постранично» прочитать завершающие страницы сей старинной книги.
Последовав данной рекомендации, я осторожно перелистал её последние странички и тут же обнаружил между них две старые купюры десятирублёвого достоинства, 1909 года выпуска. Судя по всему, удерживавшие их там тонкие нитки бежевого цвета частично сгнили и больше не выполняли функцию тайного хранения данных денежных средств.
Со столь сенсационным открытием я, конечно, немедленно поспешил за разъяснением к своим дедушке и бабушке, однако в соседней комнате застал только одного деда Алексея (так как бабушка Лида, с его слов, куда-то отлучилась из нашей квартиры по хозяйственной надобности).
Выслушав моё взволнованное сообщение о находке и недоумённо повертев в своих руках «шагреневую» книжку и вынутые мной из неё записку и деньги, дедушка без малейшего сомнения заявил мне, что не помнит, как эта старинная книга попала в нашу семью.
– Дед, а кто такой Соболев, ты хотя бы знаешь? – спросил я у него.
– Нет! – уверенно ответил он.
– Ну, может, про Соболевского или Соболевича что-нибудь тогда слышал?
– Нет! Таких фамилий я даже никогда не слыхивал.
– Ладно! Ну, а упомянутого в записке мужчину с фамилией, начинающейся на буквы «Ан» и заканчивающейся на «в»? – не отставал я от него.
– Тоже нет! – устало промолвил дедушка Алексей. – Хотя, постой… был у меня один фронтовой товарищ по фамилии «Антонов». Василием звали. Он в нашей части после госпиталя оказался… прямо перед тем, как нас, после майской капитуляции немцев, из Австрии в Маньчжурию направили. Вот там – на Забайкальском фронте – я вместе с ним против японцев и повоевал! Да, кстати… когда мы уже возвращались оттуда домой, он со мной сюда – в Баку – в наш «забратский» домик на целые сутки заезжал. А по их истечении, само собой, последовал далее – к себе на родину в Ставрополье!
– Так, может быть, он эту книжку у вас, тогда, и оставил? – с надеждой спросил я у деда.
– Может быть… – неуверенно ответил дедушка. – Не помню, внучок!
– В таком случае у меня сразу же возникают другие вопросы: как эта книжка могла у него оказаться, зачем Антонов её хранил, и он ли является конечным адресатом данной записки?
– Не знаю… Может, она была дорога ему как память, а может… и вовсе к нему никакого отношения не имела, и прихватил он её с собой, по случаю, к примеру, из какого-нибудь разбитого дома на территории нашей страны или госпитальной библиотеки… Кто ж его, теперь, знает?!
– А свой адрес твой фронтовой товарищ тебе, случайно, не оставлял?
– Оставлял, конечно. Только за это время мы, понятное дело, ту бумажку уже давно потеряли.
– Ну, а про «Фёдора» даже спрашивать тебя, дед, не буду. Заранее знаю, что скажешь что-то вроде того, что «Фёдоров на свете полным-полно, и ты знавал многих людей с таким именем».
– Так оно и есть. Знакомых Фёдоров у меня, и вправду, предостаточно…
– Ясно! Тогда, вот что, дед! Раз у нас с тобой пошёл нынче такой разговор, расскажи-ка мне о себе: ну, там… о своей малой родине… семье… детстве… о том, как в Баку попал… о войне и том, как жили вместе с бабушкой и мамой в «Забрате1» до моего рождения – попросил я его, приняв за данность версию о забывчивом фронтовике Василии Антонове и решив отложить на неопределённое время поиски других персонажей старинной записки из «шагреневой» книжки.
Дедушка Алексей тут же с видимым удовольствием откликнулся на мою просьбу и радушно посвятил рассказу о своей жизни до моего появления на свет, аж, целый вечер.
Причём, во время всего этого долгого повествования он неизменно был крайне воодушевлён и красноречив, и лишь, когда перешёл к изложению своей военной истории, вдруг как-то сразу заметно посуровел и помрачнел.
Видно было, что эти воспоминания наиболее тяжелы для него. Однако, ради меня, дед всё же рассказал некоторые эпизоды из своей фронтовой жизни, которые (совместно со всеми прочими его откровениями и добавленными мной, понятное дело, гораздо позднее сведениями о его смерти в 1993 году), я, спустя десятилетия, добросовестно перенёс на бумагу…
ГЛАВА 2. Крестьянско-казачий род моего деда (по материнской линии) Алексея Петровича Живова
Мой дед (по материнской линии) Алексей Петрович Живов был из семьи поволжских крестьян – потомков «северских» казаков из Стародубщины (российская Стародубщина и украинская Черниговщина, в старину, представляли собой единую территорию проживания северских казаков – так называемую казачью «Северскую землю» или Северщину), прибывших на постоянное место жительства в Среднее Поволжье примерно в 1735 – 1740 годах и вступивших, там, в образованное императрицей Анной Иоанновной Волгское (Волжское) казачье войско.
Само это войско (после подавления пугачёвского бунта) указом императрицы Екатерины II (почти в полном составе) было передислоцировано на Кавказ (на реку Терек) с сохранением всех их воинских атрибутов и регалий, а оставшиеся на Средней Волге казаки были преобразованы в самостоятельный Волжский (Волгский) казачий полк, присоединённый, впоследствии (в 1804 году) к Астраханскому казачьему войску.
Казачьи семьи, отказавшиеся от переселения на новые места (а среди них были и предки А.П. Живова), потеряли свой казачий статус и стали сначала государственными крестьянами, а затем – по мере передачи их земель и населённых пунктов во владение помещиков – и помещичьими.
Впрочем, предкам А.П. Живова повезло. Основанная ими Ольховская слобода (императорским указом) досталась во владение второго по счёту (и последнего по факту) Атамана Волжского казачьего войска (выходца из донских казаков) по фамилии «Персидский» (кстати, его отец был первым атаманом данного войска), который, внутри этой слободы (заселённой за прошедшее время уже не только казаками, но и крестьянами-переселенцами из разных регионов страны), на небольшой территории, занятой непосредственно казачьими домами её основателей, образовал отдельный вольный казачий хутор «Персидская Ольховка».
Тем не менее, со временем, все её обитатели, без принадлежности к определённому казачьему войску и казачьей службы, быстро «окрестьянились» и превратились в самых обычных крестьян (правда, вольных).
Вот в этой-то бывшей «казачьей части» села Ольховка (так со временем стала называться Ольховская слобода) Ольховской волости дореволюционного Царицынского уезда Саратовской губернии (ныне Ольховского района Волгоградской области) и родился в 1910 году мой дед Алексей (а умер он, к слову, уже в Баку в 1993 году – через четыре месяца после смерти своей жены Лидии – и был похоронен на кладбище в «Забрат1» рядом с её могилой).
Его родителями были ольховские крестьяне Живовы: Пётр Дмитриевич и Матрёна Григорьевна (кстати, помимо Алексея в семье у них было ещё шестеро детей: братья Ефим, Григорий и Константин и сёстры Надежда, Мария и Елизавета).
Крёстными же родителями Алексея стали муж и жена Саловы, которые, как и его бабушка Василиса (по отцовской линии), были членами потомственной донской казачьей семьи Саловых, проживавшей вместе с другими казаками в находящемся в пятнадцати километрах от Ольховки казачьем хуторе «Разуваев» Усть-Медведицкого округа Области Войска Донского.
Примерно, в 1928 году Алексей Петрович Живов вместе со своим старшим братом Григорием переехал из Ольховки в Баку и, там же, в 1932 году женился на Лидии Ивановне Солдатовой (будущей моей бабушке), прибывшей в Баку вместе со своей матерью и младшим братом Семёном из Нижегородской области, ориентировочно, в 1930 году.
Мой дед Алексей – фронтовик, участвовавший в Великой Отечественной войне с 1942 года по 1945 год (как нефтяник он в 1941 году имел «бронь» от призыва) и прошедший, тогда, в звании ефрейтора, сразу две войны: с Германией и Японией (за что был награждён орденом и медалями).
Вернувшись с фронта домой, он в будни работал на нефтепромыслах электриком, а в выходные дни «подрабатывал» рыбалкой на моторной лодке в море, в процессе которой дважды тонул, но, к счастью, оба раза был спасён товарищами-рыбаками с других лодок.
Его жизнь была весьма сложной и насыщенной трудностями, но, тем не менее, она вполне наглядно уложилась в несколько наиболее характерных для неё эпизодов, которые я позднее крайне старательно и пунктуально отразил в моей первой повести «Крестик от Серафима»:
1919 год. Лето. Ольховка.
По старой просёлочной дороге в сторону ближайшего леса медленно ползла запряжённая старой кобылой, такая же старая скрипящая телега, на которой сидели понурые и молчаливые девятилетний Алексей и его более старший брат Гриша.
Управляющий кобылой отец то и дело сочувственно посматривал на своих непривычно притихших сыновей, но, не находя для них нужных слов поддержки, лишь громко вздыхал и покашливал.
Его сильно беспокоило то, что Алексей, обычно самый говорливый и неугомонный из сельской ребятни, в этот раз, не вымолвил, за всю дорогу, ни одного слова и даже ни разу не взглянул в его сторону, но он ничего уже не мог изменить, так как вёз их на отдалённую поляну в лесной чаще, где уже несколько дней подряд паслись принадлежащие их семье пара крепких быков и пара резвых молодых коней, и где сейчас в роли пастухов находились двое братьев Алексея – самый старший (практически, юноша) Ефим и самый младший Костя, которые, в свою очередь, с огромным нетерпением ждали свою будущую смену в лице ныне восседающих вместе с ним на телеге Алексея и Гриши.
Шла гражданская война, и их родная Ольховка, невольно оказавшись на перекрёстке путей белой и красной армий, ведущих ожесточенные бои за Царицын, то и дело переходила из рук в руки этих двух враждующих сторон. При этом, каждый новый боевой отряд, овладев их селом, в первую очередь, реквизировал коней для своей конницы, а во вторую – конфисковал всю имеющуюся, а точнее – найденную, живность для пополнения своих продовольственных ресурсов.
Вот, и приходилось остававшимся в Ольховке сельчанам как-то спасать свой скот от вооружённых реквизиторов: быков и коней скрывать на дальних пастбищах в перелесках, а требующих дойки коров и коз, в случае внезапно возникшей опасности, хитро прятать неподалёку от села.
В большой и дружной семье Петра и Матрёны Живовых – отца и матери Алексея – обязанности по спасению коров, коз и другой мелкой живности, были возложены на их дочерей (сестёр Алексея) – Наденьку, Машеньку и Лизоньку – так их, вслед за родителями, звали все их четыре брата и соседская ребятня. Сыновьям же, как представителям сильного пола, отец поручал скрывать и охранять главное достояние семьи – быков и коней.
Всего этого Алексей, как самый младший в семье, ещё не понимал, и ему очень не хотелось покидать на несколько дней свой уютный мирок, где у него были друзья из числа соседских ребятишек, совместные с ними игры и, конечно, вкусные материнские пироги.
Но делать было нечего. Слово отца всегда было законом для всех членов семьи, как для самых маленьких, так и для самых больших, включая мать.
Семья Живовых слыла в селе семьёй с твёрдыми нравственными устоями, в том числе и благодаря строгой семейной дисциплине, установленной в доме её главой – Петром Живовым, одним из самых уважаемых жителей села, мнением которого по тому или иному вопросу периодически интересовались не только бедные, но и многие зажиточные односельчане.
Смена караула произошла довольно быстро и буднично. Довольные Ефим и Костя стремительно уселись на телегу отца и уже оттуда, осмелев, стали строить спрыгнувшим с неё Алексею и Грише весёлые рожицы.
Продолжалось это весьма недолго, так как отец, внимательно осмотрев семейное стадо и оставшись довольным его состоянием, не задерживаясь, подошёл к остающимся здесь сыновьям и, дав ряд коротких, но ёмких, указаний, вручил им два узелка с продуктами, после чего, слегка потрепав своей мозолистой рукой их вихры, запрыгнул на телегу и зычным голосом дал кобыле команду трогаться.
Оставшись одни в этом уже начинающем темнеть лесу, Алексей и Гриша ещё долго смотрели им вслед – ровно до тех пор, пока телега не скрылась из вида, и лишь затем, тяжело вздохнув, стали молча располагаться на ночлег.
Разведя костёр неподалёку от ранее сооружённого отцом шалаша и наскоро перекусив припасами из своих узелков, они, за разговорами, не сразу заметили того, как их внезапно обступила полная темнота, над которой высоко вверху привычно расположилось усыпанное звёздами ночное небо с ярко жёлтой круглой луной.
«Полнолуние», – заворожёно, глядя вверх, подумал Алексей, и именно в этот момент, совсем рядом, громко ухнула сова, вслед за которой, всего лишь в метрах ста от их костра, раздался протяжный волчий вой.
Тут же вздрогнули и испуганно заржали кони. Даже обычно спокойные ночью быки, улёгшиеся с полчаса назад у самого костра, вдруг нервно затрепетали ушами и приподняли свои большие головы.
Алексею стало очень страшно, и он невольно придвинулся к Грише.
– Не боись! – успокаивающе сказал ему старший брат, принимая на себя беззаботный вид.– Прорвемся!
Но Алексей отчётливо ощутил, как, при этом, по телу Гриши быстро пробежала нервная дрожь, и от этого ему стало ещё страшнее.