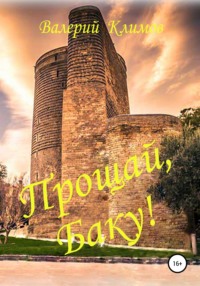Полная версия
Потомок
Волчий вой повторился, и стоящие чуть поодаль кони заволновались уже не на шутку.
Алексею и Грише, всё-таки, пришлось встать и, преодолевая свой страх, подойти к ним, опасно удалившись на добрый десяток шагов от спасительного костра и лежащих возле него быков.
Погладив нежно по крупу и произнеся несколько раз тихим ласковым тоном их клички, мальчишкам всё же удалось успокоить встревоженных коней, и слегка дрожащие от ночной прохлады, но очень гордые своей маленькой победой – преодолением собственного страха – они быстро вернулись обратно к костру.
Однако, за ночь, им ещё не раз пришлось вскакивать со своих мест и подходить к никак не успокаивающимся животным.
Лишь перед самым рассветом волки, наконец-то, ушли, и волчий вой прекратился.
Заснуть Алексею и Грише, в эту ночь, так и не пришлось, но они, выдержав испытание на смелость, уже больше не боялись оставаться наедине с ночным лесом.
Так, чередуя ночные страхи с дневными радостями, прошли отведённые на их дежурство три дня.
Алексей и Гриша уже во все глаза всматривались в ту часть леса, откуда должна была показаться телега отца, но … в назначенный час она так и не появилась.
Не было смены и на следующий день.
Закончились продукты, и удручённые Алексей с Гришей перешли на грибы и ягоды.
На пятый день, с утра, они вдруг услышали долго не прекращавшуюся перестрелку, доносившуюся со стороны их родного села, и им стало очень страшно за своих родных.
К полудню стрельба, наконец-то, затихла, и встревоженные братья тут же принялись горячо обсуждать между собой возникшую ситуацию.
Обсуждение, однако, не затянулось. Они, практически, сразу решили, что Гриша, как старший, должен остаться со стадом, за которое они отвечают перед отцом, а Алексей, как младший и менее привлекающий к себе внимание, должен будет пойти в Ольховку на разведку.
Обрадованный таким раскладом Алексей тут же, со всех ног, бросился бежать по узкой лесной колее в сторону выхода из чащи.
Пробежав в таком темпе не менее километра, он, буквально, вихрем выскочил на лесную опушку и, лишь увидев едва заметное, на расстоянии трёх километров от леса, родное село, наконец-то, остановился перевести дух.
Немного передохнув, Алексей, как ни в чём не бывало, вприпрыжку, направился к селу по знакомой с детства просёлочной дороге.
Когда до цели осталось не больше одного километра, и желание побыстрее оказаться в родном доме достигло своего апогея, он неожиданно услышал громкое конское ржание, доносящееся из небольшой заросшей ложбинки слева от дороги.
Любопытный Алексей, не задумываясь, тут же отклонился от своего курса и медленно спустился в неё.
Там его взору, как в сказке, предстал великолепный вороной конь, причём, судя по его седлу и снаряжению – офицерский, который, видимо, потеряв своего хозяина в недавней перестрелке, спокойно пасся в густой траве.
Он был настолько красив, что Алексей не удержался и подошёл к нему поближе.
Конь тут же доверчиво наклонил к нему свою голову и, слегка фыркнув, потряс ею в считанных сантиметрах от его лица.
В ответ мальчик, не устояв перед соблазном, осторожно погладил его шею.
Конь спокойно отнёсся к его ласке, и Алексей, осмелев и осторожно взяв вороного под уздцы, медленно повёл его за собой.
На всякий случай, он решил пробираться к своему дому задами садов, и это, как оказалось, было правильным решением.
На всех улицах их села уверено хозяйничали неизвестные вооружённые люди, как на конях, так и без них.
Увидев погоны на их плечах и кокарды на фуражках, Алексей без труда понял, что это – белые. Несмотря на свой юный возраст, он уже хорошо различал по внешнему виду враждующие между собой военные отряды, поочерёдно захватывавшие его тихую и мирную Ольховку.
Осмотрительно оставив своего коня возле небольшой яблони на самом краю их семейного сада, мальчик осторожно прокрался к дому и, убедившись, что чужих там нет, вошёл в него тихой крадущейся походкой.
– Ой! Лёшка! – ойкнула увидевшая его мать и тут же принялась тискать и осматривать его со всех сторон так, как если бы он отсутствовал дома не четыре дня, а четыре года.
– Ну, будет… будет, – властно остановил её внезапно появившийся в комнате отец, который, встревожено глядя на Алексея, стал быстро задавать тому все волнующие его вопросы разом. – Ты как здесь оказался, сынок? А где Гриша? Что там с нашими быками и конями?
В ответ Алексея, что называется, прорвало, и он одним залпом выпалил всё, что случилось с ним за эти дни.
Услышав про офицерского коня, отец быстро вывел его из дома, и Алексей, торопясь, провёл родителя к своему вороному красавцу.
Отец с восхищением в глазах осмотрел его добычу, но, неожиданно для него, строгим голосом велел ему немедленно отвести коня на то место, где он его нашёл.
Однако, увидев растерянный взгляд сына, Пётр Дмитриевич слегка смягчился и тихо пояснил ему, что белые, увидев этого жеребца, тут же «посрубают» головы их семье, так как подумают, что они причастны к убийству его хозяина, а красные, вернувшись, «посрубают» головы, решив, что кто-то из их семьи является офицером и, соответственно, воюет на стороне белых.
Затем отец, немного помолчав, всё-таки, разрешил Алексею, прежде чем возвращаться обратно в лес, поесть, по-быстрому, дома и твёрдо пообещал прислать им туда смену сразу же, как только спадёт опухоль на ноге у Ефима, неудачно подвернувшего её накануне его запланированного выезда в лес.
Мать, волнуясь и переживая за Алексея, быстро накормила его сытным обедом и наскоро собрала ему в дорогу очередные для него с Гришей два узелка с провиантом, после чего, трижды перекрестив сына, поцеловала его в лоб и тихонько подтолкнула к отцу.
Пётр Дмитриевич тут же резко бросил на неё свой суровый взгляд, но в последний момент, всё-таки, сдержался и промолчал.
Он до смерти не любил эти материнские нежности с поцелуями его мальчишек, считая, что они лишь портят настоящий мужской характер, который с самого детства методично вырабатывал у своих сыновей.
Однако, проводив сына до его вороного коня, отец вдруг и сам, неожиданно для себя, неловко чмокнул Алексея в его торчащий вихор и попросил быть поосторожнее по пути к лесу.
Его сильно тяготило, что он не мог самостоятельно выходить за пределы села, так как белые, заняв Ольховку, первым делом запретили всему взрослому населению покидать её территорию без их разрешения в течение ближайших двух-трёх дней, но деваться ему было некуда – приходилось мириться с «грубой силой» очередной новой власти.
Запрет белогвардейцев на выезд местных из села был напрямую связан с их активным поиском в Ольховке неуловимого красного командира Кондрата Цымбалова (в повести «Крестик от Серафима» он был мной назван Фёдором Плетнёвым), систематически громившего со своим небольшим отрядом белые тылы в течение нескольких последних месяцев.
Кондрат был их односельчанином и, вроде бы, даже приходился дальним родственником Живовым, но отец Алексея почему-то никогда с ним близко не общался.
Являясь участником русско-японской войны, на которой он получил тяжёлое ранение ноги и, как следствие этого, пожизненную хромоту, Пётр Дмитриевич, вообще, одинаково недоверчиво относился как к белым, так и к красным, искренне не понимая того, как можно так запросто стрелять в своих вчерашних фронтовых друзей, соседей и даже родственников только лишь за то, что они придерживаются других политических взглядов.
Что касается Кондрата, то он – типичный представитель сельской бедноты – осознанно встал на сторону красных ещё в 1918 году и, с тех пор, беспощадно дрался с белыми за революционную свободу для всех угнетённых и униженных (по крайней мере, так он искренне, тогда, считал).
Про него и его невероятное везение в здешних местах ходили настоящие легенды.
Говорили, что в первый раз он ушёл от верной смерти при его окружении группой белогвардейцев на опушке леса в соседнем уезде.
Тогда Кондрат неожиданно для них поднял вверх руку с гранатой, из которой предварительно выдернул чеку, и, прокричав, что сейчас взорвёт их вместе с собой, поднял своего коня на дыбы и, буквально, навалился вместе с ним на преграждавших ему дорогу к лесу белых конников.
Те в смятении расступились, и он на своём верном скакуне, в два счёта, скрылся в лесной чаще.
Запоздалая стрельба, открытая ему вслед не сразу опомнившимися белогвардейцами, нужного результата им не дала…
Во второй раз Кондрат с частью своего отряда был захвачен белыми врасплох, и избежать плена ему не удалось. Состоялся короткий «суд», и его, со связанными руками, вместе с другими пленными, повезли на телеге на расстрел к ближайшему перелеску.
Однако и тут отчаянный красный командир не смирился со своей участью.
Договорившись заранее со своими товарищами по несчастью и выбрав в пути нужный момент, Кондрат подал условный сигнал, по которому все пленные вместе с ним, разом спрыгнув с телеги, кубарем скатились в глубокий крутой овраг, полностью заросший высоким кустарником.
Вслед им тут же раздалась беспорядочная стрельба расстрельной команды, и… большинство спрыгнувших пленных навсегда осталось в этом заросшем овраге, но Кондрату опять повезло, и он вновь остался жив.
В третий раз Кондрат оказался в западне именно в тот день, когда Алексей привёл в Ольховку своего офицерского коня.
Ещё до появления Алексея в селе белые окружили дом Цымбаловых, в котором находился неуловимый красный командир, и предложили ему сдаться самому, чтобы в перестрелке не погибли его родные, находившиеся, в тот момент, вместе с ним в доме.
Кондрат согласился и крикнул им, что выходит. Однако, вместо того, чтобы выйти на крыльцо с поднятыми руками, как ожидал требующий этого белый офицер, он выпрыгнул из чердачного окна с противоположной стороны дома и, ранив, по пути, из своего револьвера двух стороживших его на той стороне белогвардейцев, в очередной раз скрылся от них в неизвестном направлении.
Разъярённые белогвардейцы прочесали всё село, но Кодрата так и не нашли.
Вот, поэтому, на всякий случай, они и запретили взрослым сельчанам покидать своё село.
Выставив конные разъезды, белые надеялись таким образом, всё-таки, поймать ненавистного им Цымбалова, если, конечно, он всё ещё оставался здесь.
Всего этого Алексей, естественно, не знал и поэтому спокойно повёл своего трофейного коня обратно теми же тропками, какими пробирался сюда около часа назад.
Однако, за околицей, он, немного подумав, всё же решил чуть-чуть срезать путь и повернул в сторону местного кладбища.
И тут, проходя вдоль задней части кладбищенской ограды, не просматриваемой со стороны села, мальчишка неожиданно услышал громко произнесённое кем-то своё имя.
У Алексея от ужаса «зашевелились волосы» на голове, поскольку голос доносился из старого заросшего травой могильного склепа, с незапамятных времён расположенного на самом краю сельского кладбища, но уже через миг его страх разом прошёл, поскольку он увидел вылезавшего оттуда и приветливо машущего ему рукой Кондрата Цымбалова.
Тем не менее, мальчик, остановившись, подождал, на всякий случай, пока тот сам подойдёт к нему с той стороны кладбищенской ограды.
Кондрат осторожно перелез через ограду и неспешно, как с взрослым, поздоровался с ним за руку, затем расспросил его об увиденных им белогвардейских разъездах и, лишь потом, спросил о трофейном красавце коне.
– Ну, что, Лёшка, подаришь мне свой трофей? – неожиданно спросил он у мальчика, когда тот ответил на все его вопросы.
– Бери, дядь Кондрат! – с лёгким сожалением в голосе ответил ему Алексей. – Всё равно отец велел его на место отвести…
– Ну, спасибо! – благодарно похлопал Алексея по плечу Кондрат. – А поесть у тебя, случайно, ничего с собой нет?
– Есть. Вот – узелки с припасами для меня с Гришкой. Бери себе, дядь Кондрат, любой из них, а мне с братом и одного, как-нибудь, хватит, – не задумываясь, поделился с ним продовольствием мальчик, понимая, что тому сейчас нужнее и конь, и узелок с едой.
– Ну, тогда, ещё раз спасибо тебе, паря! Буду жив, никогда тебя не забуду! – обрадовано сказал ему Кондрат. – А теперь, извини, но времени на разговоры у меня больше нет! Прощай, Лёшка, и не поминай меня лихом! Будем живы – не помрём!
С этими словами он в мгновенье ока взлетел на подаренного ему жеребца и, приняв от Алексея узелок, взял с места в карьер.
Отдалившись на несколько десятков метров от кладбища, Кондрат остановил на мгновение своего нового коня и, повернувшись лицом к мальчику, прощально махнул ему рукой, после чего, уже не оглядываясь, поскакал вдаль от родного села.
Немного погодя в той стороне раздались беспорядочные выстрелы и крики белогвардейского разъезда, заметившего беглеца. Но было поздно, и Кондрат вновь ушёл от своих преследователей.
А долго смотревший ему вслед Алексей впервые задумался о смысле событий, происходивших в его Ольховке в этот неожиданно ставший военным для неё год.
Потом он вдруг вспомнил о Грише, ожидающем его в лесной чаще, и быстро-быстро зашагал в сторону леса…
1928 год. Осень. Ольховка.
Холодный осенний ветер второй день по-хозяйски гулял по Ольховке, прогоняя с её улиц ребятню и редких односельчан, с трудом пробирающихся по своим неотложным делам через раскисшие дороги и огромные лужи, а в стёкла крестьянских домов уныло барабанил противный мелкий дождь, нагоняя на их обитателей смертную тоску и безнадёжность.
Тягостное уныние царило и в большом, построенном перед самой революцией, доме Живовых.
Сумеречный свет, едва пробивавшийся в комнату сквозь оконные стёкла, покрытые мелкой сеткой дождевых капель, слабо освещал молчаливо сидящих там восемнадцатилетнего Алексея, его братьев с сёстрами и отрешённо смотрящую в окно мать.
Молчание всех членов семьи лишь мрачно дополняло тягостную атмосферу внутри дома.
Такое же молчание было два года назад, когда они похоронили скоропостижно скончавшегося от воспаления лёгких его старшего брата Ефима, и разошлись по домам соседи, присутствовавшие на поминках.
Нынешнее же молчание было ещё страшнее из-за тревожного ожидания трагической вести и царящей, в связи с этим, полной неопределённости в предстоящих им делах.
Всё началось угрюмым утром прошлого дня, когда к ним в дом, с первыми каплями начинающегося дождя, внезапно вошли несколько вооружённых людей в кожаных куртках и арестовали отца Алексея.
На лице Петра Дмитриевича, при этом, застыло выражение полной растерянности и недоумения.
Находясь в прострации от всего происходящего, он не смог вымолвить ни слова в свою защиту, и мать, почувствовавшая смертельную угрозу, исходившую от этих людей, в поисках непонятно чего перерывших весь их дом, но так ничего и не нашедших, запричитала и заохала так, что было слышно во всех соседских дворах.
Но причитания не помогли, и отца Алексея, прилюдно назвав «кулаком, пущающим вражеские пропаганды», вывели из дома.
Лишь тогда Алексей, всё это время простоявший, как вкопанный, у тёплой печи, неожиданно встрепенулся и выбежал вслед за ушедшими.
Догнав отца уже возле раскрытых настежь ворот, он судорожно обнял его и долго не отпускал.
Конвоиры сначала немного замешкались, но затем очень решительно оттолкнули Алексея в сторону, и ему осталось только встревожено смотреть им вслед.
В России, в тот период, стремительно набирали обороты такие неоднозначные по своей сути процессы, как «сплошная коллективизация» и неразрывно связанное с ней «раскулачивание зажиточных крестьян».
Не обошли стороной эти процессы и Ольховку.
Пётр Дмитриевич недаром слыл очень умным и дальновидным человеком, к тому же всегда отличавшимся законопослушанием и лояльностью к власти, какой бы она не была. Поэтому, при создании в их селе колхоза, он, одним из первых, безвозмездно отдал туда излишки своего скота и сельскохозяйственного инвентаря, оставив в семье этого добра ровно столько, сколько по советским нормам в их местности могли иметь «середняки», не подпадавшие вместе с «бедняками» под навязываемое сверху «раскулачивание».
Наёмных работников в семье Живовых никогда не было, поскольку со всеми хозяйственными делами они справлялись сами за счёт своей сплочённости и трудолюбия, в гражданской войне никто из них не участвовал, политики они сторонились и с односельчанами не ссорились…
Словом, придраться к ним было сложно, но, видимо, очень хотелось, так как Пётр Дмитриевич имуществом-то с колхозом поделился, а, вот, вступать в него желания не изъявил, и, поскольку он был весьма уважаем в Ольховке, то многие жители села, равняясь на него, вступать в колхоз также явно не спешили, что несомненно очень сильно раздражало новую местную власть.
В конечном счёте, это и привело к появлению людей в кожанках в доме Живовых…
На следующий день в их доме ничего не изменилось.
Все по-прежнему с тревогой ждали новостей из уездного центра.
Тем временем стемнело, и мать, тяжело вздыхая и действуя скорее по привычке, чем осознанно, занавесила окна и зажгла керосиновую лампу.
В этот момент в сенях громко хлопнула входная дверь, и Алексей со всей его семьёй разом замер, с тревогой устремив свой взгляд на комнатную дверь.
Она резко распахнулась, и в комнату бесшумно вошёл … отец.
На нём моментально, плача и смеясь от радости, повисли жена и все его дети.
Несколько минут они не давали ему вымолвить ни слова, пока он, наконец, не освободился от их объятий и, повторяя своё любимое: «Ну… будет… будет…», не присел на ближайшую лавку.
Все остальные тут же быстро уселись вокруг него и напрягли всё своё внимание, ожидая от него рассказа о своём счастливом освобождении.
Однако отец, помолчав несколько секунд, неожиданно попросил у матери самогона и, когда она принесла его, залпом выпил целый стакан, закусив выпитое небольшой луковицей и горбушкой хлеба.
После этого он встал и, сказав своим обычным суровым голосом, что скоро придёт, вышел из дома.
Алексей заметил, что, при этом, у отца в глазах сверкала бешеная ярость, а его кисти рук то и дело сжимались в кулаки, но ничего не сказал об этом своим родным, поскольку, и без этого, мать стояла в жуткой растерянности и тревоге, а у сестёр вновь на глазах появились слёзы.
Гриша, вышедший на правах старшего сына вслед за отцом, вскоре вернулся и, улучив момент, тихо шепнул Алексею и Косте о том, что тот, взяв из потайного места в сарае своё охотничье ружьё, куда-то ушёл.
Прошло не менее часа, прежде чем отец вернулся обратно в дом.
Он вошёл в комнату с ружьём в руках и с какой-то отрешённостью в глазах.
Мать, до этого не находившая себе места, бросилась ему навстречу и, горько плача, стала расспрашивать его, не взял ли он часом какого греха на душу, на что отец сначала долго ничего не отвечал и, лишь велев Грише спрятать ружьё в старом тайнике и сев на своё обычное главное место за семейным столом, тихо сказал ей одно слово: «Нет»…
Немного погодя, он скупыми, но выразительными, фразами поведал своей семье о выпавших на его долю испытаниях в эти неполные два дня его отсутствия.
С его слов, утром прошлого дня он был доставлен в уездный центр и помещён в тамошнюю тюрьму, где пребывал в одной из переполненных людьми камер.
На допрос его вызвали всего лишь один раз, да, и то, только для того, чтобы ткнуть ему в лицо листком бумаги с письменным доносом на него одного из их односельчан, назвать его «врагом революции» и торжественно объявить ему, что он вместе со своими сокамерниками, а точнее, со слов мрачных людей в кожаных куртках, «соучастниками по контрреволюционной деятельности», будет расстрелян по утру следующего дня.
Всю оставшуюся ночь отец, в ожидании неминуемого расстрела, тихо молился и просил Бога не дать совершиться несправедливости в отношении него и его семьи, которую, в случае его смерти, могли ожидать притеснения и прочие невзгоды.
И, видимо, Бог услышал отцовские молитвы, так как ранним утром этого дня конвоиры вывели его из общей камеры и доставили в кабинет к начальнику тюрьмы, который с нескрываемой досадой в голосе объявил ему, что в последний момент он по непонятным для них причинам был вычеркнут местным руководителем чрезвычайной комиссии из уже подготовленного ими расстрельного списка и, следовательно, подлежит освобождению как невиновный.
– Куда же ты, тогда, бегал сейчас с ружьём? – тихо спросила у него мать.
– Да, к этому мерзавцу – Сеньке Кривому. Его мне назвал допрашивающий меня человек в кожанке. Он, видимо, уже не рассчитывал, что я выйду живым из тюрьмы, – угрюмо ответил ей отец.
– Ну, и? – ещё тише спросила мать.
– Ну, и … ничего! Не смог я выстрелить в него… Не смог… Полчаса стоял у его окна с ружьём, со взведённым курком, пока он вместе с женой и своими пятью детьми мал мала меньше ужинал… И не смог… Детей его пожалел… Они то – причём? Сгинут, ведь, без отца… Пускай он подавится вместе со своим колхозом нашим участком у речки! Всё равно нам здесь уже не жить. Не так, так эдак – погубит нас здесь новая власть! Уезжать нам отсюда, Матрёна, надо, и как можно дальше… – грустно вздохнул отец и тоскливо посмотрел в тёмное окно.
На следующий день, не искушая больше свою судьбу, отец с Гришей и Костей тайно выехали из села, а ещё через неделю, распродав за бесценок всю оставшуюся живность и заколотив двери и окна в своём большом доме, уехали из Ольховки и Алексей с его матерью и сёстрами…
1932 год. Лето. Город у моря.
Уже четыре года минуло с тех пор, как Алексей и его семья (в состав которой сразу вернулись ранее уехавшие из их села отец с Гришей и Костей) покинули Ольховку.
Судьба забросила их в большой южный город на берегу тёплого и ласкового моря – Баку – город, который европейцы, на рубеже веков, называли «Парижем Востока» и «Городом ветров».
Морской порт с его пароходами, синематограф, конка, театры и рестораны, национальный восточный колорит и специфический, в силу его многонационального и многоконфессионального состава, менталитет местных жителей буквально заворожили Алексея и его старшего брата Гришу.
На остальных же членов их семьи Баку произвёл меньшее впечатление, и они в нём не задержались.
Взяв с собой Костю и дочерей, отец с матерью, отбыли искать лучшей доли в сибирских краях, где, несколько ранее, уже обосновались на жительство отцовские братья со своими семьями.
Несмотря на все уговоры родителей, Алексей и Гриша наотрез отказались последовать за ними и впервые в жизни остались одни – без своей большой и дружной семьи.
Оба они были не робкого десятка, а природная сообразительность и большая физическая сила давали гарантию, что от голода они не умрут и в здешней жизни не потеряются.
Так всё и произошло.
Они устроились работать на нефтяные промыслы, в изобилии разбросанные на бакинской окраине, и их жизнь стала постепенно налаживаться.
Гриша даже, попутно, поступил учиться, и это занятие так его увлекло, что, получив хорошее среднее образование, он поступил в одно из высших учебных заведений Баку, которое закончил лишь незадолго до войны.
У Алексея же в 1932 году произошло событие, которое круто изменило всю его последующую жизнь.
Возвращаясь как-то вечером с работы домой, он случайно увидел, как на противоположной стороне улицы двое крепких подвыпивших парней нагло пристают к незнакомой девушке.
Они, нахально расставляя руки, мешали ей пройти и, глумясь, непристойно острили.
Девушка, готовая заплакать, бросала отчаянный беспомощный взгляд вокруг себя в надежде привлечь внимание редких прохожих, но те лишь шарахались от неё и окружавших её хулиганов, как от прокажённых.
Алексею, уставшему и голодному, конечно, тоже хотелось как можно быстрее дойти до своего дома, но ни в его принципах было оставлять слабых в беде, и он без раздумий перешёл дорогу.
Подойдя к вошедшим в раж и уже начавшим распускать руки парням, Алексей, как можно дружелюбнее, обратился к ним с просьбой отпустить девушку и дать ей пройти, но в ответ услышал лишь поток нецензурной брани и угроз в его адрес.
– Ну, что же, ребята, вы сами этого захотели, – всё также спокойно произнёс Алексей, не раз участвовавший в сельских кулачных баталиях, и первым же ударом своего крепкого кулака сбил с ног ближайшего к нему парня.
Драка длилась не более трёх минут.
Уложив, в конечном итоге, обоих парней в придорожную грязь так, что они уже не находили в себе сил подняться и запросили пощады, Алексей великодушно простил их и впервые посмотрел на испуганную девушку, честь которой он, только что, отстоял.
Посмотрел и… пропал. Красавица Лида с Нижегородчины, гостившая вместе с матерью в этом городе у своей тётки, поразила его сердце раз и навсегда.
Через месяц она стала его женой, и у Алексея началась размеренная семейная жизнь.
1941 год. Баку. Начало войны.