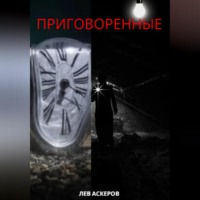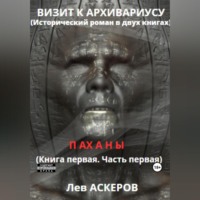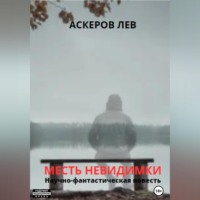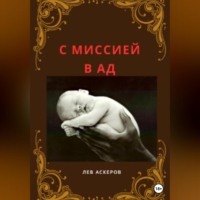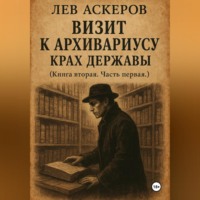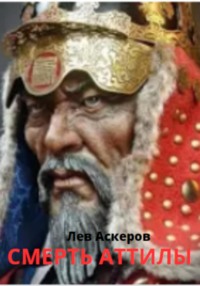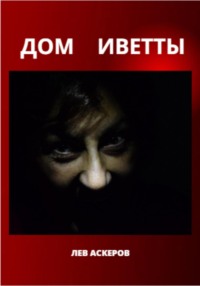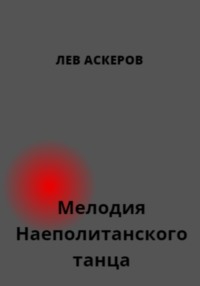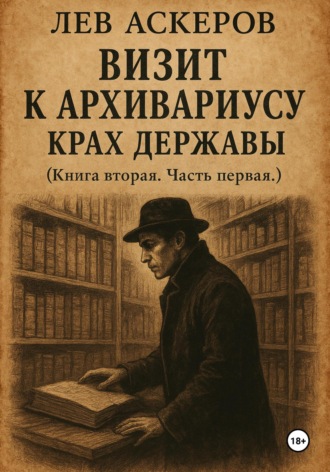
Полная версия
Визит к архивариусу. Исторический роман в двух книгах (III)
– Они нас резали!..
– Вот с чего ты это взял?
– Мне бабушка рассказывала…
И начинались, один страшнее другого, пересказы от бабушки. Их Мишиев знал уже наизусть, а потому слушал вполуха. Мог бы вообще не слушать, но Гамлет всегда припоминал ещё какую-нибудь ужасную историю, поведанную ему или от самого лучшего в Баку парикмахера Серёжика Аванесова, или от самого знаменитого в СССР портного Завена Барсегяна (его сам Никита Сергеевич приглашал в Москву, чтобы тот пошил ему костюмы!)… Да и рассказывал он, надо отдать должное, мастерски. Всегда вдохновенно, в лицах, словно сам присутствовал во время того, как изуверы-турки заживо закапывали молодую армянку вместе с её грудным ребятёнком.
Он свято верил в то, о чём так красноречиво живописал. И любое возражение, даже незначительное сомнение, выказанное его артистическому буйству, вызывало в нём приступ бешенства. Он бледнел, начинал трястись, в уголках рта вспенивались белые пузырьки. В этот момент Семёну казалось, что сапожник вот-вот рухнет ему под ноги в эпилептическом припадке, а потому старался не перечить ему. Не дай Господи помрёт…
Ну что взять с этого малообразованного человека, знавшего историю по бабушке? Вряд ли её знала и старая бабаяниха. Тоже, по всей видимости, на свой манер, и не бесталанно, перекладывала чьи-то, доходившие до неё, россказни. Ведь ни она, ни её предки никогда в Турции не жили. Самое же странное заключалось в другом. Эти ужастики муссировались в каждой армянской семье. О них знал и со сладостным упоением рассказывал каждый армянин, что, поначалу, очень удивляло Мишиева, а потом привык. Слишком часто приходилось слышать одно и то же. Стоило ему оказаться в компании, где не было азербайджанцев, но сидело один-два армянина, а хуже всего, когда их было больше, – всегда находился один, кто поднимал разговор о тупых турках, то есть, об азербайджанцах. Они, дескать, спят и видят, как извести умных и деловых армян.
– Семён, поверь, без нас они пропадут…– яростно сверля Мишиева глазами, убеждал он.
Столь гневная уверенность, сдобренная яростью, Семёна раздражало. «Не зря она,– думалось ему.– Неспроста. Есть-таки некие подковёрные голоса невидимых уст, что исподтишка нашёптывают и внушают своим сородичам зоологическую ненависть к ни в чём не повинным людям, среди которых они живут. И, мать иху, неплохо живут».
Мишиев старался не замыкаться на этих своих подозрениях, полагая, что они не что иное, как плод его профессиональной натасканности и приученности к тому, чтобы в тех или иных фактах увидеть и найти потаённый смысл, нечто вроде заговора, чреватого опасными последствиями. Каково же было его удивление, когда то же самое, и уже не как подозрение, а как оформившийся вывод из анализа оперативных донесений, излагалось в докладной записке полковника Томаза Георгиевича Каричадзе!
Та его докладная записка прозвучала разорвавшейся бомбой в их родном азербайджанском КГБ, похоронив, правда, не в прямом смысле этого слова, её автора. Его отправили на пенсию. Для полковника, бездетного вдовца, это было равносильно смерти.
…После того, как местное высшее начальство отмахнулось от его достаточно обоснованных выводов, он свою докладную послал в Москву, на Лубянку. А она, в очень скором времени, возвратилась назад. И возвратилась с резолюцией самого Председателя КГБ СССР: «Тов. Цвигун, разберитесь! Семичастный».
Так она и оказалась на столе шефа азербайджанских гэбэшников, генерала Семёна Кузьмича Цвигуна. Прочитав её и, сделав пару звонков в Москву, он вызвал к себе секретаря парткома Заира Юнусзаде. Разговор между ними был довольно продолжительным, после которого генерал по аппарату внутренней связи приказал Каричадзе собрать всех ответственных сотрудников оперативной службы аппарата и прибыть к нему на совещание.
Дождавшись, когда все рассядутся, Цвигун, строго оглядев всех, произнёс:
– Тут ко мне поступил любопытный документ из Москвы… О дашнаках, – пояснил он, – они, дескать, здесь, у нас, в Баку, свили себе гнёздышко и хозяйничают себе, как им заблагорассудится… А мы, видите ли, носами окуней ловим…
– Семён Кузьмич, – обратился Юнус-заде к генералу, – судя по удивлённой мимике товарищей, они не в курсе дела. Позвольте, я зачитаю его.
– А почему вы? Пусть это сделает автор… – и, остановив холодный взгляд на окаменевшем Каричадзе, распорядился:
– Полковник, ознакомьте присутствующих со своим творчеством.
По первым же словам генерала и, по каверзной, подхалюзной реплике Мокрицы, Каричадзе понял, что и тот и другой прозрачно и недвусмысленно дали всем сидящим здесь установку, какого мнения им придерживаться к объявленному документу. Было ясно, как день, что эта докладная станет последним гвоздём, который генерал и Мокрица вобьют в гроб последнего из могикан. Ведь он единственный из всех местных чекистов времён Берии и Багирова, кого не коснулась метла пертурбации. Он работал за рубежом, когда здесь свирепствовали репрессии. Теперь-таки, нашёлся повод освободиться от него. Мавр сделал своё дело и стал не нужен.
Каричадзе боялся лишь одного – не быть выкинутым с формулировкой, что лишала бы его, полковника, заслуженной пенсии и причитающихся льгот. Со многими его коллегами так и поступали. Но, как бы там ни было, уйти побитой собакой он позволить себе не мог.
Поднявшись с места, Каричадзе кивнул и с тем же непроницаемым выражением лица, принял из рук Цвигуна папку со стопкой машинописных листов.
– Полковник, – остановил его Цвигун. – Нам только суть. Ваше литературное вступление о том, какой вы заслуженный и хороший и как печётесь о будущем страны, нам слушать не обязательно.
– Извольте. Только суть.
Без торопливости и суеты, водрузив на нос пенсне а-ля Берия, Томаз Георгиевич Каричадзе твёрдым и уверенным голосом стал читать. И кабинет наполнился его ровным, чётким и басовитым голосом:
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ КГБ СССР
…Я глубоко убеждён, что в среде армянского населения республики, силами священнослужителей грегорианских церквей Баку, Степанакерта и Еревана проводится скрытная и, вместе с тем, организованная по всем правилам конспирации подрывная работа, выражающаяся в пропаганде ненависти к азербайджанскому народу. Под их крышами, под видом изучения религиозных постулатов функционируют курсы, готовящие агитаторов дашнакского, крайне агрессивного толка. Как утверждает внедрённый в новый состав обучающихся наш агент, лекции здесь читаются эмиссарами Эчмиадзина. Содержание лекций не соответствуют темам официальной программы, зарегистрированной в Отделе по делам религии Совета Министров Азербайджана. Запись их категорически запрещена.
Один из слушателей, механик бытовой техники Самвел Карамян, отличавшийся плохой памятью, был уличён в конспектировании материала. Два дня спустя на Арменикендском базаре средь бела дня неизвестный заточенной стамеской со спины поразил его в самое сердце. Уголовное дело, заведённое Наримановским РОВД по факту убийства, находится в числе не раскрываемых. Примечательно, что в тот же вечер, когда было совершено преступление, на занятиях курсов, проводившихся в Бакинской армянской церкви, эчмиадзинский лектор объявил о гибели пламенного патриота, обвинив в его убийстве азербайджанцев, которых (дословно воспроизвожу призыв эмиссара) «надо так же, по подлому, везде и всюду, уничтожать».
У агента имеются веские основания считать, что при обучающейся структуре существует плотно засекреченная боевая группа, укомплектованная отъявленными националистами-уголовниками. Набор в неё осуществляется эчмиадзинской церковью. Каждый её участник хорошо оплачивается. В одном из своих донесений агент на память изложил фрагмент одной из таких лекций, прочитанных представившимся служителем Кироваканского прихода отцом Гаспаром. (Священник с таким именем действительно имеется, однако по предъявленной нашему человеку его фотографии он ничего общего с тем лектором не имел.) Привожу вышеозначенный фрагмент.
…Нас на земле осталось немного. Мы живём разрозненно. Враги разобщили нас. Этого они смогли добиться. Но удалось ли им сломить воинственный дух наш? Сумели ли они загасить пламя уникального разума нашего? Смогли ли убить святую цель, оставленную, в сердцах наших, пращурами нашими?.. Нет! Им никогда не удастся этого сделать, пока жив хоть один армянин, любящий народ свой, знающий свою, обильно политую армянской кровью историю и чтящий славных предков.
Мы гордимся героями прошлого. Нет их вины в том, что они не сумели сохранить созданной ими Великой Армении. Они пали в кровопролитных боях с превосходящими силами противника – нецивилизованными, дикими варварами, не стоящими худшего из нас.
Перед нами трепетали Рим и мир. Мы должны и обязаны, не жалея себя, ни, тем более, врагов своих, сделать всё, чтобы перед нами трепетали новый Рим, называемый ныне Москвой, и новый мир. Это-то нас, где бы мы ни жили, и объединяет. И здесь, в Советском Союзе, и во Франции, и в Америке успех одного армянина – успех всего народа, ощутимый вклад в уже близкую нашу победу.
На одной из недавних проповедей Его Святейшество Католикос всех армян сказал: «Более яркой нации, более великого народа я не знаю. Что такое земное расстояние между нами?.. Ничто! Самая существенная и непреодолимая дистанция – это не километры, а отсутствие взаимодействия душ. Мы, единственная нация, рукоположенная самим Всевышним, обладаем такой способностью. Наши души чётко чувствуют друг друга. Узнают друг друга… Грех, большой грех не воспользоваться этим даром господним и не вернуть былую вселенскую славу многострадальному народу нашему. Его поддержка – залог наших побед…»
Я имел честь присутствовать на этой изумительнейшей проповеди. Его Святейшество особо подчеркнул, что для нашей борьбы нужны пожертвования. Каждый армянин, где бы он ни находился, бедняк он или богач, обязан внести свою лепту в казну нашей борьбы. Даже грош имеет большое значение, ибо мы будем знать, что он положен на святое дело истинным армянином. Фамилии тех, кто это делает, аккуратно вносятся в списки, которые церквями всего мира передаются в Эчмиадзин и хранятся там.
И ещё Его Святейшество обратил внимание на то, что из логова врага нашего, отсюда, из Азербайджана, денежные средства идут в недостаточном количестве. Им, армянам, проживающим в Азербайджане, следует напомнить, что на щедрые взносы, во имя будущего нации, не скупились такие известные коммунисты, как Камо и Шаумян. Регулярно их вносят семьи выдающегося государственного деятеля Анастаса Микояна и всемирно известных маршалов Баграмяна, Бабаджаняна и других военачальников…
Нежелание платить в общенародную казну Эчмиадзин считает предательством и изменой. А за предательство и измену рано или поздно придётся отвечать… Спрашивать с таких будете вы. Его Святейшество возлагает большие надежды на нас, на слушателей курсов, которые, по окончании их, будут проводить соответствующую и, если надо, жёсткую работу среди тех, кто забыл истоки своего родства. Они нуждаются в том, чтобы им вернули память. Даже если это надо делать кулаком. Это богоугодное дело Его Святейшество возлагает на вас. Передаю вам его напутственный девиз – «Цель оправдывает средства!»…
– Томаз Георгиевич, – перебивает полковника Цвигун, – я же попросил лаконично и суть. Там ещё с десяток листов. А нам и эти две странички выслушать стоило большого труда… Приступай к выводам.
– Для этого мне заглядывать сюда не надо, – захлопнув папку, Каричадзе протянул её генералу.
Цвигун, низко склонив голову к столу, сделал вид, что не замечает этого, а Томаз Георгиевич сделал вид, что вовсе и не хотел передавать папку из рук в руки, и эдак легонько и небрежно положил её чуть ли под самые глаза генерала. Затем, твёрдо опершись кончиками пальцев на стол, полковник с невозмутимым спокойствием и всё тем же негромким и ровным голосом стал излагать ту самую суть.
О том, что творилось внутри Каричадзе, как он переживал, выдавали его побелевшие от напряжения пальцы… Казалось, они буравили и всё глубже и глубже впивались в стеклянную плоскость стола.
– Товарищи, зачитанное мной – всего лишь фрагмент, проливающий свет на весьма серьёзную проблему, которая напрямую затрагивает интересы государственной безопасности. Всего лишь верхушка айсберга…
Цвигун было вскинулся, чтобы перебить, мол, хватит болтовни, давай о деле, но Томаз Георгиевич опередил его:
– Итак, первое. На территории республики имеется тщательно законспирированная террористической направленности националистическая организация с чётко выраженной дашнакской идеологией. Она действует под благовидной, я бы сказал под благообразной, крышей – Бакинской, Степанакертской и других грегорианских церквей. Выбор этот был далеко не случайным. Он продумывался и просчитывался в стенах родственных нам служб. Американская она, английская или французская, а возможно совместная – и та и другая и третья, – вопрос, на который ответить должны мы. Их цель, на мой взгляд, – ударить по самому уязвимому месту СССР – фактору многонациональности. В их планах – посеять вражду между народами и под антуражем их хвалёных демократий и свобод взорвать нас изнутри. Ставка делается на массовый охват и религиозные чувства, являющиеся благодатной почвой для внушения любой дикости…
Сразу оговорюсь, решение поставленной ими задачи – не сиюминутное. Задача эта стратегическая, исподволь подтачивающая нашу монолитность. Я достаточно долго, более чем четверть века, проработал в тех странах, чтобы знать, чем они дышат и как думают.
– Монолитность – наша сила, а не слабость… И вы слишком хорошего мнения о наших пресловутых заокеанских коллегах, – ввернул Мокрица.
Ледяная молния, высверкнувшая из стальных глаз нахмурившегося генерала, остановила собравшегося пойти в атаку партийного босса.
– Лучше переоценить, чем недооценить и быть застигнутыми врасплох, – возразил Каричадзе.
– Не отвлекайтесь, полковник! – приказал Цвигун.
– Второе, – продолжал Каричадзе. – Наши оппоненты для решения своей задачи, как не горько это утверждать, располагают реальными людскими ресурсами, которые здесь имелись и благодаря продашнакскому костяку 26-ти бакинских комиссаров сохранились с 1917 года. Ныне, прямо на наших глазах, они пополнились свежими силами. Пополнились, кстати, с нашей помощью… Я имею в виду хлынувшие на территорию СССР по распоряжению высших властей потоки армян-репатриантов. Делалось это почему-то в спешке, без соответствующей проверки… Спрашивается, все ли они лояльны к нам? Нет ли среди них завербованных разведками людей?.. Вразумительного ответа нет. А прибывших к нам, в Советский Союз, не одна сотня тысяч человек.
Полковник обвёл взглядом оцепенело замолкших коллег. Такого смелого, прямо-таки крамольного выступления им, вероятно, никогда не доводилось слышать.
– Третье. Позвольте спросить, задумывался ли кто-либо из нас, аналитиков, о том, где, по чьей разнарядке и почему так, а не иначе расселялись приглашённые нами армяне-репатрианты?!.. Я составил карту их дислокации. Доложу вам, получилась любопытная картина. Вот она: в Российской Федерации – Ростовская область, Краснодарский и Ставропольский края; в Грузии – Тбилиси, Ахалцихи, Колхида, то есть Абхазия; в Азербайджане – Нагорный Карабах, Казах-Кировабадская зона, молодой Мингечаур и строящийся Сумгаит. Из сотен тысяч прибывших всего около восьми процентов поселились в Армении. Таким образом, очертив места размещения репатриантов, мы получим рельефный контур дашнакской карты мифической Великой Армении – от моря и до моря и до Ростова-батюшки…
– А ведь правда! Так оно и есть, – невольно вырвалось тогда у Мишиева.
Цвигун бросил на него жёсткий взгляд.
– Четвёртое, – продолжал Каричадзе. – Проповеди эчмиадзинских сановников и их главы Католикоса стали не только откровенно утверждать избранность армян и второсортность остальных. Они стали наполняться духом агрессивного наступления. Объяснение этому, как я полагаю, лежит в плоскости влияния наших зарубежных коллег на Грегорианскую церковь. Другого объяснения столь подозрительной, странной, если не сказать опасной активности «божьих» проповедников трудно найти… Повторяю, всё это не может не представлять, пусть потенциальную, но реальную угрозу… Имеется в виду та, что, в удобный момент, может больно ударить по нам.
О своих доводах я не раз ставил в известность наше руководство. И однажды, – Каричадзе повернулся к Юнус-заде, – секретарь парткома пригласил меня к себе и сказал: «Я уполномочен руководством сообщить: поднимаемая вами проблема выше компетенции республиканского комитета государственной безопасности»… Товарищи, я сообщаю вам о состоявшемся между нами разговоре, чтобы вы поняли, почему я с этой докладной запиской обратился в Москву. Так сказать, через голову начальства…
– И всё-таки, Томаз Георгиевич, я отношу ваш поступок как раз к тому случаю, когда говорят: «Он выносит мусор из избы…» Вам такое не к лицу… – сурово упрекнул Цвигун.
– Мне не хотелось бы спорить по этому поводу, Семён Кузьмич, – твёрдо проговорил полковник.
– Если у вас всё, то прошу присутствующих высказываться… – после небольшой паузы сказал Цвигун.
Никто, кроме Мокрицы, выступать не стал. Ему, очевидно, надо было дать партийную оценку инциденту.
– Как можно, – пенял он полковнику, – грязнить такие святые для коммунистов имена, как Камо и Шаумян?! И почему фактор многонациональности вы относите к самому уязвимому месту нашей страны? На мой взгляд, он является нашим преимуществом. Мы вместе одолели фашизм. Мы живём единой семьёй. Союз наш нерушим. А после разоблачений сталинско-бериевских искривлений советский народ ещё теснее сплотился вокруг Центрального Комитета партии, возглавляемой верным ленинцем Никитой Сергеевичем Хрущёвым. И вообще мне непонятны инсинуации в адрес такой яркой личности, как Анастас Иванович Микоян…
– Да-а-а… – протянул генерал и жестом руки попросил умолкнуть партийного босса, которого могло занести на баррикады Парижской коммуны.
Выжидательно уставившись на Цвигуна, Юнус-заде послушно затих.
– Да, полковник, ты со своим анализом немного того… – генерал усмехнулся, – переборщил. Самого Председателя Президиума Верховного Совета СССР определил в пособники вражеским лазутчикам…
Семён Кузьмич произнёс это, конечно, осуждающе, но тоном товарищеской подначки. Все засмеялись.
Полковнику, однако, было не до смеха. Даже эта доброжелательность ничего хорошего ему, Каричадзе, не сулила. Наверняка к его аналитике, вернувшейся из Москвы, приложили и рекомендации на его счёт… Семичастный не преминёт с ним расправиться. Он с первого дня, как занял кабинет главы Лубянки, сразу обозначил своё недоверие к кадровым сотрудникам органов госбезопасности. И не только к тем, кто был чем-то замаран, а ко всем без исключения. А он, Каричадзе, пожалуй, из последних оставшихся от старой гвардии.
Полковник ждал скорой и жёсткой расправы. Вряд ли придётся избежать её. Тем более что пока аналитика бакинского чекиста шла в Москву, Анастаса Микояна избрали Председателем Президиума Верховного Совета СССР. Правда, и до этого он был не последним человеком страны – первым заместителем Председателя Совета Министров СССР, облечённый самыми широкими партийными и хозяйственными полномочиями.
Восседать на олимпе недоступности и иметь там влияние – одно, а стать одним из небожителей олимпа – совсем другое. Посмевшего посягнуть на такого, сотрут в порошок. Причём под аплодисменты. А столичное и родное местное начальство поспешит подстраховаться. Они знают, обязательно найдётся какой-нибудь доброхот, который «прозвонит» куда надо, чтобы дошло до «небожителя». И тут всплывёт его аналитика. И гадать не придётся, какова будет реакция непотопляемого Анастаса Микояна. Это о нём потом люди сложат многозначительное двустишие:
От Ильича до Ильича,
Без инфаркта и паралича.
Томаз Георгиевич до этого «потом» не доживёт. Через пару дней после того совещания его отправят на пенсию, а десять дней спустя – на тот свет. Смерть, как явствовало из короткого медицинского заключения эксперта, наступила от удушения бытовым газом. Аккуратный и педантичный полковник забыл выключить на кухонной плите все четыре конфорки.
С кем-с кем, а с ним такое вряд ли могло произойти. Знавшие Каричадзе не верили выводу судмедэксперта. Не верили, но помалкивали. Не дураки же! Яснее ясного, что стало причиной столь нелепой и наверняка не случайной смерти.
2.
Последним, кто в ту ночь видел Томаза Георгиевича живым и долго общался с ним, был Мокрица, занимавшийся до недавнего времени курацией оперативников группы «Z», то есть чистильщиками, или, как еще их называли, ликвидаторами. В написанном им показании, естественно, излагалась «вся правда». Мишиев, как, впрочем, и другие, в этом нисколько не сомневался. В ней было всё, только, скорей всего, без какой-то одной малюсенькой, но существенной детали.
«… Ничего странного в его поведении я не заметил, – писал допрашиваемый свидетель. - Он находился в хорошем расположении духа. Много шутил… Мы пили чай и говорили о делах, по которым требовался совет опытного чекиста. Перед моим уходом, а это была четверть первого, он пожаловался, что в последнее время его мучает бессонница, и сказал: чтобы уснуть, ему опять придётся выпить снотворного, к которому он не хочет привыкать…»
Но, как позже признался Мишиеву судмедэксперт, он кое-что подозрительное всё-таки обнаружил в крови Томаза Георгиевича. Оно по некоторым параметрам походило на снотворное. Установить же название его эксперт не смог. Поэтому в заключении, представленном следователю, написал: «Медикаментозное средство, принятое исследуемым перед смертью, имеет параметры снотворного, изготовленного не на отечественных фармацевтических предприятиях»
Да, у полковника, работавшего много лет за рубежом, такое средство могло быть. Но в том концентрате, выделенном судмедэкспертом из его крови, что-то было не то. Это «что-то не то» заинтересовало исследователя, и он, на свой страх и риск, отослал концентрат в химическую лабораторию на предмет установления состава искомого концентрата. Ответ, пришедший оттуда месяц спустя, ошарашил его. Оказалось, что концентрат по своему составу и действию ничего общего со снотворным не имел. Снадобье, принятое полковником, оставляло человека в полном сознании, но напрочь обездвиживало.
Постольку поскольку, дело о кончине Каричадзе было закрыто и КГБ не проявлял заинтересованности в причине смерти своего чекиста, врач понял, что и ему нечего было соваться со своими вновь открывшимися обстоятельствами.
Выходит, полковник видел убийцу. Видел, но ничего поделать не мог. Он не в силах был даже смежить веки. Семён тогда одним из первых прибыл на место трагедии и видел умершего. Глаза его были широко раскрыты. И в них застыл жуткий ужас, каким был охвачен полковник. Такого быть не могло, если человек спал. Но следственную группу столь необычная деталь ничуть не озадачила.
Стало быть, полковник находился в сознании до самого последнего вздоха.
Теперь Томаз Георгиевич никогда и никому не сможет рассказать, кто и как убил его. Здесь – никому не нужно, а там и ему всё равно. Там, очевидно, никто не помнит, что было с ними здесь. Точно так же, как и здесь никто из людей ничегошеньки не помнит, что было с ними, прежде чем они объявились тут, на Земле. И все вопросы – Что? Как? Почему? Откуда? и т.д. и т.п. – важны только здесь. Хотя и это не так. Если и важны, то на какой-то короткий промежуток времени. И потом, только кажется, что на них, на эти вопросы, можно ответить. Может, кто и отвечает. Есть аномалии среди людей. Но кто их слушает!? Здесь, на Земле этой, важен ответ на вопрос не для всех, а важен ответ для конкретного и самого дорогого на свете – себя.
Люди живут кажущимся. И вообще они вроде заводных игрушек. И болван тот, кто считает, что он хозяин судьбы своей и что он сам, разумом своим, выстраивает жизнь свою. Думающий так уподобляет себя Богу, встроившему в него механизм, называемый разумностью. Будет то, что будет. И игрушка, самовлюблённо нарекшая себя Хомо Сапиенсом, сделает то, что должна сделать. Мишиев уже в этом нисколько не сомневался. Тысячу раз убеждался. И на других, и на себе. Главное, на себе.
С какой головы, спрашивается, он позвонил Риве? Ведь знал же: телефон прослушивается. Знал – и позвонил. Не сделать этого он не мог. Не мог и всё. Желание было настолько острым и властным, что оно перешибло категорическое табу его вышколенного рассудка. Под его мощным напором оно таки сломалось. Своё рассудочное табу Семёну удалось припереть к стене после очень кстати припомнившегося ему совета одного из легендарных зубров разведки, читавшего им спецкурс в Высшей школе КГБ.
«Осторожность превыше всего, – поучал он. – Поздно дуть на молоко, если обжёгся на нём. Обжечься в нашем деле означает провал. Нельзя допускать такое себе и нельзя позволять этого никому другому из своей команды. Если показалось что-то подозрительным, лучше переосторожничать – отложить, перенести, не пойти. На такой случай надо, разумеется, иметь запасной вариант действий. И обязательно, подчёркиваю, обязательно понаблюдать самому, а лучше поручить кому-нибудь из своей группы, за тем, что «не понравилось». Со стороны всегда виднее. И никогда, ни при каких обстоятельствах, не идти на поводу своих эмоций. Действуйте по поговорке: «Утро вечера мудренее». Если засвербило с утра, дождись другого дня, а если подступило с вечера, пережди до завтрашней ночи. Время разложит всё по полочкам…