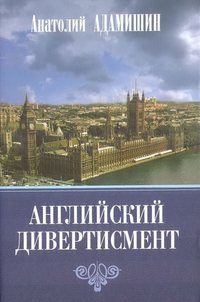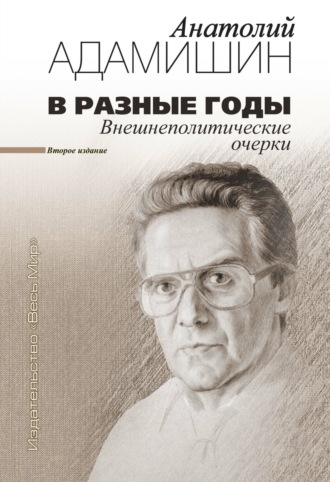
Полная версия
В разные годы. Внешнеполитические очерки
Вместе с тем, продолжаю и сегодня считать, что было не так уж много тогда руководящих работников, которых можно было упрекнуть в стяжательстве. И партийные нормы были суровы, и честные люди все же преобладали. Некоторые руководители так и остались скромного достатка и бедствовали, когда пришла «шоковая терапия».
Юрий Владимирович, несмотря на болезнь, говорили мы между собой, держит власть твердо. Перемены идут, будучи в «пробирке», сумел сделать невозможное – провести своих людей в Политбюро. Юра Визбор обнадеживал: «Все-таки что-то происходит, западные голоса подсчитали, что треть секретарей уже заменена».
Веня Смехов, вернувшийся из Парижа, надеется, что простят Любимова, дадут вернуться. Хочет всем театром обращаться к Громыко, как уже обратились к Андропову: дайте показать спектакль о Высоцком. Словом, Москва либеральная жила надеждами.
Послушав Венины рассказы о Париже, шестидесяти тысячах в нем русских – сегодня в несколько раз, наверное, больше! – вновь подумал, какое большое количество таланта было «выплеснуто» за рубеж, загублено! Что это за страна такая, где ни один, подчеркиваю, ни один гений не обошелся без гонений, не был признан и т.д.
Юрий Владимирович действительно начал ставить своих людей на ключевые посты: Общий отдел изъяли у Черненко, Отдел оргработы, т.е. кадры – у Капитонова. «Но, записал я в дневнике, разгребать и разгребать, ведь таких, как Щелоков или Медунов, не единицы, хватит ли сил?»
Сил не хватало, все чаще Андропов оказывался в больнице. Дела от этого лучше не шли.
У меня есть основания считать, что Андропов хотел вернуться к разрядке в той или иной форме. За это говорит и «спасение» им Мадридской встречи СБСЕ, и то, что он начал выправлять отношения с США, находившиеся в весьма напряженном состоянии. Посредством ряда закрытых шагов стала обозначаться некая «мини-оттепель». Свою роль сыграл визит министра иностранных дел ФРГ Геншера в СССР в начале июля 1983 г. Судя по американским источникам, он посоветовал госсекретарю США Шульцу съездить в Москву для разговора с Андроповым.
Этому предшествовал обмен личными письмами между руководителями двух держав (июль-август 1983 г.), что было своего рода возобновлением переписки: она началась между Рейганом и Брежневым в 1981 г., но эпистолярный жанр заглох, поскольку в посланиях было мало что неформального, тем более конфиденциального. Взаимное доверие было на нуле. Рейган, как позже его преемник Буш, почти год с нами не разговаривал всерьез. На этот раз начал завязываться предметный разговор. Следует добавить, что в этот период появились проблески на переговорах в Женеве по ракетам средней дальности. Андропов в письме Рейгану выразил готовность втрое сократить СС-20, если США не будут размещать свои «Першинги» и «Томагавки». Другими словами, мы оставляли за собой лишь эквивалент ядерных вооружений Великобритании и Франции. Весьма близко к «нулю»!
Все спутали гибель южнокорейского «Боинга», сбитого в ночь на 1 сентября на Дальнем Востоке, и начавшаяся антисоветская вакханалия. Думаю, Юрия Владимировича крепко подкосила эта история.
Воспроизведу события по дневниковым записям, т.е. так, как они мне тогда представлялись в условиях почти полной закрытости.
5 сентября 1983 г. «Наши объяснения, к сожалению, не во всем последовательны, мягко говоря. Кто знает всю правду? Неизвестно. Военные или темнят, или недоговаривают. Кто отдал приказ стрелять? А то, что стреляли, это точно, американцы вроде представили нам подробную запись переговоров наших летчиков с землей. Все слушают, сукины дети».
(ЦРУ сделало запись весьма оперативно, и в администрации США дискутировали, обнародовать ли ее, рискуя «засветить» средства, которыми была добыта информация; решили, в конечном счете, в пользу разглашения.)
«Интересные вскрываются вещи в связи с южнокорейцем. Вроде до происшествия наше политическое руководство ничего не знало, а сейчас не может найти концов».
Г. Корниенко пишет в своих воспоминаниях, что в Москве узнали об этом событии из телеграммы нашего поверенного в делах в США О. Соколова. У него американцы сразу же запросили разъяснений. Олег дал их по поручению из Москвы довольно быстро. Они были сбивчивы, и об уничтожении самолета в них ничего не говорилось, точно так же, как в первом сообщении ТАСС.
Следующая дневниковая запись: «Пленка военными не представлена, только расшифровка, т.е. то, что прошло через несколько рук. Даже самим себе не говорим, сбили или нет, что уж тут спрашивать об остальном мире. Да, выпустили ракету с тепловой наводкой, а может, он не от нее упал. Есть и такой разговор, что решили, мол, показать зубы, очень уж наглыми становятся американцы. Они, видать, действительно приложили к этому руку».
Нашел подтверждение своим тогдашним догадкам в уже упоминаемой книге Шульца. Он описывает разговор насчет самолета напрямую с людьми из ЦРУ: «Разведывательная служба вновь уходила от ответов; у меня сложилось впечатление, что они мне что-то не договаривают» (с. 364). Шульц с самого начала пустил в ход версию, что русские видели, что это пассажирский самолет, и хладнокровно сбили его. На самом деле летчик принял «Боинг» за американского разведчика. Подобная игра на опережение – генетический код американской пропаганды. Проходит время, страсти утихают, появляется признание реально произошедшего. В 2015 г.
стало известно, что американцы почти сразу же доверительно сообщили японцам, что поражение пассажирского самолета было не преднамеренным актом, а трагической ошибкой.
«Чувствуется по всему, что с военными связываться никто не хочет, говорят полуопределенно, все время боятся, что будут обвинены в потакании врагу, в слабости».
«8 сентября на встрече с Шульцем в Мадриде Громыко признал, что самолет был сбит. Раньше об этом сообщил ТАСС. Но наши предыдущие отпирательства на фоне представленной американцами записи выглядели ужасно. Потом аналогичную запись дали японцы, и она – с конечными словами пилота “цель уничтожена” – была прослушана в ООН и появилась в средствах массовой информации».
12 сентября. «Несмотря на свистопляску с южнокорейским самолетом, французы оказались на высоте – поездку в Париж министра не отменили, хотя и перенесли на после его встречи с Шульцем. Визит рабочий, но флаги они повесили, жандармов с саблями поставили. Главное, приняли Громыко и президент Миттеран, и премьер Моруа. Это, конечно, пощечина американцам. В ходе самого визита держались вполне дружественно, передали Андрею Андреевичу приглашение позднее нанести официальный визит. Для упреков насчет самолета выделили одного Шейсона, министра иностранных дел. Остальные только отмечались. В печать же они дали совсем по-иному, ледяная атмосфера, и все такое.
Шейсон мне на этот раз понравился, говорил красочно, откровенно, особенно по Чаду, со знанием предмета. Как сидит в них колониальное нутро, как прекрасно знают они, какие комбинации внутриполитические нужны, как решать проблемы. Но Бог рога не дает уже. Запомнилась мне одна его мысль: ведем себя на Ближнем Востоке пассивно, ибо нет возможности проводить политику в соответствии с нашими принципами. В Ливане попали они, конечно, как кур в ощип: не могли не влезть, а влезши, играют американскую игру. Под предлогом солидарности американцы теснят своих союзников.
Наш был в форме, терпелив, находчив, остроумен; произнес очень хороший тост. Словом, на этот раз все ОК».
15 сентября. «Тяжелый период переживаем. После этого самолета американцы пытаются подвергнуть нас, и небезуспешно, остракизму, общественное мнение резко повернулось против нас, «варваров». Насмарку, или около того, многомесячные усилия по восстановлению имиджа. Теперь американцам будет легче настоять на размещении своих “Першингов”. Наши друзья за рубежом либо отворачиваются от нас, либо встречаются с опаской. Гастроли летят, с убытками для Госконцерта, самолеты, наоборот, не летают с убытками для “Аэрофлота”. (Американцы сумели навязать ряду стран двухнедельный мораторий на полеты в СССР и из СССР.) Идет обмен крайне жесткими заявлениями, в них участвуют Рейган и Андропов. Лучшего подарка для Рона с его ярлыком “империя зла” не придумать. Андрей Андреевич теперь не едет в Нью-Йорк на сессию Генеральной Ассамблеи ООН, отсоветовал Добрынин».
Как не отсоветовать, если губернаторы штатов Нью-Йорк и Нью-Джерси заявили, что они откажут в праве на посадку самолета Громыко, пусть летит рейсовым. Такова была атмосфера в США, где дошло до призывов объявить войну Советскому Союзу.
Шульц в своей книге пишет, что демарш губернаторов был контрпродуктивным. Это дало предлог Громыко не приехать на сессию, которая обещала быть некомфортной для СССР. Себе в заслугу Шульц ставит, что, несмотря на сильный нажим hardliners (сторонников жесткой линии) внутри и вне администрации, он поехал на упомянутую встречу с Громыко в Мадриде. Ее он преподнес как «полное отсутствие конструктивности со стороны советских». Шульц, разумеется, не добавляет, что сам далеко вышел за рамки приличия, устроив спектакль в угоду Рейгану.
29 сентября появилась резко критичная в адрес США статья Андропова в «Правде», которая ставила точку: договориться с американской администрацией невозможно.
Все это, вместе взятое, добавило эмоций и жесткости в нашу реакцию на начало размещения американских РСД в Европе в ноябре 1983 г. И надо сказать, встревожило американцев. Рейган стал по крайней мере на словах отрабатывать назад. В январе 1984 г., ориентируясь также на предстоящие выборы, он произнес примирительную в отношении Советского Союза речь.
Запись 11 февраля 1984 г. «Надеждам не суждено было сбыться. Позавчера, в 16.50, пока мы в Волынском дошлифовывали его речь, умер Ю.В. У всех на устах одна и та же фраза: в кои веки достался неплохой лидер, и на тебе. Как же, должно быть, радуются воры». Назавтра было объявлено о новом генсеке – Черненко. «Наша группа крови», – прокомментировал Василий Макаров, старший помощник Громыко.
Пригласили на похороны Андропова на Красной площади, проход строго по пропускам. Морозец минус десять, и часть членов Политбюро – Горбачев, Кунаев шли за гробом от Колонного зала до Красной площади. Часть же – Черненко, Тихонов, Устинов, Громыко вышли сразу из тепла на Мавзолей. В глазах стоит грузная фигура Александра Евгеньевича Бовина, тоже участника «дачных посиделок» в легком плаще-болонье, несмотря на февральский холод. Вид совершенно отчаявшийся: сливай воду. Саша не скрывал острой жалости по поводу этой смерти. Горечи прибавляла безысходность. В самом деле, старая гвардия сплотилась насмерть, закрыла путь наверх единственному молодому (и способному!) Горбачеву. Большое число социальных и возрастных групп просто-напросто не представлено в управлении страной. Среди людей, с которыми разговаривал в те дни, почти повсеместное ощущение недовольства и злости. Долго ли будет править бал эта геронтократия?
В Москве ходили слухи, что Андропов именно Горбачева хотел видеть своим преемником, но это его предсмертное желание скрыто от членов Политбюро. Так оно и было, как выяснилось из воспоминаний его помощника, Аркадия Ивановича Вольского. Долгие годы мы были друзьями с этим прекрасным человеком. В утешение, правда, шепчут, что это последний раз, старики попросили: дайте досидеть до съезда. Следующий теперь точно Горбачев (слово «точно» оказалось, как мы увидим, неточным). И вроде есть договоренность, что он будет вершить дела за спиной больного Черненко.
И какое жалкое зрелище производили попытки скрыть тяжелое состояние нового генсека. Переносили заседания Политбюро, когда нельзя было больше скрывать, давали липовые сообщения. Во время выборов сооружали «потемкинскую деревню» избирательного участка возле ложа больного.
Несложный расчет показывает, что Константин Устинович оказался самым старым генсеком в истории нашей партии. В МИДе мы вернулись к «речевкам», т.е. пишем разговорные памятки, кои и зачитываются от первого до последнего слова, как в добрые старые времена. В принципе это было неплохо: памятки-то писали умные люди. Одно неудобство: каково смотреть, особенно с противоположной стороны стола, как вне зависимости от того, что сказал визави, зачитывается свой текст.
Анатолий Иванович Блатов накануне своего отъезда послом в Нидерланды в январе 1985 г. сказал мне: «Наследство Андропова не укрепляется, а разбазаривается, не хочу при этом быть. Юрий Владимирович любил, чтобы с ним спорили, предлагали варианты решений, позволял, чтобы говорили даже мало патриотические вещи. Мог, конечно, отбрить, но организационных последствий не было. Черненко – другой стиль, полностью полагается на подготовленные бумаги. Словом, вернулись к временам Брежнева. Это реакция аппарата на “андроповщину”».
Добавлю: какой же сейсмической точностью обладает номенклатура, как чутко чувтвует она возможные потрясения!
Кое-что, впрочем, оставалось по-прежнему, как и во всю мою предыдущую службу в МИДе: любой мало-мальский важный внешнеполитический вопрос направляется запиской в ЦК. Помечаю в дневнике: «Мельчают наши бумаги, а ведь процентов 80 можно было решить в МИДе, причем оперативно. Ограничиться бы подлинно принципиальными проблемами, но с серьезным анализом, вариантами, стратегической линией. Дать большую автономию, по крайней мере, в мелочах и даже средних вещах министру. Пусть он действительно будет ответственным за внешнюю политику, пусть решает сам, информируя верхи, а не спрашивая разрешение. Не идет министр на это, ведь если на акции стоит штемпель Секретариата ЦК или тем более Политбюро, она становится недопустимой для критики и даже для обсуждения».
Раньше еще можно было рассчитывать, что Юрий Владимирович подкорректирует ортодоксов. Помню его ответ на предложение об ответных мерах в связи с массовой высылкой из Франции наших сотрудников: «Французов пока не трогать». Хорошее словечко «пока»! Никто не решился вторично обратиться к Андропову по этому поводу.
Помечаю 21 февраля: «Поглядим, во что все это выльется. Пока что Ю.В. стараются побыстрее забыть, и всюду уже поют дифирамбы Черненко. (Например, «выдающийся политический и государственный деятель ленинского типа», «самоотверженно трудится на высших руководящих постах партии и государства», «вносит огромный, неоценимый личный вклад в разработку и критическое осуществление ленинской внутренней и внешней политики КПСС» и т.д. В ту пору мы просто не замечали такие хвалебные речи, а если разобраться, то это же полный абсурд.) Его, мол, единогласно предложило Политбюро, единодушно одобрил Пленум и с одобрением встретили вся партия и весь народ. А и в самом деле могут это утверждать, ибо все молчат: и на Политбюро, и на пленуме, и в партии, и в народе. Выходит, что прав Шеварднадзе, заявивший, что Черненко возглавил ЦК “по воле партии и народа”. Любопытно, сколько в итоге человек на верхушке, принявших данное решение, выразили эту волю? А почему бы, в самом деле, не избрать генсека хотя бы на пленуме среди нескольких кандидатур? Эх, хотя бы еще несколько годков Юрию Владимировичу…»
8 апреля 1984 г. «Жизнь пошла явно менее богатая новостями. Не зря часто слышишь: не успели сделать при Ю.В., теперь поезд ушел. Заправляют делами, пожалуй, больше всего двое – Громыко и Устинов. Гоним вооружения, в каком-то смысле Рейган оказался находкой, переговоров нет, с обеих сторон “ястребы” у власти. Бедные разрядочники гнезда Ковалева (я в их числе), крутятся, как могут, украшают жесткость позиции, надеясь тем самым ее смягчить.
Меньше работы, больше раздумий, окружающая действительность давала для них богатую пищу.
Выдержка из дневника: «Власть, по Марксу, если ее не сдерживать, стремится к саморасширению и к максимальному продлению своих полномочий. Это наш случай: в Союзе нет ничего, что бы ее ограничивало, разве что расхождения внутри верхушки. В итоге всесильное государство работает само на себя. Функции у него, опять же по классикам, охранительно-репрессивные. Вот оно и подавляет общество и личность, душит прогресс. Так что все очень просто: без политических перемен, без демократизации мы не шагнем вперед экономически.
Но как, можно сказать, диаметрально изменилась ситуация. Раньше мы в нашей стране жили ради будущего, жертвовали собой во имя грядущих поколений. Сейчас же фактически проедаем это самое грядущее, плохо работая, маразматируя, пьянствуя, все безнадежнее отставая от развитых стран.
Все убыстряется развитие мира, всякие там научно-технические революции, микропроцессоры, терминалы и т.д. Не для этих замысловатых мелочей создана моя великая Родина. Тяжело ей взнуздывать себя, гнаться за этими беспощадными янки или теми же японцами. У нас свои игры: единый политдень, выборы, на которых нет выборов, и все в том же духе. А с другой стороны, как сплотить, организовать эту огромную, многомиллионную массу, как привить ей общие взгляды и привычки? Не случайно в русской традиции так сильно: просвещать, воспитывать. И церковь этим занимается, и теперь вот партия. В том беда, однако, что значительная часть “воспитателей” не мыслит иначе своего статуса, как, прежде всего, натащить себе».
Страны «Первой Европы» впереди. Время от времени министерская работа давала просветления и в эту темную ночь перед рассветом. Памятным оказался визит в Москву короля Испании Хуана Карлоса. Большого навара с точки зрения практических результатов он не дал, но политический резонанс остался. Когда мы в последний раз принимали монархов, да еще таких симпатичных? Приятно было видеть в Грановитой палате во время торжественного обеда королеву Софию. Как-никак прямая праправнучка Николая I. Но вот смотреть на бедного Константина Устиновича, когда он, задыхаясь, пропуская целые абзацы, едва добрался до конца щадяще короткой речи, было тяжко. Пометил в дневнике: наибольшая нервотрепка была, как всегда, что дарить высоким гостям. Даже такой вопрос был вынесен на Секретариат ЦК.
Подтверждалось старое правило: двусторонние отношения последними поддавались ветрам холодной войны. Западноевропейские страны не заинтересованы в ухудшении международной ситуации, ибо это лишает их всякой свободы маневра. На волну «разрядки», пусть и поневоле дозированной, они пытались настроить и американцев, и нас. Выделялись такие деятели, как французский президент Франсуа Миттеран и итальянский премьер Джулио Андреотти (хорошие были времена, не сравнить с сегодня).
Визит последнего к нам в апреле 1984 г. завершился – впервые за последний период – совместным документом с западной страной. Не бог весть что, но все же некое подобие желания договориться. Ни Громыко, ни еще больше Корниенко не верили, что с итальянцами возможно что-то позитивное. И как ясен был водораздел между теми, кто радовался даже небольшим подвижкам, и теми, кто придирался, язвил, ерничал. Нечего и говорить, что таких было больше.
Авансы Андреотти о возможных развязках, в том числе по ракетам средней дальности, были приняты Корниенко мрачно. А идея Джулио была не плоха: мораторий с обеих сторон сразу; «ноль» у американцев; у нас остается эквивалент ядерного оружия Англии и Франции. Какого-либо развития эти идеи не получили.
Немного о дипломатической технологии в трудные времена. Цитирую дневник: «Задачу завершить визит Андреотти совместным документом разыграли – пользуясь доверительными отношениями с послом Италии в Москве Джованни Мильуоло – как по нотам. Можно буквально в ковалевскую “Азбуку дипломатии”:
– придумали у себя в Отделе, что это будет моноблок, т.е. не коммюнике по всем вопросам, где неминуемо всплывут разногласия, а заявление в пользу разрядки;
– сочинив его и проведя через министра, “продали” как саму идею, так и основные контуры заявления послу;
– Мильуоло послал ее, идею, в Рим как свою (на нашу там среагировали бы хуже), и она вернулась оттуда к нам как предложение Андреотти; его привез в Москву посланник Данови – блондин, делающий губы бантиком, как достопамятный Джиджи Лонго; мы бумагу в два сеанса согласовали, быстро также потому, что я итальянцев не обманывал, руки не выкручивал: не хотите – как хотите;
– проект заявления был внесен в Инстанцию – вся игра была также для того, чтобы облегчить прохождение через ЦК; там поднялся легкий “шухер,” военные не хотели одну фразу по химическому оружию. Громыко пошел им навстречу, а я легко провел через посла поправку в уже согласованный текст.
Словом, из кожи вон лезли ради разрядки. К сожалению, у партии мира победы бумажные, а у партии войны – ракетные».
Разрядочный потенциал приезда в Москву Миттерана в июне 1984 г. также остался втуне. Старался Митя, так мы называли французского президента в своем кругу, очень, вручил даже орден Почетного легиона городу Волгограду. Но его разумные речи были восприняты как игра на публику.
К тому же в выступлении на обеде в Кремле Миттеран упомянул Сахарова и его незаконное заточение в городе Горьком. По нашей формулировке, вопрос о Сахарове «находится вне контекста международной политики». В изложении советской прессы тост Миттерана был цензурирован, причем обидным образом: «далее распространялся…». Это также снизило эффект от встречи на высшем уровне. Где ты, «разрядка» второй половины 1970-х, где ты, константа наших отношений с Францией?
«Подготовка документов, – записал я в дневнике, – далась с гораздо большим трудом, чем с итальянцами, но в общем без надрыва, несмотря на волнения Ковалева. Конечно, Коля Афанасьевский (замзавотделом по Франции. – А.) – огромная помощь. Почти все бумаги я зачитывал вслух министру, вообще имел с ним частый и в целом позитивный контакт, хотя иногда чувствовал себя начинающим укротителем, входящим в клетку со львом».
«Французы, как всегда, требовали для своего президента все новых и новых поблажек, первоначальной программой не предусмотренных, и почти все получили, хотя и вызвали законное раздражение у Громыко. Характерный пример: два раза я с его подачи отказывал им в телевизионном выступлении “Мити”, а на третий – переиграли: дали согласие, хорошо еще, что не через меня. На этот раз проявил характер Константин Устинович, который вообще вел себя более примирительно».
«Раздрай обнаружился и по более серьезным делам. Черненко обещал подумать над проблемами, которые пробрасывал Миттеран по самым трудным темам, включая зачет ядерных сил Франции. Минобороны на все сказало «нет». Беда в том, что ни мы, ни США договариваться не хотим, находясь – и те и другие – во власти военно-промышленного комплекса».
«Мы горды тем, что стоим непреклонно. Прекрасный предлог – не желаем ни в чем помогать переизбранию Рейгана. Уперлись стенка на стенку и под этим прикрытием гоним вооружения и закручиваем гайки. Вместе с тем сторонники разрядки, где могут, тянут в свою сторону, так что есть у нас и миролюбивые высказывания (чем сильно гордится Ковалев), и визиты типа испанского короля, и даже потихонечку заигрывание с Рейганом.
Жесткую линию олицетворяют, безусловно, МИД и МО. Константину Устиновичу справа их не обойти, и ,чтобы упрочить свои позиции, он пытается маневрировать; не очень ему нравится, что в международных делах везде глухо. Ком тужур, внешняя политика используется в функции внутренней. Но шансов на послабление нашей линии, по-моему, нет. Когда внутри все трещит – не до разрядки.
В условиях полной безнаказанности дело вновь поворачивается к привычному маразму и всепрощению – для своих, разумеется. Мол, народ и так трясет, хватит разных разоблачений и судов. Даже явные казнокрады вроде Щелокова и краснодарского секретаря самого страшного, кажется, избежали. Круговая порука, как и прежде, торжествует».
И дальше: «Тяжелый этап прохожу с министром. Все его мысли наверху, где никому не известный Горбач решительно выходит вперед. А.А. в постоянном напряжении. Плюс старость, перепады настроения. Не обсуждение по существу, до которого и добраться-то трудно, а жесткое выговаривание. Поскольку сейчас готовятся его визиты в Испанию и одновременно в Италию, приходится часто с ним общаться, и в отличие от подготовки приезда Миттерана не проходит случая, чтобы не нарваться на окрик. При обсуждении испанской программы пребывания имел неосторожность упомянуть дворец Эскориал. Полувзрыв: “Как можете мне, коммунисту, предлагать посещение усыпальницы королей?”»
Но задор отстоять точку зрения, которую считал правильной, брал свое. Такая запись: «Приятное ощущение от того, что вступил в бой с явно превосходящими силами – Громыко, Корниенко, Комплектов – и несмотря на ряд чувствительных уколов от министра: “ерунду говорите”, “наивно рассуждаете, не политически” и даже “Вас что, из коробки вынули, где пролежали пять лет?” – стоял до конца. Заключая, А.А. сказал: “А Адамишин-то прав”». «Ты тоже хорош, терпел от хама» (2024 г.).