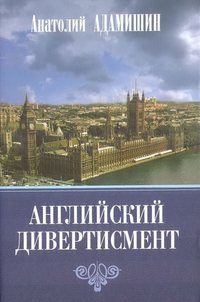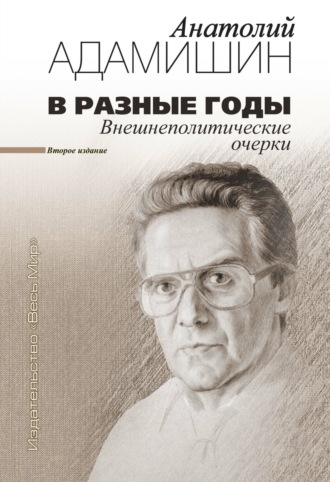
Полная версия
В разные годы. Внешнеполитические очерки
Нельзя не сказать, что скверную роль играло окружение: при беспрерывном поддакивании, отсутствии возражений, лести трудно было не уверовать в свою непогрешимость. Отсюда мгновенное раздражение против попыток, даже в «бархатных перчатках», сказать что-то поперек.
Андропову принадлежит фраза: не только власть портит людей, но и люди власть. Он выразил эту мысль стихами: «Сбрехнул какой-то лиходей, / Как будто портит власть людей. / О том все умники твердят / С тех пор уж много лет подряд, / Не замечая (вот напасть!), / Что чаще люди портят власть».
У итальянского государственного деятеля Джулио Андреотти своя точка зрения на сей предмет: «Власть портит людей, которые ее не имеют». Он, правда, находился во власти несколько десятилетий.
Но вот, к примеру, Алексей Николаевич Косыгин или Василий Васильевич Кузнецов, те же Степан Васильевич Червоненко или Семен Павлович Козырев, наконец, Георгий Маркович Корниенко и многие другие, обладая прекрасными профессональными качествами, еще и следовали правилу, когда-то сформулированному Лениным: «Начальство не имеет права на нервы».
Громыко и система – «близнецы-братья». Могут возразить: тогдашняя действительность жестко диктовала свои законы, а что до долгожительства, то любой политический деятель стремится как можно дольше остаться наверху. Но, спрашивается, каким путем? Тем, который обусловлен окружающей средой, в которой протекает деятельность личности, прежде всего, сложившейся политической системой.
В нашей стране она была сработана по лекалам Ленина и подправлена, по выражению британского историка Роберта Конквеста, «жутким гением» Сталина, став в конечном счете весьма близкой к монархической. Несколько модифицированная XX съездом КПСС, она, понеся потери, выдержала атаку перестройки и сейчас все больше приобретает знакомые до боли очертания.
В нее не заложены такие составляющие, как честные выборы, независимые друг от друга ветви власти – исполнительная, законодательная и судебная, а также свободная пресса. Тем самым нет места для открытой политической конкуренции, крайне затруднены периодическая смена руководства и действие принципа меритократии, требующего отбора по способностям.
«Зато» есть другие «ноу-хау» большевиков – отстранение громадного большинства населения от политической жизни, ложь, порочный социальный контракт. Он с самого начала зиждился на неадекватном обмене: государство берет на себя заботу о благосостоянии людей, точнее, поддержании их, как показала практика, невысокого жизненного уровня, а взамен отбирает свободу. Права, законность, справедливость заменяет политическая целесообразность. Что целесообразно, что нет, решает власть.
Дефекты системы настолько очевидны, что время от времени предпринимаются попытки реформировать ее. Что касается первой, то прав, наверно, Черчилль, сказавший, что России не повезло дважды: когда Ленин родился и когда он умер. Введенный Лениным НЭП (после знаменитого признания «пошли не тем путем») стал временем плюрализма в экономике, быстро восстанавливавшей свои силы, гражданского мира при умеренной роли партии (партийцы составляли только 12 процентов госслужащих, а деревня на три четверти была без партийной прослойки), временем буржуазных спецов, дискуссий, расцвета марксистской мысли и культуры. Начиная с 1929–1930 гг. сталинская «революция сверху» смела нэповскую Россию. В 1928 г. в СССР насчитывалось 30 тысяч заключенных, в 1935-м – 5 миллионов, в 1939-м – 9 миллионов. Начавший было «размягчаться» авторитарный режим выродился в сталинский террор. Но выборная ширма сохранилась. Циничный афоризм вождя: не важно, как голосуют, важно, кто подсчитывает голоса, – действовал, как и в 1930-е годы, так и в наше время.
На место посаженных и расстрелянных раз за разом приходила новая поросль, благодарная лично Сталину за то, что он их поднял наверх. Так формировался плотный слой государственной и партийной бюрократии. Можно считать, что это была третья смена верхнего слоя за какое-то десятилетие с небольшим. Годы революции и Гражданской войны уничтожили царскую элиту. Вакуум заполнили «образованные» большевики, среди которых преобладали евреи, армяне, грузины. Призывы, которые Сталин фарисейски назвал «ленинскими», а люди типа Бухарина именовали «мужицким царством», уничтожили старую большевистскую гвардию. Едва вновь пришедшие начинали разбираться что такое управлять страной, как их постигала судьба только что освободивших место.
Чтобы преуспеть в социально-политической среде подобного рода, личность должна была заботиться в первую очередь о том, как упрочить свое положение в системе. Во вторую, добившись своего, – как увековечить благоприятный для себя habitat. Сама превратная логика отодвигала интересы дела на второй план.
Андрею Андреевичу нравилось спрашивать у допущенных к нему чиновников: «Какая дипломатия важнее, внешняя или внутренняя?» Надо было отвечать – внутренняя, и министр, довольный, смеялся.
Кремлевские «игры» требовали отточенного инстинкта. Громыко ни разу не ошибся в выборе лидера. Будь то Хрущев, боровшийся с антипартийной группой, где был громыкинский ментор Молотов, или Брежнев, свергавший Хрущева. В развернувшейся еще при живом Брежневе подспудной борьбе за власть между группами Андропова и Черненко Громыко безошибочно выбрал первого.
Через год с небольшим умирает Андропов, прямо указавший на Горбачева как своего преемника. (Как говорили древние римляне, «по качествам наследника судят о предшественнике».) Однако тот успел проявить свои опасные новаторские качества. Старейшие члены Политбюро, среди них Громыко, перекрывают Горбачеву дорогу. Выбирают Черненко («нашей группы крови»), прекрасно отдавая себе отчет, что он тяжело болен и не способен управлять «сверхдержавой», как гордо называли тогда Советский Союз. Впрочем, от генсека это и не требовалось. Его миссия – погибнуть, но сохранить геронтократию у власти. Позже Е. Чазов напишет, что когда он спросил Устинова, как же Черненко пропустили на пост генсека, тот ответил: «Другого выхода не было, так как на это место претендовал Громыко, и это был бы далеко не лучший вариант»[58].
Спустя всего тринадцать месяцев умирает Черненко. Докладывая о его кончине на заседании Политбюро 11 марта 1985 г., Е. Чазов сказал: «Вы, товарищи, знаете, что Константин Устинович длительное время тяжело болел и последние месяцы находился на больничном режиме». Становится вроде невозможно более не пускать во власть Горбачева. Но расклад не столь очевиден: со смертью Устинова Михаил Сергеевич, по его собственному признанию, остается без союзников. Существовало опасение, что когда вопрос о преемнике будет решаться на Политбюро, кто-то, типа Гришина или Романова, рванет со второй позиции. Горбачев обращается к Громыко. Он не ошибается адресом. Андрей Андреевич делает точный выбор и способствует успеху победителя.
Михаил Сергеевич вспоминает: «До речи Громыко на решающем заседании Политбюро я никогда не слышал таких слов в свой адрес». «Такого панегирика в честь будущего Генерального секретаря стены Мраморного зала в Кремле еще не слышали», – так, в свою очередь, характеризует выступление Громыко на пленуме ЦК Чазов[59].
Игра стоит свеч: пребывание Громыко у власти в качестве члена Политбюро ЦК КПСС и председателя Президиума Верховного Совета продлено еще на три года. Потом Горбачев дипломатично скажет: были, мол, проблемы со сменяемостью руководителей.
Одним из приемов оберегать систему была ложь. Отсюда – очковтирательство, приписки, по сути дела, государственный обман. Отсюда же абсолютная необходимость изолировать информационное поле страны от внешних источников. (Помню, как мы, несколько студентов, стали учить польский язык: в газетном киоске Университета на Моховой продавались польские газеты, более свободные, чем наши.)
Другой императив – насаждение секретности. «Громыко, – пишет Добрынин – был просто одержим секретностью… Порой многие советские дипломаты ничего толком не знали о наших позициях, тем более, о динамике их развития»[60]. В анекдоты вошел случай, произошедший уже в перестройку: в ходе переговоров американцы стали приводить какие-то цифры о наших вооружениях. Высокий военный чин с нашей стороны не выдержал: «Замолчите, это секретные данные». Секретили зачастую не только и не столько тайны, сколько промахи и изъяны. За покровом секретности пряталась скверна.
Мы воспитывались на запретах. У известного дипломата Александра Бессмертных есть любимая история насчет одного американца в Москве, который нанял русскую няню к своему ребенку. Первое слово, которое произнес младенец, было «нельзя».
Почти все наши неурядицы, не побоялся сказать как-то Андропов, упираются в низкий уровень культуры – общей и политической, культуры ведения дел и культуры общения. И действительно, несмотря на все курсы и семинары, а может быть, как раз благодаря им, политическое сознание удерживалось на невысоком уровне. Идеологическая зашоренность носила почти религиозный характер.
Особенно «пудрило мозги», как мы тогда выражались, телевидение, что дополнялось жесткими действиями репрессивного аппарата. В острых случаях, как в Новочеркасске в июне 1962 г., не останавливались перед стрельбой по протестующим.
Во время перестройки стало известно, что это был не единственный случай. Глава КГБ В. Чебриков на заседании Политбюро привел такие данные: «С 1961 по 1967 год были десять случаев выхода людей на улицу, и против них применялось оружие»[61]. После 1968 г. таких эксцессов больше не наблюдалось: власть научилась купировать недовольство другими методами. Добавлю, что причиной манифестации стало повышение цен. Это может быть дополнительным объяснением, почему в перестройку М. Горбачев и Н. Рыжков, опасаясь социального взрыва, так долго оттягивали решение вопроса о ценах. В конце концов, цены на ряд продовольственных товаров были повышены (реформы Павлова), но, как довольно быстро выяснилось, неудачно.
…Красноречивый эпизод: на заседании Политбюро 12 июля 1984 г. генсек Черненко предлагает обсудить за пределами повестки дня вопрос о восстановлении в партии Маленкова и Кагановича, как они того просят. Чуть раньше аналогичное решение было принято закрытым порядком по Молотову. Гришин без лишней огласки уже вручил ему партбилет. Но насчет этих деятелей Тихонов и Чебриков высказывают сомнения, к этому же склоняется Черненко. Но тут слово берет Устинов, сразу же поддержанный Громыко. Они за то, чтобы «восстановить в партии эту двойку».
Далее все хором ругают Хрущева за разоблачение сталинских деяний. Устинов подчеркивает: «Ни один враг не принес столько бед, сколько принес нам Хрущев своей политикой в отношении прошлого нашей партии и государства, а также и в отношении Сталина». Ему вторит Андрей Андреевич: «По положительному образу Советского Союза в глазах внешнего мира он (Хрущев. – А.) нанес непоправимый удар»[62].
Знали ли защитники Молотова, Маленкова и Кагановича, что те лично в 1937–1938 гг. санкционировали 38 679 смертных приговоров, т.е. 3167 в один день? Должны были бы знать, поскольку эти данные были обнародованы в июне 1957 г., когда Хрущев разоблачал «антипартийную группу», все тех же Молотова, Маленкова и Кагановича[63].
Как отмечает Анатолий Федорович Добрынин, «Сталин в целом благоволил к Громыко и считался с его мнением. Громыко, отличавшийся крайней сдержанностью, уже после смерти Сталина в редких частных беседах говорил о нем с заметным восхищением»[64]. Это подтверждает и Юлий Воронцов: «Громыко относился к Сталину, как и все сталинские выдвиженцы, с большим почтением. Не сомневался в его несказанной мудрости»[65].
Но сталинистом он показал себя гибким. Когда в период перестройки потребовалось, по крайней мере на словах, сменить ориентацию, высказывания Громыко были весьма критичными в адрес того самого руководства, в составе которого он находился много лет.
Заслуги Андрея Андреевича Громыко несомненны и хорошо известны. О другой, основательно нагруженной чаше весов, предпочитают не вспоминать. Промахи как бы не имели касательства к Громыко, списываются на «то» время, на «те» порядки. Но это были такие порядки, которые полностью отвечали интересам достаточно узкого сектора нашего политического устройства – высокой номенклатуры; служить системе означало в конечном итоге служить себе.
Последний раз я видел Громыко, Председателя Президиума Верховного Совета СССР, 20 мая 1986 г. Мне позвонили из его секретариата и попросили прийти на встречу с испанским премьером Гонсалесом, хотя в новые мои обязанности (я был только что назначен заместителем министра и «переброшен» на Африку) это не входило.
Ларчик открылся просто. Задержав меня после официальной беседы с испанцем в Екатерининском зале и впервые назвав по имени-отчеству, Андрей Андреевич попросил меня передать его просьбу Ковалеву (тот стал при новой власти первым замминистра), чтобы он замолвил слово перед Шеварднадзе: пусть «не прижимают» его, Громыко. Он говорил, что не раз спасал Ковалева, а если что и делал не так, то потому, что была воля сверху или по ошибке. Меня же он уверял, что мое повышение вызревало еще при нем, и он не довел его до конца лишь потому, что знал о своем уходе. (Ну-ну, сказал я про себя, в МИДе-то знали, сколько и каких людей повысил Громыко по службе в последние дни пребывания министром.)
Ковалеву, естественно, я громыкинскую просьбу передал. Тот на минуту задрожал: «Как я скажу об этом Шеварднадзе, что имеет в виду Андрей Андреевич, его ведь никто не обижает».
Гадал, почему Громыко обратился ко мне с такой просьбой. Разгадка пришла через двадцать с лишним лет, когда прочел у Юлия Воронцова: «Громыко постоянно опасался, что кто-то его там, в верхах, будет подрубать»[66]. Понял я и скрытое извинение перед Ковалевым – за вычеркивание из партийного списка.
Яснее стала мне незавидная участь тех, кто, подобно Громыко, был порождением, героем и хранителем сталинской системы. В их генах надолго поселились тревога и страх.
Если верить историкам, первые не поротые дворяне вышли декабристами на Сенатскую площадь. Сталинские порки искоренили декабристскую смелость. А защитить личность, даже номенклатурную, судьба которой зачастую зависела от воли одного человека, было некому. В стране отсутствовали демократические институты, призванные выполнять эти функции. Парадокс в том, что они казались и до сих пор кажутся правящей верхушке наиболее опасными.
Власть М. Горбачев получил «на серебряном блюдце». По крайней мере, так показалось неплохому знатоку нашей действительности, бывшему послу Италии в Москве Серджо Романо. Он имел в виду, очевидно, тот факт, что Горбачев, как и все его предшественники, не прошел через жернова политической конкуренции, характерной для стран Запада. Но ему пришлось выдержать партийный отбор, вряд ли более приятный. А вот насчет того, что «завершилось самое длительное на земле в двадцатом столетии правление старцев», Романо прав. И, судя по состоянию страны, которую они передали Горбачеву, завершилось плачевно.
Как это делалось в годы Горбачева и Шеварднадзе
Блажен, кто посетил сей мир В его минуты роковые!
Ф.И. ТютчевОчерк седьмой
Рывок в историю
Март 1985 г. Мне пятьдесят, уже восьмой год я заведую Первым Европейским отделом МИДа. Только что посмотрел по телевидению, как восторженно встретил пленум ЦК избрание генсеком Михаила Сергеевича Горбачева. А ведь хорошо помнилось, какими подавленными выходили люди с прошлого пленума, где был «избран» Черненко. Даже искушенное телевидение не могло тогда скрыть их разочарования.
Наконец-то молодое, приятное, можно сказать, вдохновенное лицо. Да и выпускник МГУ, «моего» вуза, что тоже привлекает. Проснулась почти уже исчезнувшая надежда, что страна выйдет из «пьяного застоя», как стали называть впоследствии брежневское время.
Курс меняется. Перестройка, точнее, ее первые годы, была, пожалуй, единственным временем в моей сорокалетней мидовской службе, когда не возникал люфт между тем, что делал, и тем, во что верил. Эйфория поначалу была всеобщей. Кто был на седьмом небе, так это закоренелый «разрядочник» Анатолий Гаврилович Ковалев. Меня он настроил еще раньше, сказав на заснеженных тропинках у кунцевской больницы, куда залег, пережидая смену: «Если придет Горбачев, Вам хуже не будет».
Обычно крайне осторожный Ковалев проявил твердость на грани фола, когда во времена Черненко решался вопрос, сопровождать ему или нет Горбачева, тогда секретаря ЦК, в поездку в Англию. Громыко определенно был против, Ковалев ослушался. Это была та памятная встреча с Тэтчер, после которой глава британского кабинета особо выделила Михаила Сергеевича и, надо признать, была на его стороне до конца. Только в 2013 г. узнал, что Ковалеву ослушание даром не прошло: Громыко предложил ему уйти на пенсию. Анатолий Гаврилович с присущим ему искусством «замотал» это предложение, чтобы после ухода Громыко стать первым замом у Шеварднадзе.
Внешняя политика, доставшаяся Горбачеву весной 1985 г., по своей идеологии мало чем отличалась от той, что Брежнев унаследовал от Хрущева, а тот, в свою очередь, от Сталина. Ее альфой и омегой была борьба двух общественных систем. При желании можно было бы обратиться к истокам: «Первая заповедь нашей политики… это помнить, что мы окружены людьми, классами, правительствами, которые открыто выражают величайшую ненависть к нам»[67].
Более тридцати лет оставалась в силе сталинская директива: «Наш враг номер один – Америка». Холодная война время от времени прерывалась краткими периодами разрядки, но сути дилеммы: «кто кого закопает» – это не меняло.
Четверть века спустя первого издания наш враг номер один все та же Америка. Вот где константа, что непреложно показал исторический опыт, говорю я себе, всю жизнь боровшемуся за разрядку и кое-чего добившемуся. Квадратура круга проста: США были, есть и неопределенное время будет сильнее нас. Многие десятилетия это не устраивало нас с идеологической точки зрения. В итоге социализм, а вместе с ним Советский Союз потерпел поражение. С ослабевшей державой не церемонились, и жажда реванша постоянно давала о себе знать. Наконец, мы военным путем пытаемся разомкнуть круг. Вот та канва, на большее не претендую, которую стоит иметь в виду, продолжая чтение.
Идею коренного переустройства Горбачев вынашивал давно. Придя к власти, он не стал медлить. Но с первых же дней столкнулся с сопротивлением.
«Как только коснулись внешней политики, – сказал он как-то, – сразу попытка наложить табу, тут все, что делалось и происходило, было, оказывается, правильным. А между тем непомерно большая часть национального дохода шла на вооружения. Разорили страну, держали народ впроголодь, запороли сельское хозяйство. Зато сидели верхом на ракетах. Это называлось классовым подходом. Какой это, к чёрту, социализм!»[68]. А вот социализму Горбачев оставался верен до конца.
Позже на Политбюро будет названа цифра: на оборону мы тратили в расчете на душу населения в два с половиной раза больше, чем в США.
Менял Горбачев внешнюю политику по нескольким стратегическим направлениям сразу (что, кстати, говорит о предварительном продумывании действий): снижение напряженности по линии СССР–США, Восток–Запад; торможение гонки вооружений; полная нормализация отношений с Китаем – об этой заслуге Горбачева иногда забывают; принципиально иной подход к отношениям с «братскими странами».
Руководителям государств Варшавского договора, приехавшим на похороны Черненко, Горбачев сказал определенно: времена доктрины Брежнева миновали. Той самой, что допускала и на практике осуществила вооруженное вмешательство «ради спасения социализма». «Хочу вам прямо заявить как Генеральный секретарь ЦК КПСС, что мы полностью вам доверяем, что у нас отныне не будет претензий контролировать, командовать. Вы проводите политику, продиктованную национальными интересами, и несете за нее полную ответственность перед своими народами и партиями»[69]. В этих, казалось бы, само собой разумеющихся словах был смысл, не всеми, наверное, сразу понятый: мы снимаем с себя многолетнее бремя ответственности за выживание восточноевропейских режимов.
Начались, наконец, поиски выхода из афганской драмы. Уже в апреле 1985 г. Михаил Сергеевич поговорил решительным языком с Кармалем, заявив: мы уйдем. До него это уже было сказано Андроповым, но дальше слов дело не пошло. Горбачев же вскоре добился единодушия Политбюро в вопросе принципиальной важности – уходить. Сколько лет оттягивало этот шаг прежнее руководство, подступая к нему и опять откатываясь назад, не признавая ошибку или просто не обладая достаточной решимостью.
Был пересмотрен подход к конфликтам так называемой «малой интенсивности», за кулисами которых почти всегда стояли СССР и США. К тому времени мы завязли в целом ряде из них: в Анголе, Эфиопии, Мозамбике, Никарагуа. Значительные силы и средства расходовались за тысячи километров вдали от наших границ, не принося ощутимой пользы.
Обжегшись в свое время на афганских офицерах, объявивших себя сторонниками социализма и втащивших нас защищать их «революцию», мы тем не менее вплоть до перестройки продолжали разбазаривать средства на поддержку «социалистических и прогрессивных режимов». По большей части в них было мало что социалистического или прогрессивного. Успехом считалось перетащить на свою сторону, желательно к очередному съезду КПСС, ту или иную страну из другого лагеря. При Горбачеве от сложившейся десятилетиями практики стали отходить.
Любопытно, что поддержка революционных сил за рубежом была существенно сокращена в предвоенные годы, за что Троцкий обвинял Сталина в предательстве. Когда он писал о «преданной революции», то имел в виду не только Октябрьскую, но и мировую. На волне победы в войне и несомненного ослабления капиталистической системы советское руководство вернулось, условно скажем, к малому экспорту революции.
Но перестроечный подход не был под одну гребенку, интернационализм оставался лозунгом дня. Советский Союз не отказался от морально обоснованной поддержки Африканского национального конгресса в ЮАР, продолжил оказание щедрой помощи Кубе – несмотря на настойчивые настояния американцев – и Вьетнаму.
В итоге перестройка дала мощный импульс национально-освободительному движению, ибо записала в свой актив такие результаты, как обретение независимости Намибией, последней колонией в Африке, и конец апартеида в ЮАР.
Но отношения все более вводились в русло государственных интересов. Так, мы не дрогнули ограничить роль Кубы как глашатая и спонсора (в основном за наш счет) мировой революции.
Ободренный происходящими переменами, беру слово 20 апреля 1985 г. на коллегии, которую ведет первый зам Корниенко. Обсуждаем план работы, и я предлагаю расширить тематику, ставить на обсуждение действительно важные аспекты нашей политики, такие как Афганистан, переговоры по ограничению вооружений и т.д. Максимум, говорю, до чего мы доходим, это Южный Йемен или Шри-Ланка. Молчание, никто не высказывается в поддержку, даже Ковалев, но он хотя бы согласно кивает. Георгий Маркович вроде не возражает, но в те месяцы, когда министром оставался Громыко, ничего в МИДе не изменилось.
Запись в моем дневнике 25 мая: «На ланче для итальянской парламентской делегации ни капли спиртного: приняты решения об искоренении пьянства. Ребята, ведающие отношениями с Болгарией, рассказывают, что плачут болгары: у них перестали закупать вино, не знают, что делать с виноградниками, которые создали по договоренности о специализации с СССР. Ближе к обыденной жизни: страдали и посетители пивного ларька на железнодорожной станции подмосковного Быково. Было это единственное место, где люди встречались. Стали поговаривать, не перебарщиваем ли?
Но когда прочел цифры, преданные гласности в перестройку, ахнул:
– душевое потребление чистого алкоголя в 1984 г. – 8,3 литра, что в 4 раза превышает уровень сороковых и пятидесятых годов и в 2,2 раза – уровень дореволюционной России (это без самогона и домашних вин);
– затраты на спиртные напитки на душу населения сопоставимы с расходами на мясо, молоко, хлеб, вместе взятыми;
– 4,3 миллиона алкоголиков на учете, 9,3 миллиона подобрано на улице. По продолжительности жизни мужчин СССР на последнем месте не только среди развитых капиталистических государств, но и социалистических стран;
– в 1914 г. в России торговля спиртными напитками была запрещена повсеместно; в 1919 г. запрет на производство и продажу спиртных напитков был узаконен. Вплоть до 1928 г. (до Сталина! – А.) страна была одной из самых малопьющих в мире – 1,6 литра на душу населения в год.