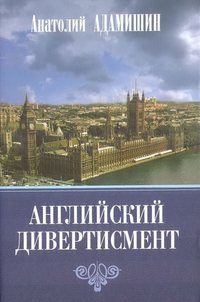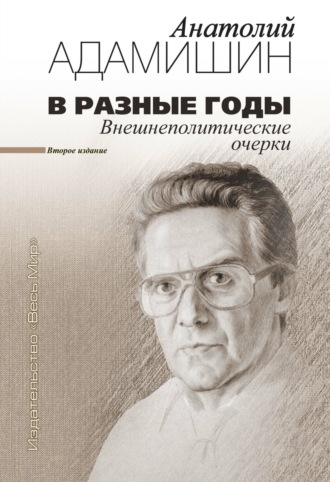
Полная версия
В разные годы. Внешнеполитические очерки
У нас же с американцами господствовал его величество паритет. В итоге переговоры превращались в многолетние и изнурительные перетягивания каната. Плюс к этому продвижение сильно зависело от общего градуса напряженности. Так, в 1975 г. работа над Договором по ОСВ-2 надолго застопорилась из-за Анголы.
В марте 1977 г. Картер предложил пойти по пути ограничения стратегических наступательных вооружений дальше тех параметров, которые были согласованы на встрече Брежнева с предыдущим американским президентом Фордом во Владивостоке в ноябре 1974 г. Но уже они вызвали сопротивление военных, и Брежневу пришлось применить сильнодействующие средства, чтобы добиться их согласия. В Москве, как мне рассказали мидовские «разоруженцы», расценили инициативу Картера как подрывающую Владивостокские договоренности и дающую односторонние преимущества США и отклонили без серьезного обсуждения у нас внутри. Это подтверждает в своих мемуарах Добрынин. Он считает, что по крайней мере стоило попробовать использовать американские предложения для поисков договоренностей[33]. Работа над договором ОСВ-2 была вновь заторможена на пару лет. Но не обошлось без аллергии на права человека: картеровское «увлечение» ими явилось дополнительным фактором против.
Переговоры завершились лишь в 1979 г., спустя почти семь лет после начала. Договор предусматривал количественые ограничения (потолки) на все виды стратегических наступательных вооружений, сокращение некоторых из них, а также запрет на производство определенных видов оружия. Впервые было согласовано равное для обеих сторон суммарное число стратегических ядерных вооружений. Также впервые устанавливался детальный режим проверки. Но договор, направленный в Сенат США для ратификации, был отозван после ввода наших войск в Афганистан. Повторю: наши разоруженцы считают, что договор вряд ли был бы ратифицирован в любом случае. Сенат США долго волынил его, придираясь к качественным характеристикам советского бомбардировщика, знаменитого «Бэкфайера». Де-факто, так сказать, по умолчанию договор как будто бы соблюдался. СССР и США, осуществляя модернизацию своих стратегических сил, придерживались основных его ограничений. После заключения, вплоть до перестройки, т.е. шесть лет кряду, с американцами вообще ничего договорено не было. Тем временем гонка вооружений набирала обороты.
Другой пример «долгостроя»: венские переговоры по обычным вооружениям в Европе. Они начались в 1973 г., безрезультатно тянулись вплоть до перестройки, получили при Горбачеве новый формат, возобновились в 1989 г. и завершились в ноябре 1990-го.
«Наша незыблемая, научная, математически рассчитанная, гранитная основа – равенство», – внушали нам на коллегии. Научность сводилась к простой арифметике: иметь не меньше оружия, чем все потенциальные противники. Еще более научным был термин «стратегический паритет». Он был и наиважнейшим, ибо исходили из того, что только он может спасти нас от войны. Но вот что это означает, не разъяснялось. Оказывается, не знали. Это выявилось только в перестройку. Забегая вперед, процитирую Горбачева: «Никто на Совете обороны так и не смог мне толком объяснить, что такое стратегический паритет. Это вопрос не статистики, а военно-политический вопрос. Стратегический паритет – в том, что мы имеем надежную гарантию обороны страны. И противник не пойдет на нас, ибо получит неприемлемый ответный удар. (Французский метод! – А.) Если мы предвидим такой результат, то паритет есть. А если мы будем подсчитывать: винтовка у них – винтовка у нас, тогда надо кончать со строительством социализма. Я задаю вопрос: что, мы и дальше будем превращать страну в военный лагерь?»[34].
Корни паритета тянутся далеко. Военная доктрина, утвержденная высшей партийной инстанцией летом 1939 г., нацеливала на то, что все наши западные соседи есть вероятные противники. С ними предписывалось иметь равенство по численности вооруженных сил и превосходство в авиации, артиллерии и танках. В наше время фигурировали во главе списка США и НАТО, но был там и Китай.
Слушал я однажды, как Корниенко методично втолковывал иностранному дипломату, что мы не можем исключать ситуации, когда придется противостоять не только США и НАТО, но одновременно и Китаю. В совокупности это около 10 миллионов человек под ружьем. Следовательно, мы имеем право на соответствующую прибавку оружия. В другой беседе говорилось: мы не можем закрывать глаза на то, что есть не два, а пять ядерных потенциалов. Никто из них не давал подписки, что не будет применен. Вполне реально возникновение такой ситуации, когда советскому арсеналу пришлось бы противостоять всем четырем остальным.
Готовясь к войне по всем азимутам, мы, как пушкинский царь Додон, должны были «содержать многочисленную рать».
Шестого мая 1985 г., через два месяца после прихода Горбачева к власти, министр обороны С. Соколов объявил в интервью ТАСС: «Паритет между СССР и США, Варшавским договором и НАТО объективно существует сегодня». Про себя мы считали (наивно!), что равенства мы достигли в середине 1970-х, затем Рейган сломал его, нам пришлось восстанавливать.
В Перестройку конфронтация с США отошла как бы на второй план. Одновременно прояснилось, что одной военной составляющей (именно на оружие была направлена львиная часть ресурсов в ущерб другим направлениям) далеко не достаточно. Мы отстали фактически во всех областях соперничества, да и – если строго судить – в военной, но мы этого старались не замечать.
К счастью, никто не проверил на практике, как повел бы себя в деле наш гигантский ядерный потенциал. Проиграли гонку вооружений без единого выстрела, точнее, без единого запуска ракет.
Это, кстати, придавало аррогантности постсоветской номенклатуре – военного поражения она не потерпела. Довольно быстро стали забывать, какой чудовищной силой обладает ядерное оружие, безответственно намекая во время крымского кризиса на возможность его применения. Вновь засветились потухшие было предвестники ядерной катастрофы.
А вот американская номенклатура, тоже не познавшая, что такое война, обрела уверенность в своем всесилии, которая привела ее к бесславным Ираку и Афганистану.
Почему же доперестроечное руководство не сумело сдержать гонку вооружений? Объяснение Громыко: «При Хрущеве у нас было создано 600 ядерных бомб. Он тогда сказал: докуда же будем наращивать? И при Брежневе можно было бы занять более разумную позицию. Но мы по-прежнему оставались при принципе: они гонят, и мы гоним – как в спорте. Наука и умные люди уже сделали вывод о бессмысленности этой гонки. Но мы и они продолжали ее. Мы примитивно подходили к этому делу. А высший наш командный состав исходил из того, что мы победим, если разразится война[35]. И гнали, и гнали ядерное оружие. Это ошибочная была наша позиция, совершенно ошибочная. И политическое руководство виновато в этом полностью. Десятки миллиардов гнали на производство этих “игрушек”, ума не хватало»[36].
Так было сказано на заседании горбачевского Политбюро, то есть, опять-таки задним числом. Насчет ума наговаривает на себя Андрей Андреевич. Скорее, были в прочном плену инерции. «Классовая борьба с империализмом» шла по всему миру, и гонка вооружений была ее неотъемлемой частью. Американцы подпитывали такое мироощущение, ибо постоянно держали палец на спусковом крючке. Одновременно та же самая «классовая идеология» оберегала существующие структуры власти, прежде всего правящую верхушку и партийно-государственную номенклатуру в целом.
Высшую бюрократию устраивало сложившееся положение еще и потому, что жила она небедно, не отставая от Запада. Также и в этом отношении она отгородилась от страны: спецобеспечение продуктами и ширпотребом, свои больницы и поликлиники, квартиры и автомобили, санатории и дома отдыха, поездки за рубеж, для других закрытые. И одновременно, не моргнув глазом, проповедовала коммунистические идеалы.
У того, кто, как Андропов или Черненко, хотел по примеру раннего Брежнева выйти за статус-кво, облегчить непосильную ношу конфронтации, просто не хватило ни сил, ни времени преодолеть сопротивление сложившихся структур. Как показал последующий опыт Горбачева, это не было легким делом.
В памяти встает залитый солнцем кремлевский кабинет Андропова, 14 декабря 1982 г., Генсек за большим столом в белоснежной рубашке. Пометил потом для себя, что вид Андропова «очень больной, измученный, хрупкий. Но схватывает быстро, говорит умно, вопросы знает хорошо и ориентируется в них мгновенно». Оторвавшись от проекта своего выступления на заседании Политического консультативного комитета (ПКК) Варшавского договора, который мы ему зачитывали, Юрий Владимирович сказал: «Решается земельный вопрос». Поймав наши недоуменные взгляды (внешнеполитическая речь никак не касалась сельского хозяйства), пояснил: «Кто кого закопает». Подумалось, конечно: «Хрущев привет прислал».
Только недавно я, наконец, сообразил: у Хрущева – «мы вас закопаем», а у Андропова – «кто кого закопает». Разница! Громыко, знай он таковые слова, обвинил бы Андропова в ереси.
В 1987 г. он убеждал коллег горбачевского Политбюро: «Социализм и через тысячу лет будет нести благо народу и всему миру»; и дальше: «Общие условия общественного развития приведут к ликвидации эксплуататорского строя, к победе народов. Они будут жить в обществе, о котором мечтали Маркс и Ленин»[37].
Любопытно, что во время своей встречи с Рейганом (сентябрь 1984 г.) Громыко, по свидетельству Добрынина, отвечая на высказывания президента США, что марксистско-ленинская философия предусматривает уничтожение капиталистического строя, «отстаивал нашу концепцию о неизбежности – в силу объективного хода исторического развития… – замены капиталистической формации социалистической»[38].
Четырнадцатого марта 1948 г. Сталин задал установку, как оказалось, на следующие сорок лет: «Мир разделен на два враждебных лагеря. Их соответствующие подходы абсолютно непримиримы. Если один из лагерей не капитулирует, рано или поздно вооруженный конфликт между ними неизбежен»[39]. Андропов, глубоко веривший в превосходство социализма, тем не менее ближе к пророчеству, чем Хрущев.
Противоположная сторона своей стратегией доминирования и практическими действиями на мировой арене не раз подкрепляла подозрение, что мирное сосуществование для нее есть лишь тактический прием. Исключительная страна Америка – одно это чего стоит! В первом же послевоенном году в Вашингтоне возобладал сугубо неконструктивный подход: коль скоро политика СССР есть «сплав коммунистического доктринального рвения и старинного царского экспансионизма», переговоры с ним не имеют смысла.
Это формула Джорджа Кеннана из его знаменитой «длинной» телеграммы из американского посольства в Москве в феврале 1946 г. Впоследствии Кеннан исправился: не считал возможным изменение советского строя силой, перейдя на позиции налаживания отношений с Советским Союзом. Добавлю, что будучи в 1999-м в США, обменялся с ним, уже глубоким, но ясно мыслящим стариком, парой слов на приеме в его честь.
В реальной жизни в переговоры, разумеется, вступали, сотрудничество временами налаживали, но глубоко в мозгах сидел расчет на окончательную победу. Наш тезис «мы или они» в зеркальном варианте. В 2007 г. я буду беседовать с бывшим рейгановским советником Ричардом Пайпсом в его доме в Кембридже, близ Бостона. Он особо отметит, что был прав, когда писал во время холодной войны, что две системы разделяет непреодолимая историческая и идеологическая грань. Между ними нет и не может быть конвергенции. Кто-то должен уйти с дороги.
В конечном счете, Сталин и Пайпс оказались правы: одна из общественных систем покинула поле боя. К сожалению, наша[40].
Я согласен с таким «инсайдером», как Анатолий Сергеевич Черняев, с которым не раз беседовал, готовя эти очерки, относительно того, что Брежнев пытался как-то затормозить гонку вооружений. Понимал, что без этого невозможно улучшить жизнь людей, а он близко к сердцу принимал их нужды. (Ссылаюсь также на мидовского товарища и близкого друга Виктора Михайловича Суходрева, много лет проработавшего в непосредственной близости к руководящей верхушке. Это выгодно отличало Леонида Ильича, добавил Виктор, от иных членов Политбюро, включая Громыко.) Поначалу Леониду Ильичу удавалось сдерживать заявки военных, тем более что он хорошо знал предмет[41]. С годами, с ухудшением здоровья, такая миссия становилась все тяжелее. В конечном счете, и он, высший руководитель, остался в плену у политико-идеологической системы, со всеми ее материальными реквизитами, с такими столпами ее, как КГБ и ВПК.
За безопасность СССР отвечают военные. Не знаю, кем и когда был пущен в ход этот догмат, но действовал он в брежневскую пору безотказно. И даже в перестройку, отбиваясь от моих наскоков, Шеварднадзе поначалу повторял его как заклинание. До нас, среднего звена, не раз доходила информация о том, как ставили ультиматумы политическому руководству страны высшие военные начальники. Однажды при мне так повел себя в разговоре с Горбачевым по ракетам средней дальности начальник Генштаба ВС С. Ахромеев. Возражая против полной ликвидации СС-20, самый молодой в стране маршал без обиняков заявил, что в этом случае он снимает с себя ответственность за безопасность страны. Позже, насколько я могу судить, Сергей Федорович основательно «перестроился».
Получив карт-бланш, военные вполне логично видели обеспечение безопасности в возможно большем количестве оружия. Политические способы ее поддержания не входили в круг их прямых обязанностей. А внешняя политика в лице МИДа им подыгрывала.
Лишнее представление об этом дает Михаил Сергеевич Смиртюков. Он долгие годы занимал влиятельную должность Управляющего делами Совета Министров и в этом качестве постоянно присутствовал на заседаниях нашего высшего синклита. «При Брежневе, – рассказывал он, – крупные вопросы на Политбюро, как правило, не рассматривались, все проговаривалось и решалось до того… По большей части слушали разные оргвопросы и обсуждали международные дела. Докладывал о них практически всегда Громыко. Говорил он всегда очень ясно, не подглядывая в записи… Но любые прописные истины изрекал с видом оракула: вот если мы поступим так-то, то произойдет то-то, а если не поступим, то не произойдет. Они его слушали, открыв рты, особенно когда он говорил про американскую угрозу и про наше отставание в обороне. После этого Устинов обязательно начинал объяснять, сколько и каких видов вооружений ему не хватает, чтобы заокеанских подлецов догнать и перегнать. Тихонов (возглавлял правительство СССР при четырех генсеках: Брежневе, Андропове, Черненко и Горбачеве. – А.) несколько раз у меня на глазах пытался им возражать: мол, может быть, обойдемся без этих оружейных систем, может, с их созданием можно и подождать? Тут они на него всем скопом наваливались и проталкивали решение о выделении дополнительных средств»[42].
Один из лучших знатоков военного дела, доктор технических наук, генерал-майор Владимир Зиновьевич Дворкин объяснил мне как-то, что помимо всего прочего влияла страшная память 1941 г., когда в одночасье потеряли вооружения, накопленные в соответствии с военной доктриной. Так что брали числом: к середине 1970-х годов в СССР насчитывалось 60 тысяч танков, больше, чем у всех остальных государств мира, вместе взятых.
С самой высокой трибуны в стране – съезда КПСС ее Генеральный секретарь заявил в марте 1982 г., что мы и рубля не тратим свыше необходимого на оборону. Понимаю тех, кто вложил в уста Брежнева такие слова: таилась надежда убедить, что не должны мы перебарщивать по этой части. Но в какой мере владел говоривший и вообще кто-либо данными, во что обходится стране гонка вооружений? Кто-нибудь определил реальные размеры ВПК? В начале 1990-х, по свидетельству главы правительства новой России И. Силаева,, «точно определить военные расходы и расходы на закупку вооружений ни союзное, ни российское руководство (оно намеревалось резко сократить оборонный бюджет. – А.) не могло. Они проходили по разным бюджетным статьям, данные о них несводимы»[43]. Знали ли, как это стало известно годы спустя, что на оборону мы тратили в пересчете на душу населения больше, чем любая другая страна в мире? Что в 1980-х советский ВПК поглощал более 10 процентов ВВП (американский – 6,5 процентов), а в оборонке у нас работало 5–8 миллионов человек (в США – 2,2 миллиона)?
Советский ВПК мог гордиться высочайшими достижениями. Но уж слишком дорогой ценой они доставались. В антирыночной советской экономике оборонный комплекс пользовался еще более нерыночными преимуществами, включая существенно заниженные цены, лучшие мозги в исследовательских центрах, лучшие рабочие руки на предприятиях. Государство в государстве.
Известно, что половину всех фондов на НИОКР предоставляло в США федеральное правительство, при том, что более 2/3 разработок шло на военные цели. В заказах на войну был залог технического перевооружения промышленности. Наша «оборонка» также была двигателем технического прогресса. Дальше, однако, начинались существенные различия.
Одно из них то, что американцы были рачительнее нас, ибо их военно-промышленный комплекс контролировался Конгрессом и отчасти средствами массовой информации. У нас о какой-то открытости в вопросах обороны страшно было даже подумать. Военная политика, оборонные программы вышли из-под общественного контроля, его не существовало в помине, практически отсутствовал и контроль политический. Ни правительство в широком смысле этого слова, ни Верховный Совет, ни пленумы ЦК, а нередко и Политбюро до конкретных обсуждений не допускались.
В 1997 г. мне, тогда федеральному министру по делам СНГ, посчастливилось побывать на космодроме «Байконур». Взлет ракеты – зрелище незабываемое. Видел там гигантские фермы для запуска «Энергии», сверхмощного носителя, почти полностью пришедшие в негодность. Они потребовались всего два раза, один – для подъема «Бурана», сородича американского «Шаттла». На последних этапах – программа продолжалась двенадцать лет и стоила 14 миллиардов тогдашних рублей – было занято в общей сложности около миллиона человек. И ракета не подвела, и машина получилась удачная: в автоматическом режиме, без экипажа приземлилась, вернувшись из космоса. Американцы на беспилотную посадку своего «Шаттла» так и не решились.
Как рассказал мне Б.В. Бальмонт, несколько десятилетий отдавший оборонке, многие специалисты поначалу не были склонны ввязываться в новую гонку c США, считая, что одновременно и орбитальную станцию, и пилотируемый корабль такого класса нам не потянуть. Руководство убедил довод о возникшей смертельной угрозе: «Шаттл» может сделать нырок с орбиты над Москвой и молниеносно уничтожить ее». (Была, думаю, и другая сторона медали: конструкторские бюро, запугивая руководство, преследовали свои собственные цели: получение госзаказа, как это теперь называется.) Стремление создать такую же угрозу американцам, иметь свой аналог «Шаттла» обескровило космическую отрасль. Борис Владимирович считает, что если к «Бурану» уже не вернуться, то придет время, когда обновленная «Энергия» еще полетит. Такой ракеты требуют новые задачи, и земные, и космические.
В годы брежневского руководства – в этом отношении ему крупно повезло – были освоены богатейшие, уникальные месторождения нефти и газа, разведанные в 1950–1960-е гг. Добыча нефти выросла с 31 миллиона тонн в 1970 г. до почти 400 миллионов в 1984 г. Это был трудовой и научно-технический подвиг. Лектором ЦК я приезжал в те края, и мне рассказывали: запасы нефти такие, что на местах, боясь ошибиться, их снижают в несколько раз, и все равно выходит беспрецедентно много. Нефтяная рента продлила жизнь стареющим лидерам, появилась возможность увеличить закупки продовольствия за рубежом и тем самым избежать назревающего продовольственного кризиса. Выросли закупки оборудования и потребительских товаров. Но несмотря на форсированный рост добычи (позднее он выйдет боком), денег, особенно валюты, не хватало. Слишком велики были статьи расходов: гонка вооружений, Афганистан, участие в других региональных конфликтах, помощь соцстранам, куда шло по льготным ценам от половины до двух третей сырья, а также национально-освободительному движению, компартиям. «Молочные реки» стали иссушаться, а резервов валюты создать не удосужились. Также и по этой причине обвал нефтяных цен в 1985–1986 гг. нанес сильнейший удар по перестройке.
Под конец очерка решусь воспроизвести мысль, которая возникла у меня, когда прочел о судьбе американского летчика, сбросившего атомную бомбу на Хиросиму. Он дожил до 90 лет и ни разу в жизни не пожалел о содеянном. Президент Трумэн, отдавший роковой приказ, говорил ему: «Ни в чем не сомневайся, всю ответственность я беру на себя». Так ли уж нелепо предположить, что США могли еще раз нажать на ядерную кнопку? Известны данные: США были близки к применению ядерного оружия 17 раз, причем в пяти случаях речь шла об ошибках радаров. Была у них в почете риторика, вполне допускавшая возможность ядерной войны. Официальное лицо в Пентагоне Т.К. Джоунс считал, что для восстановления Америки после ядерной войны потребуется от двух до четырех лет, если население будет соблюдать несколько простых правил гражданской обороны[44].
Сегодня и у нас, и у «них» подобного рода заявления и словеса расцвели пышным цветом.
И все же, вряд ли мишенью могла бы стать наша страна. Американцы рассматривали возможность атомной бомбардировки СССР, но не решились на это. Ни в годы своей монополии на ядерное оружие, ни во время острейшего Кубинского кризиса, когда имели 5 тысяч ядерных боеголовок, а мы – 300 (хрущевское руководство, кстати, сразу пустилось вдогонку). Очевидно, осознавали, что с нами шутки плохи.
Но вот кого-то послабее они могли грохнуть. «Ястребов» у них хватало, войны и в Корее, и во Вьетнаме они вели долгие и напряженные. Помимо других обстоятельств, они не могли не оглядываться на нас.
Так ли уж спорна мысль, что, создав ядерный противовес, в течение десятилетий связывая руки американцам, мы, разорив себя, спасли мир от крупных неприятностей.
Решусь на такой парадокс: тоталитарный Советский Союз победой во Второй мировой войне спас свободу (а заодно и капитализм) во многих государствах, подмяв под себя ряд других. Равным образом авторитарный СССР был одним из основных двигателей процесса освобождения от колониальной зависимости. Не говорю уж о том влиянии, которое оказал сам факт строительства социализма на одной шестой части земного шара. Для других мы сделали добра чуть ли не больше, чем для себя самих.
Очерк шестой
Штрихи к портретам на фоне власти
Власть не анонимна. Деятели, о которых пойдет речь, влияли, порой решающим образом, на мою жизнь и жизнь миллионов моих соотечественников. Закономерно желание сказать по этому поводу несколько слов.
Н.С. Хрущев. С Никитой Сергеевичем я встречался всего несколько раз (однажды переводя ему), так что личных впечатлений немного. Самое главное его достижение, в моем понимании, это начало утверждения исторической истины о сталинском режиме. И не только на словах.
Именно при Хрущеве начался отток из ГУЛАГа его узников, а они, если взять все тюрьмы, лагеря, колонии и специальные поселения, исчислялись миллионами. Не умри Сталин, сидеть им еще и сидеть. Среди первых освобожденных была жена Молотова, Жемчужная, «преданнейшая мужу женщина», как рассказал мне как-то Семен Павлович Козырев. Пока незащищенная мужем (и разведенная) Полина сидела, Вячеслав Михайлович продолжал исправно выполнять свои обязанности.
Думаю, что, свергая с пьедестала Сталина, характеризуя его деяния как преступление, Хрущев рисковал головой. Он решился на первые серьезные расследования сталинских репрессий, проведенные группой Поспелова, а затем комиссией Шверника. Верно, что Никита Сергеевич не пошел на то, чтобы опубликовать доклад. Но ведь после него ни Брежнев, ни Андропов, ни Черненко не только не дали ему хода, но прекратили дальнейшее расследование. Оно было возобновлено только в перестройку комиссией А.Н. Яковлева.
Именно Хрущев по настоянию Александра Твардовского, поэта и редактора «Нового мира», разрешил публикацию повести другого Александра – Солженицына: «Один день Ивана Денисовича», первой литературной зарисовки обыденной, и от этого еще более страшной жизни в сталинских лагерях. Номера «Нового мира» зачитывали тогда до дыр.
Да, Хрущев твердо стоял на позициях большевистского правосознания, отдававшего произволом. Так, при нем была введена смертная казнь за валютные операции и расхитительство. Он искренне считал врагами всех тех, кто, по его непререкаемому суждению, вставали на пути Коммунистической партии, даже если на самом деле речь шла о стремлении к творческой самостоятельности. Не щадил он ни Андрея Вознесенского, ни Василия Аксенова, ни Эрнста Неизвестного, ставшего потом автором памятника на могиле Хрущева. Бориса Пастернака заставил отказаться от Нобелевской премии за якобы антисоветский роман «Доктор Живаго».