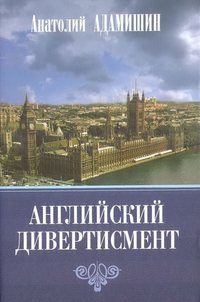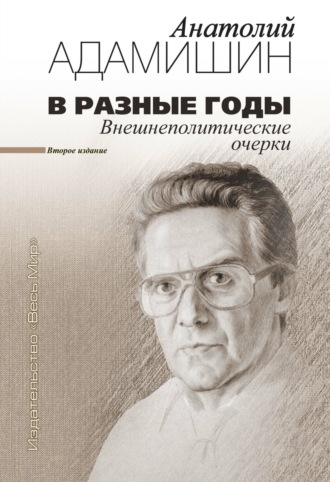
Полная версия
В разные годы. Внешнеполитические очерки
Но нельзя отрицать, что при хрущевской «оттепели» раскрылось дарование целого соцветия писателей и поэтов, режиссеров и драматургов. К сожалению, и это была примета времен, изменившихся после ухода Хрущева, значительное их число оказалось за рубежом, чтобы вернуться на Родину (далеко не все!) в светлый период перестройки.
В рукописи моего старого сокурсника по МГУ Джиджи Лонго я вычитал краткий, но убедительный анализ того, как после революции 1917 г. торжественно провозглашенная диктатура пролетариата в реальности была диктатурой партии. Эта последняя вылилась или, лучше сказать, выродилась в диктатуру партийного аппарата и, в конечном счете, во всевластие главы аппарата Сталина. Хрущев подорвал последнюю стадию этого процесса, вернувшись на шаг назад, к диктатуре верхушки бюрократии. Это сделало более сложным жесткое единоначалие в будущем, хотя логика заточенности на «пирамиду» брала в конце концов верх. При позднем Брежневе это обратилось в драматический водевиль: его именем правили ближайшие сподвижники, опираясь на разросшуюся и агрессивную в отстаивании своих позиций и привилегий номенклатуру. В определенном смысле Хрущев пал жертвой своего начинания: его соратники, взяв на вооружение хрущевскую филиппику против культа личности, обратили ее против автора. Выглядело это скорее как верхушечный заговор, чем открытая политическая борьба. Обошлось без репрессий, хотя моральных мучений Никита Сергеевич, видимо, испытал немало, в том числе из-за предательства ближайших товарищей.
Хрущева можно и нужно ценить, по моему мнению, за попытку хотя бы частично вывести политическое развитие России из автократической колеи, взять под контроль номенклатуру, предотвратить загнивание правящей верхушки. Его «марксистские» высказывания об общественном самоуправлении, общенародном государстве и его грядущем отмирании выдавали тягу к демократическим переменам. Алексей Иванович Аджубей в разговоре со мной 17 октября 1979 г. объяснял неудачу тестя двумя основными причинами: страна была не готова, и сама фигура Хрущева половинчатая. «Забыл, что борьба за власть есть и при социализме. Пытался ввести революционные вещи, например, сменяемость руководства. На пленуме ЦК произнес фразу, которая стоила ему карьеры: мы должны уйти». Ох, нескоро (год 2024-й).
Движение к демократии, но уже на новых основах продолжила горбачевская перестройка. Хрущев, как и Горбачев, проиграл. Аппарат оказался сильнее. Но если Россия вернется на путь сознательного построения такого политического устройства, которое, обеспечив реальную конкуренцию в сфере экономики и политики, высвободит максимум человеческих ресурсов для ускоренного развития, то и «оттепель», и перестройка окажутся знаковыми вехами на этом пути.
Из властных перемен, осуществленных Хрущевым, одна оказалась серьезной. Органы госбезопасности, тридцать лет подчинявшиеся лично Сталину, снова были поставлены под контроль партии, пусть не полный. Андропов при Брежневе почти все восстановил.
Александр Николаевич Яковлев (мы с ним подолгу разговаривали в разные годы, последний раз за несколько недель до его кончины в 2005 г.) считал, что у страны было двоевластие: КГБ и партия. Причем во многих случаях за КГБ, а не ЦК или Политбюро, оставалось последнее слово. «Не помню ни одного случая за время пребывания в Политбюро и в Секретариате ЦК, – говорил он, – чтобы возражения КГБ игнорировались по какому-либо вопросу. У всех было такое мнение, что кого-кого, а КГБ надо слушаться».
На совести Л.И. Брежнева и окружения – свертывание экономической реформы Косыгина. О том, что Алексей Николаевич, став председателем Совета Министров, запустил целую систему мер, известных как хозрасчет, теперь почти не вспоминают. Косыгин, Либерман и другие сторонники перемен ясно видели, что наша экономика страдает от чрезмерной централизации и слабой мотивации для людей, непосредственно занятых на производстве. Попытки загнать народное хозяйство в «узкое горло» Госплана разбивались об экономические закономерности, независимые от доктринерства.
Усиление материальных стимулов к труду, большая свобода, данные предприятиям реформой, сразу же дали результат. Восьмая пятилетка (1966–1970) оказалась самой эффективной за всю советскую историю. Темпы экономического развития удвоились, причем не за счет привлечения дополнительных ресурсов, а за счет интенсификации. Традиционно отстающий показатель – производительность труда – увеличился на треть. В 1,5 раза выросло промышленное производство. Было построено около двух тысяч крупных предприятий, включая автомобильный гигант в Тольятти.
Выросли реальные доходы на душу населения, увеличились объемы жилищного строительства. Такой эксперт, как профессор Леонид Маркович Григорьев, считает, что мы вплотную подошли к самым развитым странам по показателям продолжительности жизни и качеству здравоохранения, опережая большинство из них по уровню образования. Резко сократились закупки продовольствия за рубежом.
Однако, чем дольше шла реформа Косыгина, тем сильнее становилось сопротивление партийно-государственного аппарата. Партийные руководители на опыте «хозрасчета» убедились, что дать предприятиям самостоятельность – значит выпустить из рук рычаги управления. Начался последовательный саботаж реформы (как двадцать лет спустя в случае с Горбачевым).
К тому же Косыгина сильно недолюбливал и ревновал Брежнев. Это сказывалось на многих делах, где был задействован премьер, в том числе, как мы видели, на внешнеполитических. В конце концов, при негласном содействии МИДа, он был от них оттеснен[45]. Популярность премьера как автора экономической реформы и руководителя промышленности пришлась не по нутру Брежневу.
Сильнейший удар по модернизации нанесли события в Чехословакии. Упор на рыночные факторы был расценен как крайне опасный с политической точки зрения. Звучит парадоксом, но реформу добил четырехкратный рост цен на нефть в результате эмбарго, введенного в отношении Запада арабскими странами, потерпевшими поражение в войне с Израилем в 1973 г. Зачем нелегким трудом добиваться интенсификации производства, когда есть экспорт энергоносителей? Выросшие цены дали противникам реформ в советском руководстве финансовое покрытие издержек, к которым привел отказ от реформ[46].
Предпочли сесть на нефтяную иглу, она же «нефтяное проклятие», не подозревая на сколько лет продлится столь неудобное положение. Директивное планирование не отменили, рынок остался в зачаточном состоянии, возможность введения частной собственности даже не ставилась на обсуждение.
Осталась в силе губительная двойственность системы. По закону решения должны были принимать государственные органы, но они ждали указания партаппарата. Этот последний спускал директивы, но ответственность не нес. В итоге трудно было найти концы, «зато» не сложно было уйти от ответственности.
Свертывание реформ вновь и надолго снизило как темпы развития, так и его качество. Потянулась череда застойных, даром пропавших для страны лет. Они загнали экономику в столь жесткие рамки, что реформировать ее стало крайне болезненной операцией. Мы попали в заколдованный круг: плановая экономика малоэффективна, а реформировать ее себе дороже.
Если до 1970-х годов доля нашей страны в мировом ВВП росла (максимум – 12,9 процентов в 1970-м), то с отказом от реформ Косыгина она стала падать, и чем дальше, тем быстрее.
Полностью согласен, в том числе по счастливому опыту непосредственного общения с Алексеем Николаевичем, с мнением Виталия Ивановича Воротникова, много времени проработавшего на высоких должностях: «В СССР тогда не было руководителя, которого можно было бы поставить рядом с Косыгиным»[47]. Но не он, наиболее грамотный, современно мыслящий, заряженный на благо страны и, выделю, интеллигентный, вышел победителем в аппаратной борьбе.
О неудаче Косыгина стоило бы помнить тем, кто упрекает Горбачева за то, что он не пошел по китайскому пути, который, кстати, немало вобрал в себя из опыта нашего НЭПа. Помимо колоссальной разницы между почти стопроцентно крестьянским Китаем и индустриальным Советским Союзом, между социальной структурой двух стран, психологией и привычками населения существовал и такой момент, как настрой правящих элит. Китайская, действуя более чем жестко в политике, – Дэн Сяопин кровью подавил протесты на площади Тяньаньмэнь в 1989 г., – была развернута к рыночному хозяйству в экономике. Наша же питала к рынку явную антипатию, как по причине идеологических стереотипов, так и не желая поощрять самостоятельность предприятий.
Оба начинания, которые в разные годы могли бы принести стране ощутимую прибавку в развитии – ленинский НЭП и косыгинская реформа, были подавлены сверху. Первое – Сталиным, второе – «брежневцами».
С Брежневым против Косыгина, а затем все вместе «против» Брежнева. Неприглядная страница нашей недавней истории – поведение членов Политбюро, когда Леонид Ильич тяжело заболел. Оно граничило с садизмом: несчастного человека держали у руля власти несколько лет. (Кроме всего прочего, это было затратное мероприятие: Леонида Ильича поддерживала целая команда (что опять-таки вряд ли доставляло ему удовольствие) из сотни человек. Вообще, расходы на кремлевскую «обслугу» росли постоянно.)
Есть немало свидетельств, что Генсек мучился своим положением. Его верный помощник А. Александров-Агентов пишет, что Брежнев по крайней мере дважды ставил перед товарищами по Политбюро вопрос о своей отставке. «Что ты, Леня! Ты нам нужен, как знамя, за тобой идет народ. Работай гораздо меньше, мы тебе будем во всем помогать, но ты должен остаться»[48]. Таков был общий глас. Наиболее влиятельные из соратников не могли к тому же договориться о «после Брежнева».
У меня остался в памяти полный ужаса взгляд Леонида Ильича, когда он смотрел в разверзшуюся перед ним могилу, куда опускали Михаила Андреевича Суслова. Пережил он его не надолго.
…10 часов утра 10 ноября 1982 г. На даче в Серебряном Бору, где мы работали над речью Брежнева, раздается звонок по правительственной связи, по-простому «вертушке». В Москву срочно вызывают брежневского помощника Анатолия Блатова. Генсек уже полтора часа как мертв, но об этом знают только близкие, главный кремлевский лекарь Чазов и первым оповещенный им Андропов. Через какое-то время Анатолий Иванович звонит оставшемуся за старшего Александрову-Агентову: «Новости очень плохие, заканчивайте работу и съезжайте». Ничего больше конспиратор Блатов не сказал, но и так все стало ясно. Несмотря на полную ненужность, честно дописали последние абзацы, выпили бутылку водки за упокой души и разъехались по домам.
В этот день фельдъегери метались по членам Политбюро: Андропов, Черненко, Громыко и, видимо, Устинов договаривались о преемнике. Им стал, как известно, первый в этом списке. Черненко занял неформальный пост второго секретаря, косвенно подтвердив, что выбор был между ними двумя.
Пока не была достигнута договоренность о новом вожде, о смерти прежнего не объявлялось. Так что советский народ узнал о кончине Генсека на следующий день в 11 часов утра, хотя «вражеские голоса» вещали о ней с вечера. В последние месяцы в Москве шутили, что ЦРУ получило неожиданную передышку: КГБ был поглощен гаданием, уйдет ли Андропов наверх и кто его заменит.
Упомяну, что вместе с известием о смерти Брежнева было объявлено об ужесточении дисциплины, во всех подразделениях МИДа ввели дежурства. Предостережения оказались напрасными. Траурную весть народ воспринял индифферентно, настроения на улицах были далеки от грустных.
Памятный день 15 ноября 1982 г. – похороны на Красной площади Леонида Ильича. «Ну, а мы, конечно, тоже там» (цитата из песни Кима). Ноябрьская погода, не просто смилостивившаяся, но вообще редкая: тепло, сухо и даже проглядывает солнышко. Тысячи хоронят одного – и в смерти люди не равны. Наконец, появился кортеж: бронетранспортер, да еще с пулеметом, генералы, которые несут награды, рядом со мной считают: сорок два ордена. Основная речь – министра обороны, ведь хоронят маршала. Сильно заплаканная вдова, ей, безусловно, тяжелее всех. Опустили гроб в землю под впечатляющий вой сирен, начали подавать «Чайки» и «Волги» семье, и вдруг следом по пустой брусчатке перед огромной, не расходящейся толпой, доверчиво держащей сотни фотопортретов (все одинаковые) с траурной полосой, пролетели два «мерседеса» с московскими номерами деток или внуков. (В ту пору «мерседесы» были в Москве большой редкостью.)
На выходе узнал, что на днях умер Пельше – посыпалось. Боятся даже объявлять. Осталось на сегодня десять членов Политбюро, включая трех немосквичей. К себе в компанию, туда, наверх, допускают крайне неохотно, только многократно проверенных. Уж больно все переплетено и все шито-крыто. Достаточно посмотреть, как подбираются у нас в МИДе послы. Шел домой и думал: много ли останется от всех громких слов, которые сказаны и написаны в траурные дни, и надолго ли.
Затем старики наши один за другим стали уходить из жизни. В ход пошла невеселая острота: выпишите мне абонемент в Колонный зал (там проходили траурные церемонии). Как бы стараясь успеть, они отмечали бесчисленные юбилеи и взаимные награждения. «Не нравится мне нынешняя девальвация орденов, – записал я в дневнике, – Герои Советского Союза, ордена Ленина даются налево и направо. По-другому привыкли их оценивать. Л.И. кончил войну с двумя орденами, а стал четырежды Героем! Маршалам дают Героев ко дню рождения. Что приятно: Героя Соцтруда получил Корниенко, что по делу, то по делу».
В завершение «застойного» пассажа позволю себе сказать пару слов о том, как нам жилось и работалось в те годы.
Привожу две дневниковые записи.
«…Кроме всего прочего мало работают наши руководители. А управлять огромной страной вполсилы невозможно. “Секретариатские” (помощники министра) разведали, что закрытым решением Политбюро время работы его членов установлено с девяти утра до пяти вечера. Тем, кому за 65 (т.е. почти всем), полагается более продолжительный отпуск, а также один день в неделю для работы в домашних условиях. Но и при облегченном режиме берегут они себя чрезвычайно. Возможно, некоторые понимают, насколько серьезны проблемы, вставшие перед страной, но им просто не хватает физических и духовных сил на то, чтобы вывести ход событий из накатанной колеи».
«Водонепроницаемый слой стариков во власти закрыл путь наверх не одному поколению; ниже по всем правилам болота идет гниение, опускаясь до средних и даже младших чинов. Застой не только губит страну, но и растлевает людей».
Как во всякую смутную пору, увлекались историей, пытаясь найти утешение: и раньше было плохо. Поразили меня слова барона Остен-Сакена, сказанные во времена правления императора Павла I: «Единственный выход для порядочного человека – умереть». Он, правда, предпочел принять участие в убийстве самодержца. И того, и другого варианта помогла избежать среда обитания, в значительной степени нами самими созданная.
А микромирок у нас со временем подобрался на славу. Номер один – Юра Визбор, дорогой талантливый друг. Никогда не забыть встречу Нового года. Всю ночь Юра пел, импровизировал, рассказывал случаи из своей многогранной жизни. Как-то он привез Мишу, еще не Михаила Жванецкого – очередная бессонная ночь. Многие свои миниатюры он тогда мог читать только в узкой компании. Безжалостно короткой оказалась жизнь Визбора. «Только полтинник разменял», – сказал на его похоронах на Кунцевском кладбище Юлий Ким. Меня и сейчас, когда я пишу об этом спустя четверть века, душат слезы. А ведь была Юлия Хрущева, завсегдатай – а мы за ней – всех театральных премьер. Были Веня Смехов, Борис Хмельницкий, другие артисты Театра на Таганке, были Татьяна и Сергей Никитины, да мало ли было вокруг прекрасного народа, помогавшего переживать разочарования и огорчения.
При всех неприятностях, которые бдительный режим причинял интеллигенции, постоянно подрастала талантливая поросль. Московские театры, ленинградские концертные залы были отнюдь не хуже западноевропейских или американских. Больше того, наши деятели культуры впоследствии жаловались, что кроме «чернухи» мало что пошло в гору, когда было разомкнуто прокрустово ложе. А тогда, отбиваясь от притеснений, в ход пускали весь талант, который был в наличии, и достигали выдающихся результатов. Кроме того, хорошо владели эзоповым языком. Несмотря на цензуру мистификацией, интонацией, подчеркиванием проводили-таки вольнолюбивую мысль. Иногда это был, конечно, кукиш в кармане, но и он вызывал минутное удовлетворение.
Как не вспомнить Окуджаву, большого поэта-лирика, но также и публициста, некоторые песни которого били не в бровь, а в глаз. Как не вспомнить Театр на Таганке, а еще пуще, такого гиганта, как Владимир Высоцкий. Он, можно сказать, спас честь целого поколения, сумел создать энциклопедию современной ему жизни, включая запретные темы, больные проблемы трогал без издевки, скорее с сарказмом или переживанием, а главное, никого и ничего не боялся.
Билась Таганка за свои спектакли отчаянно, и вся наша братия ей сопереживала. В марте 1983-го им запретили «Бориса Годунова» (бедный Пушкин: такое случится еще раз через тридцать лет). Любимов, главный режиссер, обратился к Генсеку Андропову. Тот в ответ передал, что в области культуры он не компетентен, пусть занимаются этим, кто поставлен: Шауро, Трапезников, Зимянин и др. Примерно в то же время его приемник, глава КГБ Чебриков направлял записки в ЦК, сигнализируя, что «ряд отдельных моментов в режиссерском решении (“Бориса Годунова”. – А.) направлены на порождение у зрителей нездоровых ассоциаций с современной действительностью»[49].
С огромным удовольствием вычитал результаты опроса ВЦИОМ: среди кумиров ХХ в. В. Высоцкий и сейчас занимает в России второе место, ненамного уступая Юрию Гагарину. А ведь, казалось бы, поет о нашей тогдашней злободневности. Прочны, видимо, ее устои.
С годами посредственность торжествовала все бесцеремоннее, загоняя в тень людей неординарных. Иногда приходил к мысли, что наш доморощенный социализм просто оторгает способных. Как же обидно было смотреть, как губит таланты чиновничий аппарат, сколько даровитого народа вынуждено уезжать из страны, провожаемые выкриками «туда и дорога». И били-то больше не по диссидентам, а по талантам. Отъезд за рубеж писателя Аксенова, с которым мы были знакомы, я воспринял как личную беду. Незадолго до его смерти мы с ним вновь увиделись, в перестройку вернулся-таки Василий на Родину.
Когда кинорежиссер Элем Климов (мы дружили с ним) пытался на исторической фактуре выразить свое отношение к происходящему, его фильм «Агония» о временах Распутина семь лет пролежал на полке: «Оболгал Россию»! Не царя, не прежний строй, а Россию. Это вообще излюбленная подмена понятий: недовольство властью выдавать за русофобию.
Продолжали делать большие интеллектуальные подарки Западу, вспомним высылку Бродского, будущего нобелевского лауреата. «Надолго ли хватит?» – спрашивал я себя словами Булата Окуджавы.
По большому счету, если взять весь советский период, бездушное и жестокое разбазаривание талантов можно сравнить с чем-то похожим на избиение творческой интеллигенции.
Как-то, вернувшись из краткосрочной командировки в Москву и зайдя по привычке в секретариат министра на седьмом этаже узнать, что происходит, услышал от несшего дежурство Рудольфа Алексеева неожиданно горький ответ: «Все гниет». Примерно в тех же выражениях, а возможно, и в то же время, в конце 1984 г., охарактеризовал обстановку в стране будущий шеф Эдуард Шеварднадзе в откровенном разговоре с Михаилом Горбачевым.
В последние годы перед перестройкой ушли мы с надежными друзьями-единомышленниками в свой кухонный мир, в свои сходки, в свои байдарочные походы и теннисные баталии, разрешенные и полуподпольные вечера, где пели и читали стихи наши кумиры. Мирок наш безжалостно сжимался, кто-то эмигрировал, кто-то умирал молодым. В общем, ситуация воспринималась, как близкая к трагической. И тем не менее надежда не покидала. Точно сказал Юра Визбор: «А мы все ждем прекрасных перемен, / Каких-то разговоров в чьей-то даче, / Как будто обязательно удачи / Приходят огорчениям взамен».
Загляну сюда из своего лондонского будущего. Находясь в Англии в середине 1990-х годов в качестве российского посла, я дружил с сэром Исайей Берлином. Он считается одним из крупных западных философов. К нашей гордости, родился в Российской империи, в Риге. Так вот, он пишет: «Люди независимого образа мышления нередко чувствуют себя в России отчаянно тяжело. Тем не менее в интеллектуальном и социальном общении с ними вы явственно ощущаете неунывающий нрав, живой интерес как ко внутренним, так и международным событиям. Это сочетается к тому же с экстравагантным и тонким чувством юмора»[50]. Льщу себя надеждой, что это немного и о нас. В условиях несвободы внешней мы тем более ценили свободу внутреннюю.
В памяти сохранился эпизод, касающийся Андрея Дмитриевича Сахарова.
Позвонил мне В.В. Кузнецов, много лет прослуживший в МИДе, а тогда третий год как первый зампредседателя Верховного Совета СССР. Это был поистине благородный человек, для меня такой эпитет вбирает в себя профессионализм в деле и порядочность по отношению к людям, качества, не часто встречающиеся в подобном сочетании. Не было в МИДе человека, кто ни отзывался бы о Василии Васильевиче безоговорочно положительно. Многие повторяют пущенную им шутку: «Если на протокольных мероприятиях молча пить – это пьянство, если же произносить тосты – это политическая работа». Как сейчас вижу его высокую, слегка согбенную фигуру, скуластое лицо и слышу неизменно доброжелательную речь, даже когда он выговаривал. Меня, годившегося ему в сыновья, наедине шутливо звал «дядя Толя».
«Хочу посоветоваться, – говорит Василий Васильевич, – решается вопрос об академике Сахарове. Его поведение зашло настолько далеко, что не обойтись без вынужденных мер». Намеком Кузнецов дает понять, что неудовольствие идет от Брежнева. «В вашей “Первой Европе” ведущие западные страны. Что вызовет более отрицательную реакцию – выдворение из Союза или высылка в Горький без права покидать этот город?» – «А нельзя ни то, ни другое?» – решился я на вопрос. «Не получается», – был ответ. Каюсь, дальше я не пошел. Довлел надо мной авторитет власти, того же Кузнецова, да и о наших диссидентах знал мало. «В таком случае, безусловно, второе». Ясно, что если мои слова и имели какое-то значение, то для дополнительной аргументации Кузнецова.
Скажу в этой связи: своего места среди тех, кто пытался открыто бороться с режимом, я не видел. Чего не было, того не было. Исходил, тогда еще не зная ее, из формулы: права она или неправа, но это моя страна. Мы подтрунивали над расхожим словосочетанием – «родное советское правительство», исправляя на двоюродное, но, в конечном счете, представлялось – это власть в твоей стране. Даже если ты все чаще чувствуешь себя в ней (власти) чужим, должен добросовестно выполнять свой долг. По крайней мере, пытайся по возможности уменьшить ущерб. Сделать удается совсем мало, но время перемен непременно придет, рано или поздно.
Ю.В. Андропов и К.У. Черненко. Приход Юрия Владимировича к власти был встречен – после брежневского маразма – с облегчением. Мы в нашем кружке действительно надеялись на него. Этому способствовало и то, что мы крайне мало знали о той негативной роли, которую сыграл Юрий Владимирович в борьбе с инакомыслием. Помню, как волновалась дочь Хрущева Юлия, будет ли снят запрет с упоминания самого имени Никиты Сергеевича. Он был введен секретным постановлением почти двадцать лет назад. Переживали и мы, ее друзья. Мы дружим с 1970-х. Юлка, как мы ее зовем, дала мне прочитать первую «диссидентскую» книгу – «К суду истории. О Сталине и сталинизме» Роя Медведева. Ведь имя Хрущева связывалось с XX съездом, разоблачением культа личности, «оттепелью». К сожалению, ожидания не оправдались. Пришлось ждать перестройки.
Классная была, надо сказать, практика – наказывать не только человека, но и его имя. Безымянными становились и опальные деятели культуры, когда их лишали гражданства и отправляли в принудительную эмиграцию.
После многолетней лакировки Андропов стал говорить об отрицательных сторонах нашей жизни. На высоком партийном форуме он имел решимость заявить (цитирую по памяти): надо еще разобраться, какое общество мы построили. Мне эти слова крепко врезались в голову. Он-то, пройдя все ступени партийной карьеры, пятнадцать лет председатель КГБ, должен был лучше, чем кто-либо, знать наше королевство кривых зеркал.
А начавшаяся было чистка авгиевых конюшен? Москва была полна разговорами о разоблачении, впрочем, нет, не то слово, о негласном исправлении злоупотреблений героев прошедших восемнадцати лет. Те крали пригоршнями бриллианты, картины из запасников, музейные ценности, словом, все, что плохо лежит, а лежало плохо все. Только и слышно было: Гришин платит за незаконно построенные апартаменты, этого выселяют из роскошных хором. Бывший министр МВД Щелоков, прожженный жулик, по словам Андропова, сказанным в своем кругу, мог стать председателем Комиссии партийного контроля и членом Политбюро! Теперь он вроде под домашним арестом. Поистине не было ничего невозможного при бедном Леониде.