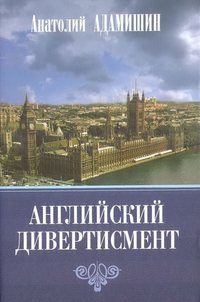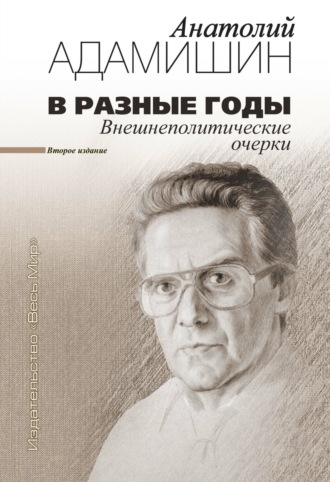
Полная версия
В разные годы. Внешнеполитические очерки
Видимо, не желая уезжать из Москвы в напряженный период, когда вот-вот должен был решаться вопрос о преемнике Черненко, министр приглушал значение двусторонних визитов, столь прежде им любимых. На приглашение голландцев ответ не давали много месяцев, и так и не дали. Не согласились с датами официального визита в Париж, предложенными французами.
Незадолго до уже обговоренной с испанцами даты отъезда в Мадрид он вызвал меня: “Давайте отбой, в Испании антисоветская шумиха”, – и начал уже диктовать мне телеграмму. Выясняется: испанцы выслали одного из наших сотрудников. “Соседи”, как обычно, говорят о провокации. Чувствую, если буду настаивать, министр распалится еще больше. Цепляюсь за соломинку: давайте вызовем посла. Громыко соглашается.
Срочно прилетевший Дубинин знает свой маневр превосходно. Хорошо поставленным голосом, не давая министру возможности вставить слово (тоже прием), Юрий Владимирович вещает, как ждут Громыко в Испании, как его там любят и уважают. Не знаю, срабатывает ли посол или же дело в неизвестной нам эволюции кремлевских интриг, но визит спасен. Все плюс для “Первой Европы” и не только для нее. А то, что остается в реестре наших внешнеполитических успехов? Только что антиамериканские резолюции, которые принимают по нашей инициативе разные органы ООН. От них ни жарко ни холодно, но можно рапортовать, что США остались в изоляции: мол, было ли такое раньше?»
Ковалев в минуты отчаяния бодрился: «Я – член Союза писателей, чего мне бояться». Потом опять пробивался оптимизм. Утешает меня после возвращения Андрея Андреевича из США: «Идет борьба за нашего министра: увидите, будут подвижки». На мой вопрос, кто же подвинет на них Громыко, Анатолий Гаврилович многозначительно показывает на потолок. Но я-то вижу, что на каждый позитивный шажок есть отповедь. Дает Черненко мало-мальски разрядочное интервью «Вашингтон пост» (его помощник рассказывал мне, что наверху оно переделано с более жесткого мидовского варианта), а через два дня «Правда» в редакционной статье практически опровергает его. А что говорить о ТАСС: в одном из сообщений оно сравнило Рейгана с Гитлером.
Возможно, Константин Устинович, натыкаясь повсюду на тупики, действительно хотел уменьшить жесткость нашей внешней политики. Мы это видели на примере евроракет. Добавлю, что в октябре 1984 г. партактив получил его выступление на Политбюро. Там прямым текстом говорилось: необходимы новые инициативы, идущие навстречу Западу, на старом багаже далеко не уедешь. Но возникшие было слухи о предстоящем уходе из Афганистана быстро затихли, а нашего возвращения на разоруженческие переговоры в Женеве пришлось ждать еще полгода. До их начала, повторю, Черненко не дожил.
Пока что оставалось доверяться дневнику: «К сожалению, наша внешняя политика опирается не на реальности, а на символы – национально-освободительная борьба, прогрессивные режимы и т.д.
Характерный пример – Сирия. Недавно мы говорили на этот счет с Виктором Посувалюком, одним из лучших арабистов и товарищем по футбольным баталиям на мидовском стадионе. Фантастика что происходит. Сами не зная как, влезли со своими железками, а главное, людьми, в самое пекло. Три тысячи наших солдат с зенитными расчетами находятся в Сирии в безза-щитнейшей и опаснейшей ситуации. Могут их прихлопнуть в любой момент. В силу большой уязвимости военные считают, что надо бить первыми. Такие планы, в самом деле, вынашиваются, более того, вроде уже выпустили по израильтянам пару ракет, к счастью, не попали. А что будем делать, если по нам врежут? Можно понять главу Сирии Асада, ему нужны заложники. Но нам-то это все зачем, ради любви к соперничеству с США?
Виктор объясняет это следующим образом: “Сирийцы требуют и требуют новое оружие, а мы даем и даем, на миллионы рублей. Почему? Есть у нас целый слой людей, кому выгодно производить и продавать вооружения, а для этого надо иметь хорошие отношения с клиентами; не просчеты в политике, а своя линия, корыстная, узкогрупповая, прикрывающаяся фразами о поддержке национально-освободительного движения.
Согласились мы с Виктором, внешняя политика распылена по множеству ведомств, и в силу многочисленных согласований дело идет медленно и туго».
Хороший друг был Витя и специалист первоклассный, остро переживал его преждевременный уход из жизни. Арабисты в МИДе были сплоченным отрядом, и язык, и предмет знали превосходно.
Весна 1985 г. обещала быть не только фенологической. «В Москве опять ожидание, на этот раз ждут, как сложится со здоровьем у Черненко. Старички потихоньку умирают – последний по счету, в декабре 1984 г., Дмитрий Федорович Устинов. Перед этим успели “уйти” Огаркова. Один наш Андрюша держится молодцом. Уверяли свои “кремленологи”, что Андрей Андреевич рассматривает возможность “бросить шляпу в круг”».
«После смерти Андропова в определенный момент Устинов – в тройке он лидером не был – решил, что Громыко зарывается, и перешел на сторону Горбачева; с кончиной же Устинова претендентов только два: ваш и Горбачев», – говорил мне в феврале 1985 г. в сауне, как это водится (только потом узнал, что и бани прослушивались), журналист и славный парень Виталий Кобыш.
Мы в отделе не знали, естественно, когда и какое решение принял наш министр в раскладе сил, борющихся за «испанское наследство», но поразились произошедшей в нем в начале марта 1985 г. перемене. К Громыко вернулась его легендарная невозмутимость. Следующий, произошедший на моих глазах, случай подтвердил это.
Десятого марта прилетает в Москву Ролан Дюма, министр иностранных дел Франции, далекий потомок знаменитого писателя. Громыко, нужно отдать ему должное, сам ездил встречать тех иностранных коллег, которые были ему по душе. Едет он в Шереметьево-1 и на этот раз; как завотделом «Первой Европы» встречаю его в правительственном ВИП-зале. Самолет слегка опаздывает. Громыко выглядит абсолютно спокойным, можно сказать, умиротворенным.
Между тем ситуация, ставшая известной на следующее утро, почти шекспировская: часом раньше скончался Черненко, но знают об этом считанные персоны. В те времена утечки были практически исключены. Страна начинала о чем-то догадываться, слушая траурную музыку. Обычно она предшествовала официальному объявлению, но пока по телевидению гоняют веселое. Траур начали с утра.
Рассказывая мне лет двадцать пять спустя о событиях этого вечера, Горбачев упомянул, что первым узнал о смерти Черненко от Чазова. Михаил Сергеевич сразу же сообщил об этом Громыко, позвонив в машину: «Он ехал встречать какого-то французского гостя (Дюма! – А.). Назначив заседание Политбюро, продолжает Горбачев, попросил Громыко приехать на полчаса раньше. Потолковали перед Политбюро минут пять, не больше, договорились объединить усилия».
Прибывает Дюма, садимся в том же ВИП-зале выпить кофе перед дорогой в Москву. Заходит речь о программе визита, она Дюма нравится. Громыко замечает, что будут некоторые изменения, не уточняя какие. Мы, кто тысячу раз переделывал программу, заволновались. Только на следующий день поняли, что скрывалось за словами министра: выпал пункт о приеме Дюма у Черненко. Всего-навсего, что называется.
«Бедный Константин Устинович, – пишу я в дневнике, – никто его по-настоящему не оплакивает. Фразы по радио о глубокой скорби звучат фарисейски. Одна жена – показали по ТВ – никак не могла отойти от гроба, все гладила его седые волосы».
Следующая дневниковая запись: «Если Громыко принял решение не идти в открытый бой за пост генсека, то оно было правильным. Шансов в самом деле крайне мало. После трех смертей общественное и партийное мнение резко против стариков. Зато сейчас уверенно держится на всех публичных появлениях на третьей позиции – после нового генсека Горбачева и премьера Тихонова. Общий говор – быть ему президентом».
Политическая траектория Андрея Андреевича Громыко растягивается на две трети ХХ в. Вряд ли найдется другой деятель подобного калибра, который начинал бы свою карьеру при Сталине, а оканчивал при Горбачеве. Уже одно это долгожительство заставляет задуматься о феноменальных способностях. Равно как и такой системе власти, которая если не поощряет, то предполагает приспособленчество к меняющейся среде. Каждый деятель, приходя во власть, застает политическое и иное устройство своей страны в том, естественно, виде, в каком оно сложилось. Большинство устраивает статус-кво. Тех, кто пытается на благо страны изменить положение к лучшему, во все времена не много. Но именно здесь проходит водораздел, определяющий лицо и место в истории того или иного политика. Что касается Громыко, то вот как это видится со стороны: «На посту министра иностранных дел Андрей Андреевич оставался справным крестьянином: он не хотел перемен и сделал все возможное, чтобы законсервировать страну в том виде, в котором она досталась ему от Сталина и Молотова»[51].
С учетом исторического развития нашей страны именно из крестьянства вышла в свое время преобладающая часть номенклатуры.
К такому выводу я пришел умозрительно, но в минуту откровения поделился им с работником аппарата ЦК, с кем вместе корпели в ноябре 1982 г. над брежневской речью, той самой, произнести которую Леониду Ильичу не довелось. Он в ответ воскликнул спроста: «Как ты додул?» Потом рассказал, что знаком с личными делами и был удивлен, как много выходцев из кулаков можно вычислить среди номенклатуры. По его словам, порядка 80 процентов.
Наряду с положительными качествами, такими как трудолюбие, осторожность в суждениях («молчание – золото»), исполнительность и терпение, эти люди принесли в эшелоны власти слабое чувство служения обществу, ибо его не было в их социальной традиции. Первая заповедь: думай о себе и своих, остальное приложится.
В далекие 1960-е Громыко буквально очаровал меня: до невозмутимости уверенный в себе, щелкающий иностранных собеседников, как орешки, не чурающийся самоиронии. Приведу образчик: произносит Громыко тост, говорит по своему обыкновению без бумажки и начинает так: «Имею в виду сказать короткую речь, – держит паузу и добавляет, – если по дороге ничего путного не придет в голову».
Подкупали его отношения с женой, Лидией Дмитриевной. Чувствовалось, что это глубоко преданная друг другу пара. Такая «цитата» из 1960-х. Едем по итальянским холмам и долам, чета Громыко сзади, я, переводчик, впереди. Тогда об охране заботились меньше. Лидия Дмитриевна говорит с легким белорусским акцентом: «Посмотри, Андруша, красота какая». Ей приходится повторять фразу несколько раз, пока Андрей Андреевич не подает реплику: «Лида, вижу». Как было не очароваться!
Меня из мидовского подлеска Громыко стал выделять после следующего случая.
Май 1967 г., в Москву прилетает министр иностранных дел Италии Аминторе Фанфани. Андрей Андреевич встречает его на аэродроме и везет, как пишут в протокольных сообщениях, в отведенную резиденцию. Демонстрируя свою симпатию к Италии, которую Громыко действительно любил и хорошо знал ее историю, он начинает цитировать, как говорит, пушкинские строки: «Графиня Эмилия, белее, чем лилия…»[52]Далее, однако, не может вспомнить, как это стыкуется с Италией. Тут я прихожу на помощь: «Стройней ее талии на свете не встретится, и небо Италии в глазах ее светится». При этом, будучи уже кое-каким царедворцем, умалчиваю, что никакой это не Пушкин, а Лермонтов.
На следующее утро только вхожу в мидовский особняк на улице Алексея Толстого, ныне Спиридоновка, где обычно проходили переговоры, слышу, что меня спрашивает Громыко. Выталкивают пред светлые очи, и Андруша говорит: «Вот Адамишин, Пушкина знает», – несколько даже удивленный, что есть в его коллекции такие экземпляры. И вся публика за ним: «Пушкина знает, Пушкина знает».
Когда я помечал в дневнике этот эпизод, то закончил патетикой: «Дорогие мои дед и баба, и с того света вы помогли внуку, раз и навсегда привив любовь к изящной словесности. Не пренебрегайте ею, молодые люди».
Позже я убедился, что министр различал не много людей в центральном аппарате. По имени-отчеству обращался к первому заму и прикрепленному врачу, почти ко всем остальным – по фамилии. В министерстве его звали за глаза «Гром» и боялись панически, хотя на наказание скор не был, больше выговаривал. МИДом управлял как своей вотчиной, что относилось и к кадровым назначениям.
Переводческая моя стезя перешла затем в спичрайтерскую. Поставил меня на нее Анатолий Гаврилович Ковалев, мой неизменный куратор. Квалифицированных «писарей» в МИДе всегда недоставало, он же заметил за мной, как ему казалось, легкое перо. Несколько лет был на положении подмастерья. Потом вышел в «коренники».
Запомнились в этой связи столетие со дня рождения В.И. Ленина и торжественный доклад по случаю годовщины Октябрьской революции в 1973 г. Сделать его было поручено Громыко, только что ставшему членом Политбюро. Это скачок из числа качественных. Выступление в связи с праздником Октября в кремлевском ареопаге считалось вторым по престижности после речи на партийном съезде. Бог ты мой, сколько раз мы переделывали этот доклад, сколько месяцев, да, месяцев, корпели над каждым словом!
Как итог, четверть века без перерыва отслужил в Москве близко к верхним (в МИДе они были нижними) этажам советской дипломатии. Сейчас об этом не жалею, но тогда пару раз просился на зарубежную работу, Андрей Андреевич не отпустил. «Зато» с течением времени, мучительно освобождаясь от иллюзий комсомольской юности, начал постепенно понимать, как функционирует механизм власти, тщательно скрываемый от посторонних глаз, какие неписаные законы – причудливое сочетание партийных норм и кланово-земляческих обычаев – царят наверху. Ну и, конечно, мои представления о внешней политике серьезно менялись по ходу службы больше всего, пожалуй, благодаря многолетнему общению с министром.
Насчет иллюзий: мидовский ВЛКСМ со старта способствовал «отрезвлению». Вскоре после прихода в МИД я был направлен на месяц поработать землекопом на стройке. Я отнесся к этому спокойно, ведь рабочей силы такого рода хронически не хватало. Поразило другое: «поощрение», в открытую предложенное комсомольским секретарем министерства (помню до сих пор его фамилию, Кобяк): «Вернешься, можешь подавать заявление в партию». Отработал я «за так», а в КПСС вступил (подобные случаи отбивали охоту) через девять лет, когда стало невозможно откладывать.
Выход Громыко на дипломатическую сцену произошел в полном созвучии с тогдашней эпохой. Ученый секретарь Института экономики попал в 1939 г. на работу в Народный комиссариат по иностранным делам (НКИД) в результате набора, который многие называли «сталинским». Старая гвардия, состоявшая преимущественно из большевистской интеллигенции, была вычищена и почти полностью репрессирована.
Слово многократному послу и первому замминистра Юлию Михайловичу Воронцову: «Тогда выстригали весь верхний эшелон МИДа. Я не знаю, как Громыко себя чувствовал, он что-то не рассказывал. Но знаю от моего начальника С. Царапкина. Он мне рассказывал: “Пришел в МИД с другой работы, сразу замзавотделом поставили. На следующий день прихожу, завотделом нет. И мне говорят: ты будешь завотделом. Я даже не знаю, каков круг обязанностей и вопросов, не успел вникнуть. Я направо-налево посмотрел, тоже никого нет – всех арестовали”»[53].
В то расстрельное время тридцатилетнему экономисту-аграрнику доверили отдел американских стран внешнеполитического ведомства. Громыко двинул В. Молотов, только что сменивший М. Литвинова на посту наркома иностранных дел. Впоследствии Вячеслав Михайлович гордился этим и не раз повторял: «Громыко – мой выдвиженец».
Через полгода после прихода в НКИД Громыко направляют в посольство СССР в Вашингтоне советником по сельскому хозяйству. Литвинов (он стал там послом) большой расположенности к нему не проявил. А. Добрынин в своей книге пишет о непростительном промахе посла: «Как исторический курьез старожилы МИДа из кадрового управления рассказывали следующее. Литвинов не любил Громыко. Когда, по заведенному порядку, Литвинов прислал ежегодные характеристики своих сотрудников, то в первой характеристике Громыко было написано, что он к дипломатической службе не подходит»[54]. Пикантность в том, что посол не знал одной детали: накануне отъезда Громыко в США его принял Сталин. И уж, конечно, не догадывался, что через какое-то время получит указание из Москвы – сдайте дела Громыко.
Мемуаристы пишут, что американцы были раздражены подобной рокировкой: из советника в послы, беспрецедентной в дипломатической практике. «А у нас, – замечает Воронцов, – считалось, что Сталин сделал это намеренно. Чтобы ущемить американцев, показать свое недовольство их маневрированиями» (речь шла о затянувшемся открытии второго фронта).
Власть в лице Молотова и Сталина со старта проявила благосклонность к Андрею Андреевичу, и ее доверие не было обмануто.
В 1943 г., в разгар войны, Громыко – посол в США. Дальше карьера продолжалась столь же успешно, вплоть до двадцативосьмилетнего непрерывного пребывания (1957–1985) на посту министра иностранных дел. Не приди к власти Горбачев, Громыко перекрыл бы рекорды министерского долголетия. (Кроме, возможно, российского: граф Карл Васильевич Нессельроде служил в этой должности сорок лет.)
Необычно длительное по западным меркам нахождение Громыко во власти было притчей во языцех у иностранцев. В государствах, с которыми поддерживал отношения Советский Союз, менялись президенты, премьеры, министры. Но когда они приезжали в Москву, их ждала встреча все с тем же Громыко. Вели они себя с советским министром, по крайней мере, на встречах, где я присутствовал, с заметным пиететом, некоторые заискивали.
Нашелся один «провокатор», министр иностранных дел Нидерландов ван ден Брук.
В беседе с ним в апреле 1985 г., уже в перестройку, Громыко разоблачал США и их союзников, говорил о принципиальной политике СССР. Полной неожиданностью и для министра, и для меня, присутствовавшего при разговоре, прозвучали слова голландца: «Знаете, я на всю жизнь запомнил слова детской песенки: “Как же это грустно, что я так хорош, а мир так плох”». Не нашелся Громыко, что ответить. Он мог быть резким и саркастическим, но абсолютно не привык, чтобы кто-то мог так перечить ему. И лишь в конце беседы, когда голландец для проформы сказал: «До следующей встречи», Громыко с раздражением ответил: «В двухтысячном году!» Тот сдерзил и на сей раз: «Вы и тогда будете министром?» На что Громыко уже крикнул: «Да, буду обязательно!» Голландцу надо было приехать домой с возможно более жесткой позицией Громыко по существу вопроса (ракеты средней дальности). Для этого он и выводил Андрея Андреевича из равновесия.
Мне же вспомнился случай, произошедший во время государственного визита в Италию Подгорного в 1968 г. Ему предоставили возможность выступить на митинге рабочих ФИАТа на огромной площади перед заводом. Мол, хотите пообщаться с пролетариатом, пожалуйста. Растерялся Николай Викторович, привыкший к советским тепличным условиям, говорил больше междометиями и лозунгами, хотя принимали его – для левых он был посланцем страны победившего социализма – восторженно. Не входило в арсенал советских руководителей умение напрямую говорить с массами, да еще на открытом воздухе. Искусством цивилизованной полемики также владели единицы.
Мало-помалу (на это ушли годы) мое очарование министром стало улетучиваться. В первую очередь потому, что все чаще вставали передо мной вопросы касательно нашей политики и того, как она определялась. В предыдущих очерках мы видели настрой Громыко, его позицию по Чехословакии, Афганистану, установке СС-20, гонке вооружений, конфронтации, правам человека. Коллеги по МИДу в один голос говорят, что Громыко не был инициатором тех решений, многие из которых позже сам назовет ошибочными. Может быть, что и так. Но он не остановил их и не исправил.
Неоднозначно поведение Громыко во время кубинского кризиса 1962 года. При подготовке встречи с Кеннеди в Вене Хрущев предложил своим коллегам по Политбюро оказать нажим на молодого американского президента, что, в конечном счете, и привело к завозу ракет на Кубу. Микоян попытался возражать, оставшись в единственном числе. Громыко промолчал. Так, во всяком случае, оценивает ситуацию Добрынин[55].
Судя по мемуарам самого Громыко, в разговоре с Хрущевым один на один Андрей Андреевич предупреждал его против ракетной авантюры, говорил о неизбежном серьезном кризисе. Других свидетельств этому нет. Но пусть будет так. В любом случае Хрущева убедить не удалось, и Громыко посчитал свою миссию выполненной. Между тем страна оказалась на волоске от ядерной катастрофы. Снимая Хрущева, его соратники справедливо вспомнили ему Кубу, несправедливо забыв о себе.
Добрынин переживал, что Хрущев и Громыко сознательно дезинформировали его – и соответственно он лгал Кеннеди насчет «сугубо оборонительного оружия», завезенного на Кубу. Кстати, Хрущев использовал для своих довод, который впоследствии оправдывал другие необдуманные акции типа ввода войск в Афганистан: «Почему им можно, а нам нельзя?»
Однажды Андрей Андреевич высказал свою философию принародно. На совещании дипсостава МИДа он давал оценку событиям (дело американского пилота Пауэрса), когда кто-то из зала бросил реплику: «А Вы не возразили?» Громыко, строго взглянув на сидящих, отреагировал: «Возразить-то можно было, но возразивший потом вышел бы в боковую дверь, никем не замеченный»[56].
«Советские дипломаты, – жаловался Г. Киссинджер, – почти никогда не обсуждают вопросы концептуального характера. Их тактикой является упор на проблему, интересующую Москву в данный конкретный момент, и настоятельное упорство в достижении ее разрешения, рассчитанное не столько на то, чтобы убедить собеседников, сколько на то, чтобы их вымотать. Настойчивость и упорство, с которыми советские участники переговоров проводили в жизнь решения Политбюро, отражали железный характер дисциплины и внутренний стиль советской политической деятельности, превращая высокую политику в изнурительную мелочную торговлю. Квинтэссенцию подобного подхода олицетворял Громыко»[57].
Произошедшая в сталинские времена общая подмена нравственных понятий коснулась и манеры поведения. В моду вошли молчаливый суровый вид, безоговорочность суждений, не возбранялось при случае унизить подчиненного. (Известно, что Хрущев позволял себе непристойную грубость в отношении Громыко, в том числе в присутствии иностранцев. Ветеран мидовской службы Е.П. Рымко описывает такой случай в своей книге.) Не уважая достоинство личности, трудно было соблюдать достоинство политики. Кроме всего прочего, страдала практическая работа. Вот один из примеров.
Завершается работа над речью министра на второй спецсессии Генассамблеи ООН по разоружению. Нас трое: Громыко, его первый зам Корниенко и я, спичрайтер. Обращаю внимание, что один из пассажей, внесенных верховной рукой, надо бы снять, ибо раньше мы говорили обратное. Громыко обращается к Корниенко: «Он врет?» Георгий Маркович знает, что я прав, но он знает и то, что противоречить министру «при людях» – себе дороже. Он выходит из положения, молча делая знак, что можно продолжать. Текст как был неправильный, так и остается. Окончательная редакция за мной. Спрятав обиду в карман, вычеркиваю злосчастный абзац. В этом виде речь проходит и Корниенко, который правку, разумеется, заметил (документы, а тем более выступления министра он тщательно вычитывал), и Громыко.
Речь в Нью-Йорке прошла нормально. Но на пресс-конференции Андрей Андреевич, говоря импровизированно и без бумажки, ошибочный тезис все же озвучил. Тут же обратили его внимание на некорректность позиции. Громыко не знал, что ответить. Наш главный эксперт Виктор Карпов сильно расстроился: «Такими неосторожными заявлениями подрываются наши позиции».
Одергивания, порой оскорбительные, закрывали возможность для нормального обсуждения. В МИДе можно было по пальцам пересчитать людей, которые смели высказать министру свое мнение по деловым вопросам. Если же знали, что оно расходилось с громыкинским, то почти никто. Мне, уже члену коллегии, вроде «допущенному», он как-то сказал абсолютно серьезно: «Какое право Вы имеете судить?»
В первые годы под началом Громыко от него не приходилось выслушивать обидных слов, и чужое мнение он мог воспринять. Втайне я гордился: меня и держат потому, что я говорю, что думаю. Метаморфоза происходила по мере того, как давал знать о себе возраст, крепчал «застой» и укреплялось положение во власти.
Психологи считают, что вовремя уйти означает избавить и себя от многих неприятностей. У людей наверху, что в застойные, что в нынешние годы, подобная мысль не возникает. «Политик хочет оставаться на своем посту всегда из самых высоких побуждений» (Агата Кристи).