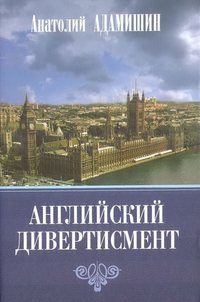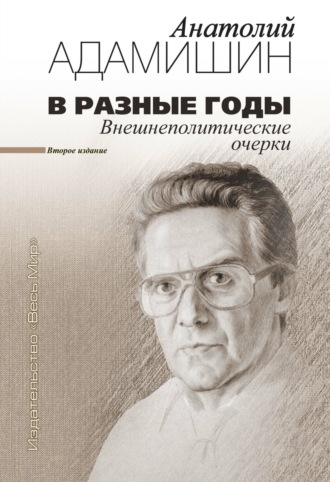
Полная версия
В разные годы. Внешнеполитические очерки
Характерно следующее признание: «К тому времени фактически стало правилом: что бы ни предложил Косыгин, Брежнев в итоге выступал против»[28].
Еще до этого, в мае 1978 г., когда Брежнев приезжал в Бонн, тот же канцлер Шмидт в беседе с ним с глазу на глаз настойчиво просил решить проблему СС-20. Он честно предупредил: «Если Советский Союз не устранит нависшую над Западной Европой угрозу, нам придется думать об адекватных мерах самозащиты». Шмидту явно не хотелось новых ядерных ракет у себя дома. Но от его тревожных сигналов отмахнулись[29].
Накануне визита Брежнева в Бонн в 1981 г. Рейган предложил свой знаменитый «нулевой вариант», сразу же поддержанный американскими союзниками. США готовы были отказаться от размещения ракет «Першинг-2» и крылатых ракет наземного базирования, если СССР демонтирует установленные в Европе СС-20 и старые ракеты. Мы «ноль» отклонили, но сопроводили отказ предложениями, вполне приемлемыми для рассмотрения. Американцев, однако, устраивала перспектива подвинуть свои ракеты ближе к нашим рубежам. Они ушли от делового обсуждения. Накануне же начала размещения американских ракет (ноябрь 1983 г.) была своего рода перестрелка – выдвижение предложений американцами, наш почти немедленный отказ, наши контрпредложения, шедшие в некоторых отношениях навстречу американцам, их быстрый отказ под различными предлогами.
В этих условиях от нас требовались тем большая настойчивость в поиске развязок, тем большее искусство в нахождении щелей между США и Западной Европой. Нам, к сожалению, не доставало ни того, ни другого. Но не из-за нехватки умения. Не до дипломатии было, когда первую скрипку играли МО и ВПК. На руку американцам была и наша манера представлять новые инициативы: сразу публично, чаще всего в выступлении генсека, не обговорив заранее с теми, кому они предназначались. В немалом количестве они и не были рассчитаны на серьезное обсуждение, скорее, должны были воздействовать на общественное мнение.
Борьба за души людей считалась одной из главных задач МИДа. Лучшие перья министерства месяцами отвлекались на писанину. Думаю, что американцы учитывали эту нашу практику и заранее готовили контршаги, играя, как Рейган с его «нулем», на опережение. В данном случае перед советско-западногерманскими переговорами, результаты которых США стремились заранее нейтрализовать.
Переговоры бессмысленны? Ответная реакция на «Пионеры» не заставила себя ждать. Пиар, употребляя современную терминологию, придумали хитрый: решение НАТО от 12 декабря 1979 г. считалось «двойным»: если до 1983 г. не придем к полюбовному соглашению, американские РСД в течение следующих двух лет будут установлены в Европе.
Есть, кстати, данные, что это решение было воспринято нашим руководством, как последний звонок для ввода войск в Афганистан: мешкать больше нечего, «Першинги» могут появиться и там.
По моей записи, Громыко говорил на коллегии: «Знаем цену формулы о двойном решении. С виду какой-то конструктивный элемент содержится: нет вроде безусловного, без переговоров, размещения. Но все ставится в зависимость от позиции США, а они договоренности не хотят». Вот и весь сказ. По сути, МИД прикрывал ссылками на США жесткую позицию главы Министерства обороны и Военно-промышленного комплекса..
Много времени было истрачено на попытки ультимативно повлиять на позицию НАТО: «Не сядем за переговорный стол, пока не будет отменено двойное решение». Не добившись этого, в ноябре 1981 г. в переговоры мы все же вступили, но вели их ни шатко ни валко. О чем говорить? Этот довод показался железным для Политбюро. О том, что у нас есть, а у них нет? Менять ракеты на воздух? Вот поставят, тогда поговорим.
Ставку сделали также на то, что западные европейцы не захотят иметь магнит, который притягивал бы советские ядерные заряды. Посмотрите, какую силу набирают сторонники мира! Не смогли же американцы разместить в Европе нейтронные бомбы. Антивоенное движение в Западной Европе, безусловно, тормозило наращивание здесь американского оружия. Не случайно речь о «Першингах-2» зашла только тогда, когда появились «двадцатки». Но давления общественности оказалось недостаточно, чтобы не допустить размещения американских ракет при продолжающемся развертывании советских. Сторонники мира, кстати сказать, давили и на нас, требуя демонтажа части СС-20.
Демонстрации 22–23 октября 1983 г. в странах Европы собрали миллионы людей. Это сказалось и на результатах голосования. Итальянский парламент: 351 за размещение крылатых ракет, 219 – против, а Западногерманский бундестаг: за установку «Першингов» – 286 «за», 226 – против. Будь наша политика гибче, могли бы действительно сыграть на антивоенных мотивах.
Отмечу, что разные были настроения в Западной Европе. Доходили сведения, что Франция, сама не участвуя в размещении американских ракет, отнюдь не препятствовала тому, чтобы «Першинги» появились в ФРГ. Это, по мысли Миттерана, должно было надолго поссорить нас с немцами.
В отчаянных попытках свести обрывочные данные в цельную картину я, как шолом-алейхемский мальчик Мотл, постоянно совал нос не в свои дела. Вернее, те, что не относились непосредственно к моим обязанностям. Подобная «интрузия» негласно, а иногда даже очень гласно, не поощрялась. Каждый раз, когда Юлий Квицинский приезжал с женевских переговоров по РСД в Москву, я пытался узнать у него что к чему. Отношения у нас с ним были товарищеские, и мы, разойдясь политически, их сохранили вплоть до его безвременной кончины. Но на расспросы Юлий реагировал сдержанно, хотя у меня имелся предлог: написание речей требовало информации во всех областях. Смысл скупых высказываний главы нашей делегации на переговорах был ясен: света в конце туннеля не видно. К чести Юлия надо сказать, что, действуя изобретательно, он пытался найти выход из положения.
В марте 1983 г. Рейган заявил о начале реализации так называемой стратегической оборонной инициативы (СОИ). Иными словами, полномасштабной противоракетной обороны (ПРО) с элементами космического базирования. Мы посчитали, что в случае ее создания она была бы способна перехватывать советские межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) на разгонном участке траектории полета.
На это мы заявили, что СССР будет вести переговоры по РСД только «в пакете» с космическими вооружениями. Одновременно СССР взял на себя односторонние обязательства не испытывать противоспутниковое оружие. США это проявление доброй воли проигнорировали, а на пакетные переговоры не согласились, их вполне устраивала складывающаяся ситуация.
Осенью 1983 г., как и предусматривалось решением НАТО, американцы начали устанавливать свои РСД. 25 ноября мы хлопнули в Женеве дверью: пока не уберете размещаемые ракеты, переговоры бесплодны. Это сопровождалось целым рядом других мер: был отменен мораторий на развертывание советских ядерных средств средней дальности в европейской части СССР, действовавший почти полтора года. Было объявлено также о размещении ракет «Ока» на территории ГДР и Чехословакии (их дальность действия теоретически позволяла достигать территории ФРГ). В течение следующих трех недель ушли мы также с переговоров по стратегическим вооружениям (они шли в Женеве с июня 1982 г.) и с венских переговоров по обычным вооружениям. То есть полный тупик, в общем-то, наказывавший нас самих.
Политический и престижный ущерб оказался двойным: и от потери времени на срок действия ультиматума, не имеющего шансов на успех, и от снятия его впоследствии. Американцы получили свободу рук. Они и ракеты устанавливали, и бюджет Пентагона увеличивали в разы, и кричали на всех перекрестках, что готовы возобновить переговоры в любой момент. Трудно было отделаться от мысли, что наше руководство ошиблось: бойкот переговоров ни к чему не привел.
30 ноября 1983 г. записал в дневнике: «Трудный период: Андропов (Генсек) снова болен, реформы, если их можно так назвать, приостановились, обстановка все более накаляется, “ястребы” кружат, как хотят. Проиграли борьбу за неразмещение американских ракет, хотя еще неизвестно, все ли у нас хотели ее выигрывать. Ведь так тоже можно: отвечай ударом на удар, милитаризируй политику, под этим предлогом, ничего не меняя внутри, затягивай гайки. Проблемы вновь загоняются вглубь. Ковалев в отчаянии, говорит, брошу все и уйду в отставку, внешняя политика рассыпается, сколько строили, все рушится.
Шумели мы, шумели насчет того, что размещение американских ракет в ФРГ не пройдет ей бесследно, а что вышло на деле? Экономические связи с Западной Германией растут, причем приоритетно, по заказам она идет на первом месте (как и по торговле), опережая Францию вдвое. Причем сессию совместной комиссии провели с немцами на “ура” буквально перед решением бундестага о ракетах. Другие связи, в том числе политические, также не страдают, если не считать некоторых сугубо показушных жестов, кои, однако, преподносятся “наверх” как серьезно немцев вразумляющие».
Многие в Западной Европе не горели желанием иметь у себя «Першинги» и «Томагавки», но из пяти стран – ФРГ, Великобритания, Италия, Бельгия и Нидерланды – уклониться от размещения сумели только голландцы, взявшие на пару лет тайм-аут. Об этом чуть позже.
Тем временем Рейган продолжал нагнетать давление. В США были запущены беспрецедентные военные программы. Громыко выразился следующим образом: «Никогда еще в Вашингтоне не было такого культа вооружений». Доводы американского президента отдавали демагогией, но были просты и доходчивы: воспользовавшись мягкотелостью Картера, СССР обогнал Соединенные штаты в гонке вооружений. Теперь США берутся за ум, они не допустят военного превосходства над собой. И вообще коммунизму, после того как он нанес поражение США во Вьетнаме, в Афганистане, Анголе, Эфиопии, Зимбабве, Никарагуа, объявлен «крестовый поход». Ему не будет позволено продвинуться на мировой арене ни на дюйм. (Словечко это – дюйм – любили американцы. В другом контексте, обещая непродвижение НАТО на Восток, его повторит Горбачеву госсекретарь США Бейкер.)
Американская разведка намеренно преувеличивала военный потенциал Советского Союза с тем, чтобы администрация смогла проводить через Конгресс новые ассигнования на «оборону». Нас же сознательно запугивали СОИ, в данном случае явно преувеличивая ее опасность для СССР. Дезинформация проводилась в жизнь искусно. Уверяли, что это чисто оборонительный проект, что развернут космическую оборону тогда, когда будут ликвидированы все баллистические ракеты, так что не будет возможности нанести нам под прикрытием СОИ удар, и т.п. К сожалению, поначалу мы поддались на эту «пугалку» (так ее впоследствии назвал Горбачев). Целью было втянуть в очередное состязание с США. Отрезвление пришло с приходом к власти Михаила Сергеевича.
Одновременно играли с огнем, направляя к границам СССР боевые самолеты, которые отворачивали в последний момент; стратегические бомбардировщики появлялись над Северным полюсом, проверяя советские радары; проводили военные маневры вблизи наших рубежей, вынимая из ножен ядерное оружие. В советском руководстве всерьез опасались, что США близки к тому, чтобы нанести по нам обезглавливающий первый удар. Шульц пишет, что для американцев это было невероятным[30].
В реальной жизни, как позже признался Шульц, американцы были далеки от того, чтобы создать космическую оборонительную систему, которая хотя бы как-то напоминала СОИ[31]. Уже преемник Рейгана Буш стал от нее отходить. Сейчас о СОИ и не вспоминают.
Рейган оправдывал гонку вооружений в США тем, что ее цель сделать русских более сговорчивыми. «Должны же они понимать, что в длительном соревновании американская технология возьмет верх». Так выражались на публику. Среди своих президент говорил иначе: мы их до смерти разорим.
На фоне такой ситуации у нас стали чаще задаваться вопросом, не вернуться ли к поискам какого-то общего языка с США. Необходимость этого настойчиво, хотя и «негласно» (любимое словцо Анатолия Федоровича Добрынина), проталкивали все те же «разрядочники» в ЦК, КГБ и МИДе, подчеркивая вновь возникшую угрозу. Сам слышал следующий довод: «До Москвы “Першинг” долетает за несколько минут и попасть может в форточку».
На встречу с Шульцем в Стокгольме в январе 1984 г., подгаданную под открытие там конференции по разоружению и мерам доверия (привет мадридской встрече СБСЕ!), Громыко поехал уже с несколько изменившимся настроем. Но не по евроракетам. Наш подход был прежним и абсолютно нереальным: возвращение к статус-кво анте, т.е. к положению, существовавшему до начала размещения американских ракет, и только тогда возобновление переговоров.
Отказывались от нами же созданного тупика по частям: предложили возобновить венские переговоры по обычным вооружениям.
Ненадолго пришедший к власти Черненко, думаю, хотел оставить свой мирный отпечаток в истории. Приехавшему на похороны Андропова вице-президенту Бушу (до этого он присутствовал на похоронах Брежнева и приедет в третий раз на похороны самого Черненко)[32]Константин Устинович сказал: СССР и США не являются врожденными врагами.
По старой любви к итальянцам отмечу, что они одними из первых уловили признаки потепления и откликнулись на него. Премьер Б. Кракси выступил в начале мая 1984-го с предложением: СССР возвращается на переговоры по РСД, а НАТО в ответ на это вдвое сократит размещение своих ракет. Ни с кем из союзников по НАТО итальянцы свой демарш не согласовали, и он был быстро подавлен. Я же подумал: итальянцы верны себе еще со времен Ла Пира и Фанфани.
Вылазка итальянцев, разумеется, приободрила Москву, позиция по РСД была повторена с прежней жесткостью. С чем мы торопились, это с началом переговоров по космосу. «Пугалка» СОИ, видимо, продолжала сильно тревожить. В июне 1984 г. мы предложили американцам (сразу же по нашему обыкновению дав сообщение в печать) начать переговоры по демилитаризации космического пространства. Американцы ответили быстро и в принципе положительно, но с добавлением: обсудить также наступательные вооружения, ибо, мол, стратегические ракеты летают через космос. Копируя нас, свой ответ США дали через печать. Борьба за души людей в лучшем виде.
В октябре 1984 г. вследствие импульсов, идущих сверху, МИД получил указание подготовить «реалистические предложения» по ракетам средней дальности.
Потепление, хоть не без срывов, продолжалось: было решено, что Громыко в отличие от прошлого года поедет на сессию Генассамблеи ООН. Американцы на этот раз пригласили его встретиться с Рейганом в Вашингтоне. После ввода наших войск в Афганистан встречи советского министра, приезжавшего в ООН, с президентом США (раньше они были традиционными) американцы не предусматривали.
Перемена вписывалась в параметры стратегии Рейгана в отношении СССР (закончив военные программы, наладить серьезный диалог) и лила воду на его избирательную мельницу. С нашей же стороны особой последовательности не было, ибо поначалу решили ничем не способствовать Рейгану. Согласие встретиться с ним не вписывалось в этот тактический замысел, но, имея в виду долгосрочные интересы, было, разумеется, правильным. В ноябре 1984 г. Рейган одержал внушительную победу над Мондейлом.
Сразу же после переизбрания Рейган отправил письмо Черненко и получил скорый ответ. Хорошие, должно быть, помощники были в Секретариате Константина Устиновича. Их переписка привела к договоренности о встрече Шульца с Громыко, которая состоялась в январе 1985-го в Женеве. На ней условились начать в марте переговоры по всему комплексу вопросов: космос, стратегические наступательные вооружения (СНВ), РСД. До начала переговоров Константин Устинович, начавший искать выход из тупика, не дожил. Вычитал у Шульца, что на встрече с Громыко он сказал ему о намерении администрации США пригласить Горбачева, тогда еще не генсека, в Вашингтон, в том числе для встречи с Рейганом. Громыко среагировал отрицательно, и американец прекратил разговор.
Любопытна техника «спасения лица» – постепенно изменялась формулировка позиции, которая загнала нас в угол: вернемся на переговоры, если вы осуществите возврат к прежнему положению, – до тех пор, пока она не превращалась во вполне проходимую. Мы с Ковалевым однажды проделали эту хитрость с Громыко. Он, конечно, «просек» и поставил вопрос ребром: «Вы что же, прежнюю формулу не повторяете?» Мы вынуждены были признаться: не повторяем. Он принимает нашу формулу, по смыслу диаметрально противоположную прежней, но предваряет ее словами: как мы неоднократно заявляли. Порой я искренне восторгался.
Мы начали как бы новые переговоры по РСД в одном флаконе с СНВ и космосом. Три отдельных проблемы стали обсуждаться в Женеве в трех различных группах. Но массу времени упустили без всякой пользы.
Голландцы. Тот независимый характер, которым славятся жители этой страны, они проявили и в отношении американцев. У меня за восьмилетний период службы завотделом «Первой Европы» были периодические контакты с голландцами и в Москве, и в Гааге. Как-то поинтересовался, отчего они так любят поучать. «Мы ближе к Богу», – был ответ. Дальше я не спрашивал.
Из почти полтысячи крылатых ракет на долю Голландии приходилось всего 48 штук. Но даже этого небольшого количества голландцам иметь у себя не хотелось. Соседи уже не только дали согласие, но и установили первые ракеты на своей территории, а Голландия все тянула. Действовали они по принципу «и нашим, и вашим»: окончательное «да» или «нет» отнесли решением парламента до 1988 г., но площадки для размещения ракет на всякий случай начали строить.
Видимо, определиться они хотели поскорее, и где-то в 1984 г. голландцы вышли на меня с предложением: уберите 48 ракет из своей многосотенной группировки, и мы откажемся от «Томагавков». Я за это ухватился: военного значения нет никакого, но почему бы не попробовать притормозить весь накат? Да и эвентуальные трения внутри НАТО тоже не тот предмет, которым стоит пренебречь.
Стал стучаться во все двери, благо таких, за которыми кто-то мог повлиять на решение, было немного. Тщетно. Замминистра по США Виктор Комплектов признался по-товарищески прямо: «В эти игры играть не буду». Поскольку разговор пошел откровенный, я сказал несколько неодобрительных слов о сложившейся системе. Запомнился ответ: «Это мы с тобой далеко уползем. Система не рождает негативное, но дает возможность отсидеться за корягой, что все и делают». Мне было поручено дать голландцам отрицательный ответ.
Те, однако, не успокоились: ладно, не убираете ваши 48 ракет, тогда просто снимите их с боевого дежурства, а мы попытаемся отделаться от «Томагавков». Удалось бы им настоять на своем, не могу судить, но дипломатия заключается также в испробовании шансов. Внутри себя я буквально запрыгал. Уж слишком очевидными выглядели преимущества. Мы ничем не рисковали. Не получилось бы у голландцев отказаться от ракет, мы возвращали бы свои на боевое дежурство, и все тут. Да и поди проверь, снимались ли они.
Несколько раз мучил я Георгия Марковича Корниенко, первого замминистра, уже появлявшегося на этих страницах. «ГээМ», как мы его называли, был для нас царь и бог. Дипломат высочайшего профессионализма, глубокого знания – до деталей – практически каждого вопроса, работоспособный до удивления.
Вел он дела цепко, полагался, прежде всего, на себя и был, к слову, приятным работодателем. В том смысле, что давал тебе задание, ты его выполнял, а дальше он работал самостоятельно. Что выгодно отличало его от другого распространенного типа руководителя, который, бывало, ползает по твоей бумаге, да не сам водя пером, а требуя, чтобы правил ты, перечитывая ему каждые 30 секунд все новые и новые вариации. Как сейчас слышу скрипучий голос «Г.М.»: «Спасибо, теперь поумираю в одиночку». И ты, довольный, отправлялся на мероприятия более интересные, чем чиновничья служба, впоследствии не часто узнавая первоначальную «болванку».
Восхитительно было слышать, как разговаривает Георгий Маркович с зарубежными коллегами, особенно с теми, кто не давал себе труда читать первоисточники – тексты соглашений, коммюнике, записи бесед. Все это Корниенко знал досконально, беда поверхностному собеседнику попасть под его каток.
Поскольку в отличие от позднего Громыко с ним можно было дискутировать, то именно Георгия Марковича я убеждал ухватиться за голландскую идею. Вопросы ракет средней дальности он держал под особым контролем.
В тогдашнем МИДе количество лиц, причастных к этим, да и другим вопросам ограничения вооружений, было строго регламентировано специальным распоряжением министра. Равным образом, как и освещение внешнеполитических проблем в печати. Помню, какой разнос устроил министр на коллегии в декабре 1982 г. заведующему Третьим Европейским отделом Александру Петровичу Бондаренко, отличавшемуся, кстати, жесткими взглядами, за два слова сочувствия так называемым предложениям Уорнке по РСД (мы убираем старые ракеты и сокращаем «Пионеры» в Европе и Азии до определенного количества, американцы не размещают свои ракеты в Европе).
Какое-то время мои выходки терпелись по служебной принадлежности, как-никак Нидерланды входили в ведение Первого Европейского отдела. Но однажды, когда, видимо, «достал» я его голландскими завихрениями, Корниенко сказал мне: «Анатолий Леонидович, бросьте это дело. Здесь задействованы такие интересы – экономические, военные, политические, что никто Вам ничего не позволит сделать». Теперь, почитав его мемуары, понимаю, что «Г.М.» ориентировался и на свой горький опыт. Имею в виду тот эпизод, когда он вылез, и неудачно, на Политбюро с предложением рассмотреть компромисс по РСД, предлагавшийся Шмидтом. По пальцам можно пересчитать случаи, когда о пружинах нашей политики говорилось так откровенно. Моя «непонятливость» имела то продолжение, что зашла речь и о возможных организационных выводах. Ковалев, как я позже узнал, жаловался в своем кругу: «Адамишина вынимают из обоймы, а я ничего не могу сделать». На мою удачу, оставалось недолго до Горбачева.
Пораспрашивал позже людей, которые в МИДе и других ведомствах были близки к проблеме РСД. Общий ответ: ничего не слышали о голландском предложении. Иными словами, Корниенко расценил (и справедливо) эту идею, как наверху непроходную, и никуда ее за пределы МИДа не вынес.
Ошибка, которую задним числом признал Громыко, заключалась, разумеется, не в самом факте замены старых ракет на новые. Доверия друг другу не было никакого, и каждый стремился улучшить свой потенциал. Модернизацию другая сторона проглотила бы, она делала то же самое, просто сроки не совпадали по времени и по видам вооружений. Проблема в том, что не остановились вовремя, как предлагал Шмидт. Как, кстати, и вообще в гонке вооружений. Окажись военные планы сопряженными с внешней политикой, может быть, на волне антивоенных настроений в Европе удалось бы вообще избежать размещения новых американских РСД и всего для нас негативного, что за этим последовало.
Результативными переговоры по РСД стали только в перестройку, но концовка, как мы увидим во второй части книги, не была простой. В 2019 г. американцы под надуманными предлогами вышли из договора по РСМД. Мы до самого конца пытались его сохранить, но вынуждены были последовать вслед за США.
Достичь паритета! Не лучше обстояло дело в первой половине 1980-х годов и на других направлениях военного соперничества с США. И вообще в области разоружения. Один из главных наших экспертов в этой области Виктор Левонович Исраэлян 16 января 1985 г. доложил на коллегии, что уже в течение многих лет на конференции по разоружению не разработано ни одного соглашения.
Договоры и соглашения, заключенные ранее, лишь несколько приостановили наращивание вооружений на отдельных участках. Затем застой начался и здесь. Одной из причин оказалось вроде бы логичное стремление добиться полного равенства. Но уже определить его в условиях разной конфигурации ядерных сил СССР и США было крайне сложно. Еще труднее обеспечить.
О том, что ядерное оружие неприменимо как средство ведения войны, говорили друг другу на каждой советско-американской встрече в верхах. Понятно, что в функции сдерживания его нужно было гораздо меньше, чем уже накопилось и продолжало накапливаться. Но, возвращаясь домой, недрогнувшей рукой запускали очередные военные программы.
В 1972 г. Никсон и Брежнев, с гордостью подчеркнув, что впервые в истории две сильнейшие на Земле державы согласились взаимно ограничить свои вооружения, как бы шутя поспорили, сколько раз, семь или десять, они и после ограничений могут уничтожить друг друга.
Понимаю, что для брежневского руководства было немыслимым руководствоваться принципом самоограничения, иногда говорили – разумной достаточности. Но этот принцип применялся на практике такими странами, как Франция или Великобритания. У французов он выглядел примерно так: ядерные силы должны быть в состоянии уничтожить ту часть населения страны агрессора, которая равна населению Франции. Французы открыто заявляли, что их подводные лодки с ядерными ракетами на борту могут за полчаса убить 50 миллионов человек.