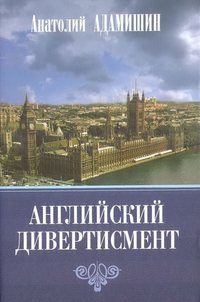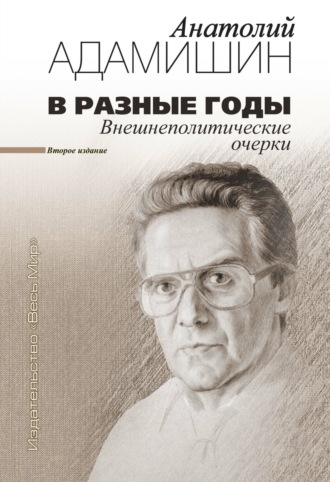
Полная версия
В разные годы. Внешнеполитические очерки
Первые международные последствия. Слабовольный Картер, умеющий только разглагольствовать о правах человека, из либерального «полуголубя» превратился в «ястреба». К тому же он посчитал, что русские, налгав ему, оскорбили его лично. Картер заявил тогда, что за два с половиной дня он узнал о «советских» больше, чем за все предыдущее время, и в корне изменил о них мнение. Теперь его действия определялись традиционной американской манерой – наказать. Не мог он не учитывать и близкие президентские выборы. В США полетели «разрядочные» головы, такие как «слишком интеллигентный» госсекретарь Вэнс, подавший в отставку в апреле 1980 г.
Такие головы были в США при всех президентах, формируя довольно устойчивую, скажем условно, «партию мира». Равным образом постоянно существовала и чаще брала верх «партия войны» – наиболее консервативная, шовинистическая часть правящих кругов США. Однотонная краска для характеристики сложной структуры американского истеблишмента не подходит. Сейчас, однако, добавлю в 2024 г., черный цвет покрывает почти всю палитру.
Парадом стал командовать Бжезинский, «небезызвестный враг Советского Союза», как он представился мне по-русски в Вашингтоне спустя много лет.
Когда запахло жареным, пошли разговоры – все ли, мол, МИД (sic!) рассчитал относительно Афганистана, учитывалось ли, что может не быть Олимпийских игр? 27 марта 1980 г. пометил слова моего министра: «Нет в Советском Союзе человека, который не ненавидел бы Картера. Каждый поймет, что если сорвется Олимпиада, то виноват будет он». Испанец Антонио Самаранч, ставший после того, как отслужил послом в Москве, президентом Международного Олимпийского комитета, был среди тех, кто помешал срыву. Игры, хотя и урезанные, но не забываемые всеми, кто их видел, состоялись.
Быстро появились меры пожестче: из сената был отозван Договор об ОСВ-2, который так и остался без ратификации. Правда, ряд экспертов утверждает, что Договор был обречен и без Афганистана: он не устраивал правых в США. Картер отменил любые переговоры и визиты в Союз, прекратил деятельность более десяти совместных групп. Ввел эмбарго на поставку 17 миллионов тонн зерна, в частности, кормового для скота, под которые были оборудованы новые животноводческие фермы. Помню, как на это жаловался мне министр иностранных дел Литовской ССР Виктор Михайлович Зенкявичюс.
Американская администрация, подхлестываемая республиканской оппозицией, использовала предоставленный шанс, как сейчас говорят, по полной программе.
Началась усиленная поставка оружия Пакистану, а через него моджахедам. Американцы не были бы американцами, если бы не переложили финансовые расходы на Саудовскую Аравию. США активно сколачивали антисоветский альянс из разношерстных мусульманских стран, впервые в послевоенной истории обратив против нас исламский фундаментализм и снизив давление на себя. Им удалось на какое-то время найти общий язык с Ираном. Его руководители затряслись, ведь у них был, как у Афганистана, договор с СССР.
Обхаживали американцы Китай, с которым мы и без того были почти два десятилетия на ножах. Уже в начале января 1980 г. Картер послал своего министра обороны Брауна в Пекин. Там была достигнута договоренность о координации действий, предпринимаемых каждой стороной против СССР в Афганистане. С тех пор, по выражению Громыко, «США и Китай шли локоть к локтю». Китайцы позволили США использовать Центр на северо-востоке Китая для слежения за запуском наших ракет, в лагерях на китайской территории готовились моджахеды. США стали поставлять Китаю военную технику.
Отмыться от либеральных слабостей, да еще от неудачи с освобождением американских заложников, захваченных в посольстве США в Тегеране, Картеру не удалось. Выборы в ноябре 1980 г. он проиграл с треском. А ведь при всей его эксцентричности с ним можно было поладить. Как выразился Ковалев: наплевали проповеднику в лицо, а потом при Рейгане, которому сами облегчили избрание, вспоминали добрым словом. Мое впечатление, что именно после Афганистана политикам в Вашингтоне стало окончательно ясно: с виду несокрушимый Советский Союз не столь уж неуязвим. Его руководители способны на поступки, близкие к самострелу. Администрация Рейгана приложила удвоенные усилия по изматыванию СССР всеми доступными средствами.
Поиски выхода. Осознание того, что нельзя было ввязываться в войну в Афганистане, пришло к нашим руководителям довольно скоро. В МИДе я почувствовал это по признакам скорее косвенным, но несомненным. Записал в дневнике: «Почти точно известно, что в марте 1980 г. Андропов и Устинов слетали в Афганистан и, вернувшись, доложили Политбюро, что к маю все будет окончено и можно будет возвращаться к политике разрядки».
Вхожий в высшие сферы академик Чазов свидетельствует: «Андропов, понявший свою ошибку, метался и нервничал». «Устинов же всегда оставался невозмутимым и, видимо, убежденным в своей правоте»[20]. Брежнев, по словам его помощника, упрекнул однажды инициаторов вторжения: «Ну и втянули вы меня в историю»[21].
Что же касается Громыко, то он как-то воскликнул при мне: «Это что, мы должны признать на весь мир, что совершили ошибку, а Жискар д’Эстен останется на белом коне?» Французский президент вызывал раздражение тем, что говорил с нами по афганским делам открытым текстом. Антисоветскую позицию Франции министр объяснял с классовых позиций неприятием социальных перемен в Афганистане.
Подчеркну, что хорошо повело себя наше посольство в Кабуле: оно давало реалистические оценки. Даже насчет декабрьских событий посольские ребята не стали врать. Хотя и для них была обязательной фальшивая версия, ушли за обтекаемые, но узнаваемые формулировки. Из их сообщений была видна такая революция, которую и защищать-то не стоило. Моджахеды оживились тогда, когда почувствовали слабость власти, перегибы, недовольство людей, отсутствие поддержки в массах, плачевные дела с экономикой. До марта 1979 г., до гератского мятежа, не было широких антиправительственных выступлений.
Особенно поразило меня, что до посольских доходило то, о чем говорили между собой афганские руководители: «Войну затеяли Советы, пусть они и воюют». Только вот была ли в коня корм посольская информация? А. Пузанов как-то пожаловался мне, что когда он вернулся в Москву после семи лет работы послом в Кабуле, никто из руководства с ним даже не встретился. А ведь посла фактически выставил ненавистный нам Амин.
Осенью 1981 г. по инициативе МИДа – и добавлю – к его чести (хорошо, что не ушел в отставку Корниенко) были организованы непрямые переговоры под эгидой ООН между Афганистаном и Пакистаном как главным спонсором моджахедов. Идея была также в том, чтобы в какой-то степени уменьшить негативное воздействие США. Но говорить можно было сколь угодно долго, ибо не решался центральный вопрос о сроках вывода советских войск.
С нашей стороны требовались более решительные шаги, и можно определенно сказать, что на них был готов Андропов. При первой же встрече с Кармалем в новом качестве генсека он сказал: «Через полгода мы уйдем, готовьтесь», – повергнув того в ужас. Но правление Андропова оказалось непродолжительным. Необходимо отметить, что позитивным действиям с нашей стороны препятствовала жесткая позиция США: уходите, и никаких условий. Американцев устраивало, чтобы мы завязли в Афганистане.
При Черненко оставались двое из трех инициаторов – Устинов и Громыко. Но ничего реального для прекращения Афганской войны сделано не было. Как пишет А. Ляховский, «ситуацию заморозили», хотя военные все настойчивее ставили вопрос о выводе войск[22].
По большому счету Афганистан так ничему и не научил. Важнейшие решения по-прежнему принимались «ограниченным контингентом» руководителей непрозрачно и келейно. Механизм, который помогал бы не допускать ошибок или найти пути их исправления, авторитарной системе был чужд. Практику исправления ошибок не выработали. О каком-то общественном обсуждении международных проблем можно было только мечтать. Партийно-номенклатурный порядок подчиненности остался столь же жесток по отношению к тем, кто осмеливался сказать свое слово. Потребовались годы, смерть трех генсеков и приход к власти Горбачева, чтобы дело сдвинулось с мертвой точки. Кто знает, сколько бы еще продолжалась война, если бы не Михаил Сергеевич.
Если заняться софистикой, то единственный плюс ввода войск вАфганистан состоит в том, что не применили силу на следующий год в Польше. Больше мы «интернациональный долг», во всяком случае жизнями наших солдат, уже не платили. Думаю, что и чехословацкая травма сыграла сдерживающую роль, по крайней мере, это относится к Брежневу. Твердую позицию против силового вмешательства заняли Андропов и Устинов. Да и как было открывать второй после Афганистана фронт?
Не развивая польскую тему, приведу несколько дневниковых записей.
30 марта 1981 г.: «В Польше, кажется, дело идет к развязке, если только контра не захочет потянуть еще, чтобы не дать нам повода вмешаться. А мы вроде его ищем. Настроение такое, что вот-вот вступим в игру мы. Все понимают, насколько это трагично, но перевешивает довод: “Мы не можем терять Польшу, не можем расписаться в неудаче исторического эксперимента”. Тают последние надежды, что мы удержимся от драки. А вдруг все-таки… Как-то сказал Ковалеву, что при любых обстоятельствах нельзя влезать в Польшу, не стоит она русской крови. Он: “Попробуйте это там посоветовать (кивок глазами на прямой телефон министра), только я вам очень не рекомендую”».
Много лет спустя узнал из рассекреченных материалов, что в Вашингтоне после прихода Рейгана всерьез рассматривали планы вторжения на Кубу и искали предлоги для этого. Одним из наиболее котируемых был бы ответ на наше военное вмешательство в Польше[23].
Выручил Ярузельский. Через год радостная запись: «Наводят порядок в Польше, все мы радуемся, прежде всего, тому, что самим не пришлось. Случилось все-таки второе “чудо на Висле”: поляки сами справились. Крик на Западе колоссальный. Что плохо – коммунисты, прежде всего итальянские, расплевываются с нами: конец, мол, эпохе, начатой в 1917 г. Резкие, но, в общем-то справедливые упреки в наш адрес: отрыв партии от народа, власть принадлежит не трудящимся, а бюрократической верхушке, закостеневшие догмы вместо творческой идеологии, постоянные и существенные ограничения свобод, завал экономики, аполитичность молодежи и даже утечка мозгов интеллигенции. И еще черт его знает, чем все в Польше обернется. Ведутся же у нас разговоры насчет того, что Ярузельский – гнилой оппортунист».
Представление о том, как мы видели ситуацию в Польше, дают оценки, сделанные Громыко на коллегии МИДа в декабре 1981 г.: «Принятые в отношении “Солидарности”, ее контрреволюционного ядра крутые меры осуществляются успешнее, чем можно было ожидать. Контрреволюции в Польше основательно подрезаны крылья. Скоро может зазвучать похоронный звон по контрреволюционному крылу “Солидарности”, которое готовилось вырвать власть из рук ПОРП. (Польская объединенная рабочая партия, оппозиция в Польше называла ее «партией воров».) Отсюда такой вой на Западе, но он не свернет польское руководство. Метод, который применен, дает шанс и больше, чем шанс, сохранить социализм в Польше. Альтернатива – гибель социализма. Нам говорят: не могло ведь польское руководство предпринять эти акции без СССР. Мы отвечаем: это польское национальное решение, не советское. Никто не вправе указывать Польше, какое решение принимать. Положение в Польше с каждым днем нормализуется. Армия, МВД, ГБ показали себя блестяще. Забастовки широкой не получилось, очаги погашены за единичными случаями. Почти бескровная операция, если есть жертвы, то не по причине военных властей. Можем с большой степенью уверенности смотреть вперед, но для выправления потребуются не месяцы, а несколько лет. Экономика расстроена крайне, нам приходится оказывать помощь, наш народ это понимает. Польша в долгах, как в шелках в силу неправильной, антинародной практики бывшего руководства. Но она была и остается надежным звеном Варшавского договора».
В информации партактива ухудшение ситуации в Польше объяснялось также тем, что прежнее руководство не прислушивалось к нашим советам. Главной же причиной называлось вмешательство извне. Это долгосрочная традиция: списывать свои промахи на иностранные происки. Не то чтобы их не было. Но они не достигают успеха, если ты проводишь разумную политику и в стране мир и согласие.
Пометил потом у себя в дневнике: «Социалистическими странами, политикой в отношении них, глубинными проблемами никто не занимается и не хочет. Отсюда сверхоптимистические оценки на грани самообмана. Зато возимся с Гренадой – прекрасный повод разоблачить американский империализм».
Еврейский анекдот. Позволю себе закончить афганскую тему не на драматической ноте.
Регулярно в годовщину или близко к ней ввода наших войск в Афганистан в Первый Европейский отдел приходили западноевропейские послы с демаршами. Как-то 13 января запросились сразу двое – посол Бельгии и временный поверенный в делах Голландии. Опять жду напряженного разговора. Но с первых же слов облегчение: есть просьба, говорят они, одного яхтсмена, живущего в Голландии, но бельгийца по гражданству, поэтому пришли вдвоем. Этим летом он хотел бы совершить проплыв в Ленинград, и мы очень просим, чтобы его туда пустили. Отвечаю: «Уважаемые господа, можете быть уверены, что сделаю все возможное для удовлетворения вашей просьбы. Сегодня у нас Новый год по православному календарю. Поскольку в праздник к месту всякие истории, расскажу один анекдот. Речь идет о еврейском мальчике, у которого старый папа, больная мама, масса братиков и сестричек, но он настолько прилежный, что еще ходит в хедер. На одном из занятий учитель его спрашивает:“Рабинович, сколько ножек у таракана?” Тот печально смотрит на него: “Господин учитель, мне бы Ваши заботы”». Голландец, побыстрее на реакцию, уже под столом от смеха. Бельгиец, более официальный, спрашивает: «Господин директор, эта история имеет какое-то отношение к нашей просьбе?» – «Нет, ни малейшего, сделаю все, чтобы ее выполнить. Но просто сегодня старый Новый год, и я допустил некую вольность».
Афганистан «догнал» меня в перестройку, об этом во второй части.
Очерк пятый
Его величество паритет
Гонка вооружений, понуждавшая экономику страны работать на пределе возможностей, вызывала тревожные вопросы у многих в МИДе и за его пределами. Вот высказывание из, казалось бы, неожиданного источника. Председатель КГБ В. Крючков, полемизируя с теми, кто противился заключению с США договора об ОСВ, утверждая, будто он дает американцам двойное преимущество над СССР, заявил: «Без договора гонка стратегических вооружений будет продолжена, мы в ней все равно американцев не догоним, а лишь еще больше измотаем свою экономику». Эти слова приводит посол и давний товарищ Юрий Назаркин, вплотную работавший на разоруженческой ниве. Он же отмечает, что, начав рулить от Горбачева, Крючков изменил свою позицию, и его представители на переговорах стали тормозить их[24].
Я поддерживал постоянный контакт с коллегами того мидовского подразделения, которое занималось разоружением. Благо оно находилось на одном этаже, десятом, для точности, что и «Первая Европа». Нехитрая вроде стратегия янки, говорили мы между собой: заставить нас все время их догонять, все больше и больше тратя на оружие, а ведь загнали в колею, из которой не дают выбраться.
На первый план выходят ракеты средней дальности (РСД). Начну с цитаты: «Установка СС-20 была грубой ошибкой в нашей европейской политике»[25]. Автор – Громыко, еще член Политбюро ЦК КПСС, но уже не министр иностранных дел. Сказано на заседании Политбюро 8 октября 1986 г., в перестроечное время. (Что называется с ног на голову, но мало кто это знает.)
В самом деле, перипетии с ракетами средней дальности поставили под реальный удар безопасность страны.
Родное название ракеты СС-20 – «Пионер». Но так как длительное время само это название было засекречено, то привилась западная аббревиатура (СС означает всего-навсего surface-surface, поверхность-поверхность).
С конца 1950-х годов были у нас нацелены на Западную Европу ракеты средней дальности Р-12 и Р-14 (или СС-4, СС-5). (Кстати, того же класса, что вместе с ядерными боезарядами были завезены на Кубу. Р-14 не доплыли в силу начавшегося конфликта и морской блокады острова, но Р-12 были установлены.) Потом их увезли обратно. Пришел срок их замены. С 1977 г. началось широкое развертывание этих самых «Пионеров», но уже мобильных, т.е. менее уязвимых, чем стационарные, и о трех ядерных головах вместо одной на прежних ракетах. В Вашингтонском космическом музее я видел один образец в подлинную величину рядом с небольшим «Першингом-2», сердце радовалось.
Меняли мы ракета на ракету, т.е. зарядов прибавлялось в три раза, да еще и старые убирать не спешили. Введено было новое оружие скрытно: в ту пору сама мысль обговорить нечто подобное с Западом казалась кощунственной. Собственному народу также, разумеется, ничего не сказали. «Пионеры», по нашим расчетам, позволяли нейтрализовать угрозу со стороны американских ядерных сил передового базирования.
Когда шило вышло наружу, нас обвинили в том, что оружие это направлено не только на американские объекты, но и на крупные цели, т.е. города. Послы стран, которые курировал Первый Европейский отдел, говорили мне, что СС-20 – это главная угроза для западноевропейцев. «Нам приходится жить в постоянной опасности мгновенного уничтожения».
Подобные стенания мы бы, наверное, стерпели – судьба ядерных заложников одна у всех. Но американцы поймали нас, что называется, на противоходе. Они получили хороший предлог для установки в Западной Европе своих «Першингов-2». Это были первые высокоточные ядерные ракеты с самонаведением на конечном участке подлета и к тому же с боеголовками, способными проникать глубоко под землю для повышения разрушительного эффекта. Другими словами, они могли не только нанести первый удар по пунктам управления и пусковым установкам советских ракет, но и поразить бункер, заранее приготовленный для особо важных персон.
Еще один крайне неприятный момент: наши «Пионеры» до США не доставали, а «Першинги» били бы по Союзу практически в упор, подлетное время с западноевропейских баз сокращалось до минимума. На стороне США были те стратегические преимущества, которые им давал военный союз с Западной Европой, непотопляемым авианосцем.
Об этих грозных характеристиках, практически о ядерном пистолете, приставленном к виску, заговорили вполголоса и только между собой и только тогда, когда размещение «Першингов» стало явью. На публику подобные разговоры не распространялись.
Николай Федорович Червов, начальник Договорно-правового управления Генштаба, сказал мне как-то: «Методом обезглавливания – уничтожив гражданское и военное руководство и систему сообщений, контролирующую запуск советского ядерного оружия, США могут выиграть войну. В прицеле будет находиться не только Кремль, но и каждое здание в Кремле». Когда я рассказал об этом Ковалеву, он, редкий случай, вышел из себя из-за того, что руководству такое не докладывается. «За программу СС-20, которая мало что прибавила, получили смертельную опасность почище китайской. Но попробуйте об этом сказать».
Строго исходя из принципа равенства, американцы не были правы. Если суммировать все то, что имел Атлантический союз, т.е. не только средства передового базирования США (включая ракеты «Першинг-1», которые появились лет на десять раньше СС-20), но и ядерное оружие Франции и Англии, то преимущество было на стороне НАТО. Мы требовали зачета французских и английских ядерных вооружений, тем более что они учитывались в военных планах НАТО: не все ли равно, от чьей ракеты или бомбы умирать. Далее, американская авианосная авиация (более тысячи самолетов) многократно превосходила нашу. Прибавьте базы, которыми СССР был окружен со всех сторон. Оружие тактического класса на море и в воздухе американцы тщательно оберегали от ограничений. Правда, СССР превосходил НАТО по общему числу тактических ядерных средств, но ни одно из них не достигало США, в то время как их аналогичное оружие в значительной своей части могло поразить советскую территорию. В конечном счете, кроме арифметики, была еще экономика и политика. Существовала разница в материальных возможностях: наверстать отставание от США на море и в воздухе мы были не в состоянии. Американцы же претендовали, по сути, на то, чтобы иметь в Европе столько же ракет наземного базирования, сколько и СССР.
Правда, как это часто бывает, вышла на свет лет через десять, уже после подписания советско-американского договора по РСД. Успокаивая тех в Западной Европе, кто волновался насчет ядерного «разъединения» с США в силу уничтожения «Першингов-2» и крылатых ракет, госсекретарь США Шульц объявил о наличии 4 тысяч американских тактических ядерных зарядов (на самолетах, ракетах и в виде артиллерийских снарядов), остающихся в Европе и после выполнения договора[26].
Как бы мы ни уверяли, что ядерный потенциал французов и англичан есть своего рода бонус поверх американского, ни те ни другие не давали его трогать. Каждый раз, когда мы пытались завести с французами разговор на этот предмет, нам отвечали (цитирую президента Миттерана): «Вы можете засчитывать все что угодно или не засчитывать все что угодно, но я никогда не соглашусь на зачет французских ракет в общую сумму НАТО». И дальше: «Предположим, вы договоритесь с США о полном нуле. Франции что, придется отказаться от своих сил устрашения? Да ни в коем случае. И вообще, не трогайте нас с разоружением, пока вы, СССР и США не снизите свои уровни, в сотни раз превышающие наши». Примерно в том же духе отнекивались англичане, упирая на то, что это чисто двусторонний, советско-американский вопрос.
Действия НАТО были поданы так, что не американцы навязали западным европейцам новое оружие, а те попросили их об этом в связи с «двадцатками». Бывший итальянский посол в Москве С. Романо, служивший в то время в НАТО, убеждал меня в 2013 г., будто они буквально упрашивали Картера «не разрывать ядерную пуповину между США и Европой». Старый мой друг Серджо, возможно, не лукавит, но существовали ведь и Пентагон, и американский военно-промышленный комплекс, которых уговаривать не приходилось. Так что нажим со стороны США явно был.
Разместить на своей территории «Першинги» взялась ФРГ, единственная из западноевропейских стран. Только после этого другие «желающие» согласились принять «Томагавки» – крылатые ракеты. Тоже для нас не подарок с учетом сложностей их перехвата.
Был ли возможен компромисс? Летом 1979 г. до меня дошли смутные сведения (и я пометил их в своем дневнике), что канцлер ФРГ, социал-демократ Шмидт, предупреждал нас: остановитесь с размещением СС-20. По крайней мере, скажите, что не выйдете за рамки того количества зарядов, что было раньше. Иными словами, подсказывал некий вариант договоренности, который – кто знает? – позволил бы избежать дальнейшей раскрутки. Удостоверился я в этом много позже (такова непробиваемая даже для своих секретность!), прочитав воспоминания двух наших выдающихся дипломатов – А. Добрынина и Г. Корниенко.
Сегодня нет смысла излагать детали предложенного компромисса. Важно, что Косыгин, которому поведал свои идеи Шмидт – он специально остановился в Москве по пути в Японию, и Алексей Николаевич ездил в аэропорт беседовать с ним, – счел необходимым доложить о них на Политбюро. Закончил он полувопросом: может быть, стоит подумать над таким вариантом?
Добрынин пишет дальше: «Устинов сразу же категорически отверг возможность какой-либо корректировки осуществляемых уже планов широкого развертывания ракет СС-20. Громыко отмолчался, не желая спорить по этим вопросам с Устиновым. Он знал также, что Брежнев, как правило, не очень охотно принимал предложения Косыгина. Короче, возможность продолжения такого диалога с Западом в эти критические месяцы была упущена»[27].
Приглашенный на заседание Политбюро Корниенко, первый заместитель Громыко, взяв слово, сказал, что предложение Шмидта представляет реальный шанс найти приемлемый для нас компромисс. Брежнев снова смотрит на Громыко. Тот молчит и на этот раз. (Вспомним Афганистан!) Георгий Маркович же нарушил субординацию, потому что по дороге на заседание они поговорили с Громыко, и тот был позитивно настроен в отношении зондажа Шмидта. На Политбюро, однако, он так и ничего и не сказал, предпочтя внутреннюю дипломатию внешней. Мнение Устинова осталось решающим. В результате был открыт зеленый свет декабрьскому решению НАТО.