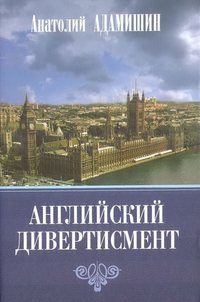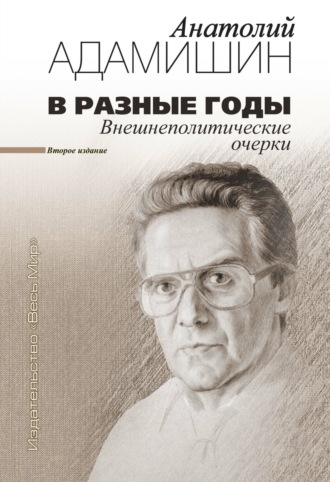
Полная версия
В разные годы. Внешнеполитические очерки
Советское руководство все больше загоняло себя в угол логикой холодной войны. Через десять лет случилась афганская трагедия, через двадцать от нас ушла не только Чехословакия, но и вся Восточная Европа. Пытаясь силой удержать всё, всё и потеряли.
Не хочу создавать впечатление, что в момент событий я видел, что совершается ошибка. Сомнения, разумеется, были, но еще сохранялась вера, что наверху знают, что делают, довлел авторитет министра, а главное, еще сильны во мне были стереотипы насчет борьбы с империализмом, необходимости отстаивать позиции социализма и т.д. Да и объективной информации не хватало. Прозрение не было скорым. Сегодня, вспоминая прошлое, приходит мысль: не будь событий в Чехословакии, мы начали бы перестройку на полтора-два десятилетия раньше. Тем самым, возможно, спасли бы трансформированный Союз.
Очерк четвертый
Афганистан
О вводе войск я узнал утром следующего дня из сообщений по радио. Пройдя через кованные белым металлом массивные двери МИДа, увидел по лицам, что эта новость потрясла не только меня. Но на все мои расспросы осторожный Анатолий Гаврилович Ковалев ответил одной фразой: «Я этого не понимаю». Спустя тридцать шесть лет могу повторить эти слова.
Почему два года мы говорили «нет» просьбам афганского руководства? Политбюро, не раз единогласно принимало решения, которые прямо предусматривали отказ от ввода войск. Аргументация в этом случае была убедительной, как это следует из выступления Громыко на заседании Политбюро 17 марта 1979 г.: «Наша армия, которая войдет в Афганистан, будет агрессором. Против кого же она будет воевать? Да против афганского народа прежде всего, и в него надо будет стрелять» (цитируется по архивным материалам). В декабре же 1979 г. Политбюро единодушно, если не считать Косыгина, проголосовало за противоположную позицию? Впрочем, при чем тут Политбюро? Иные его члены узнали о случившемся из газет, а постановление подписали задним числом.
Помощник двух генсеков, Анатолий Иванович Блатов, человек, к которому сохраняю благоговейное отношение, в давнишнем аккуратном разговоре со мной стал выделять троицу: Юрия Владимировича Андропова, главу КГБ, Дмитрия Федоровича Устинова, министра обороны, Андрея Андреевича Громыко, министра иностранных дел, По Блатову, в последние недели 1979 г. они несколько раз приходили к Брежневу с радикальными предложениями по Афганистану. Тот все отказывался, говорил, что это самоубийство. Еще совсем недавно генсек сказал тогдашнему афганскому руководителю Тараки, отвечая на его просьбу «помочь войсками»: «Этого делать не следует, это сыграло бы на руку врагам и вашим, и нашим». Но однажды, когда, по словам Блатова, ослабевший Брежнев особенно неважно себя чувствовал, он махнул рукой: делайте, черт с вами.
Возможно, добавлял Блатов, рассуждали так: сменим неуправляемого Амина, поставим Кармаля, припугнем моджахедов, наведем порядок и через короткое время уйдем. Заодно и кое-какое оружие опробуем. Останется разгон и для Олимпийских игр в 1980 г., и для очередного съезда КПСС, намеченного на весну 1981-го.
Главную опасность по обыкновению видели в происках США. При немолодых руководителях, видимо, посчитали, что американцы, беря реванш за поражение в Иране, могут прибрать к рукам Афганистан. Последствия такого поворота для безопасности СССР представлялись самыми серьезными. Не только это. Космодром в Байконуре был единственным. (Помечу, что средний возраст членов Политбюро немного не доходил тогда до 70 лет, причем шло по нарастающей: при Сталине этот показатель был 55 лет; Брежнев стал Генсеком в 56 лет, Андропов – в 68, Черненко – в 73 года.) Свою роль сыграл идеологический фактор. Молодые военные, свергнувшие короля Дауда, о своих планах, кстати, они нас не уведомили, провозгласили своей целью социалистические преобразования. Это сразу подняло ранг страны в наших глазах, ею начал активно заниматься Международный отдел ЦК. Подстегнуло, возможно, и то, что, по нашим подсчетам, к концу 1970-х мы не в пример кубинскому кризису более-менее сравнялись с США по военному, прежде всего ядерному арсеналу.
Коллега по МИДу Олег Гриневский считает, что алармистские настроения – мы можем потерять Афганистан, и вакуум заполнят американцы – подогревались некоторыми работниками разведывательных ведомств. Сообщений, на которые ссылается Олег, я не видел, но это утверждают другие авторы, в частности, генерал А. Ляховский и такие знающие люди, как посол А. Добрынин и первый замминистра иностранных дел Г. Корниенко[10]. Могу удостоверить, что телеграммы КГБ советское руководство рассматривало как наиболее соответствующие действительности. Мне не раз приходилось слышать: «Они знают». А вот точка зрения исследователей Горбачев-Фонда: «Амин, как и Тараки, заверял в дружбе с Советским Союзом. Но его заподозрили в том, что он готовится “перекинуться” к американцам. Так ли это или речь шла о провокации спецслужб, установить до сих пор не удалось»[11]. Из книги А. Добрынина следует, что госссекретарь США Вэнс уверял его: Амин – не американский агент.
Сегодня, после того как открылись архивы, после того как написали книги или дали интервью непосредственные участники «афганского котла», представляется, что американцы могли подпортить нам кровь, но входить в Афганистан не думали. Руководитель ЦРУ в то время адмирал С. Тернер говорил мне при встрече на одном из симпозиумов,, что они даже не рассматривали возможность вооруженного вмешательства, считая, что это неподъемно и не сулит больших выгод. Их черед пришел позднее, когда они повторили все наши ошибки в Афганистане[12].
Претензии к Амину, агенту ЦРУ или нет, были серьезные: режим, который он установил в стране, был кровавой диктатурой. В Москве не могли ему простить убийство в октябре 1979 г. предшественника и «друга» Тараки, только что вернувшегося из СССР. По восточному обычаю его задушили подушками. Это был переломный момент. Брежнев тяжело переживал случившееся, считая, что он дал Тараки личные гарантии безопасности и просил Амина не трогать его.
Были люди в наше время. Мужество тогда проявили немногие, но все-таки проявили. Один из них – начальник Генерального штаба ВС маршал Н. Огарков. По служебным делам я неоднократно встречался с ним. Он производил сильное впечатление знанием предмета, здравым умом, интеллигентностью в духе лучших традиций русского офицера. Оказалось также – об этих внутренних перипетиях я узнал позже, – что он обладал еще редким чувством ответственности. Не раз Огарков пытался предотвратить роковое решение, и Косыгин поддерживал его. Не побоялся Николай Васильевич пойти на рожон, когда его вызвали на узкое заседание Политбюро, но там ему просто заткнули рот.
А. Ляховский в своем капитальном труде «Трагедия и доблесть Афгана»[13]описывает это следующим образом: «Проблему надо решать политическим путем, не уповая на силовые методы… мы можем втянуться в боевые действия в сложной стране, не зная как следует обстановку… восстановим против себя весь восточный исламизм, – говорил Огарков, – и политически проиграем во всем мире». Но его резко оборвал Андропов: «Занимайтесь военным делом! А политикой займемся мы, партия, Леонид Ильич!» И далее: «Вас пригласили не для того, чтобы выслушивать ваше мнение, а чтобы записывали указания Политбюро и организовывали их выполнение». На сторону главы КГБ встал министр обороны Устинов, несмотря на возражения его Генерального штаба.
Огарков оказался совершенно прав: на Генеральной Ассамблее ООН, где мы обычно собирали большинство голосов, по Афганистану против нас проголосовали 104 страны и только 17 «за». Позже я вычитал, что Огарков глубоко «копал» историю, в особенности провал в 1929 г. попытки Сталина военным путем восстановить на троне дружественного нам Амманулы-хана[14].
А что Громыко? Когда мы с бывшими коллегами по МИДу возвращаемся к афганской трагедии, они в один голос утверждают, что наш министр до самого конца был против. Его первый заместитель Корниенко в своих воспоминаниях уверяет, что «не Громыко сказал “а” в пользу такого решения (о вводе войск. – А.), скорее его“ дожали” вместе Андропов и Устинов». Георгий Маркович добавляет, что он пришел к этому заключению после разговоров с самим Громыко. Иными словами, поверил ему на слово. И признается, что не раз задавался вопросом:
«Не лучше ли было в самом начале уйти в отставку, не быть причастным к выполнению решения, которое представлялось мне со всех точек зрения неправильным и просто неразумным. Однозначного ответа на этот вопрос я так и не нашел»[15].
Мог ли авторитетнейший министр иностранных дел не допустить вторжения? Не рискну ответить положительно на такой вопрос, скорее, думаю, мог. Известно, что Брежнев проявлял колебания. На протоколе о решении Политбюро по «А» – Афганистану – не стоит подпись Косыгина. Не мог не знать Андрей Андреевич и того, что возражают старшие военачальники. Из перелопаченных мною материалов не явствует, что со стороны Громыко последовали какие-либо возражения. Его подпись на протоколе в числе первых.
И здесь одно из двух: либо Громыко не просчитал последствия такой серьезной акции, как ввод войск в Афганистан. И в этом случае речь идет о профессиональной ошибке, о которой пишет Георгий Маркович Корниенко: «Определенно был допущен серьезный просчет, особенно непростительный для Громыко»[16]. Либо же министр иностранных дел, «дожав» себя, счел более важным сохранить единство правящей тройки и свое место в ней. То есть выбрал себя.
Как мы увидим дальше, не пойдет Громыко против «своих» и при ключевом обсуждении проблемы ракет средней дальности в Европе. Он отмолчится.
Не Политбюро in corpore, а три-четыре человека сочли себя вправе решать от имени огромной страны и ставить ее перед свершившимся фактом.
Серьезной экспертизы, насколько можно судить, проведено не было, об обсуждении за пределами узкого круга и говорить нечего. Один из мидовских старожилов, посол Юрий Назаркин вспоминает: «Когда эта троица (названная выше. – А.) договаривалась между собой, обговорив решение с генсеком (обычно в неофициальном порядке, скажем, на охоте), ни у кого из членов Политбюро не возникало желания идти против»[17].
«Троица» и дальше продолжила заправлять международными, да и внутренними делами Советского Союза. Положение Громыко в ней поколеблено не было, скорее, упрочилось. Иная судьба постигла Косыгина: вскоре он был довольно бесцеремонно отправлен в отставку, а в октябре 1980 г. умер.
«Побочный эффект» круговой поруки – девятилетняя война.
«Страсти» по Афганистану. Необходимо было объяснить такой неординарный шаг, как ввод войск в соседнюю, причем дружественно к нам настроенную страну. В МИДе это сделал министр на экстренном заседании коллегии вечером 28 декабря 1979 г. Созывалась она как узкая: за длинным столом человек двадцать пять, не больше. Стулья вдоль стен могут вместить еще человек тридцать, но они пусты. До этого на коллегии Афганистан вообще ни разу не обсуждался.
Здесь стоит отметить, что коллегия призвана была играть в МИДе ту роль, что совет директоров в корпорации. Разница была лишь в том, что наша, формально принимая свои постановления, фактически ничего не решала. Более того, и обсуждение-то крайне редко походило на дискуссию. Дополнительную накачку, кое-какую информацию мы получали, но не более того.
К примеру, министр подытоживает заседание от 18 декабря 1982 г., посвященное отношениям с Западной Германией: «Вопрос этот поставлен не для принятия решений, они уже приняты и доведены до вашего сведения. Но кое-что для обогащения наших знаний добавить удалось». В июле 1982 г. наш посол во Вьетнаме Б.Н. Чаплин рассказал мне: «Перед коллегией зашел к Громыко – есть серьезные вопросы, которые надо решать. Тот: ты их не поднимай, ничего мы на коллегии не решим. Ну, ладно, на коллегии действительно не решим, но ведь никто не хочет их решать». А вызвали Чаплина из Ханоя специально на коллегию по Вьетнаму.
Так вот, придвигаю к себе неказистый блокнотик из тех, что лежали на столе: делать пометки не возбранялось. Он хранится у меня до сих пор.
Министр говорит о том, что мы приветствовали апрельскую революцию 1978 года, и с тех пор дела с Афганистаном как с государством ведем очень хорошо. Беда в том, что единство в афганском руководстве, несмотря на все наши призывы, быстро стало трещать по всем швам. Что это за революция, которая поднимает топор не на врагов, а на своих?
Революцию, а вернее, дворцовый переворот (впоследствии это признал в беседе с Шеварднадзе Наджибулла) осуществили без нашего ведома молодые офицеры-марксисты. Но поскольку они объявили себя сторонниками социализма, мы оказали им полную поддержку, все больше вовлекаясь во внутренние афганские дела. От авантюрных действий «революционеров» и пошли в наши неприятности в Афганистане.
Плохо отозвавшись об Амине с его патологической настойчивостью к репрессиям, Громыко отмечает, что нашлись силы, которые произвели изменения в руководстве. Во главе него теперь Камаль Бабрак. Образовано правительство, которое стоит на позициях антиимпериализма, дружбы с СССР.
В своем стиле запрятанной иронии Андрей Андреевич добавляет: «Вы, видимо, понимаете, что не случайно определенное совпадение во внутренних коллизиях и то, что мы именно сейчас откликнулись на просьбы афганского руководства о помощи в отражении внешней агрессии». (Амин неоднократно просил нас об этом. Там легче было войти и устранить его – охраняли его наши люди.) Но тут же подчеркивает: «Перемены произвели сами афганцы, они же принимают решения о судьбе того или иного деятеля». (Читай: Амина, который уже убит нашими спецназовцами, но об этом ни слова.)
Отметив, что вошедшие в Кабул воинские части небольшие, но впечатление производят, и ничего не сказав, как долго они там задержатся, Громыко переходит к оценочной части:
– у нас есть основание выразить большое удовлетворение подобным оборотом событий;
– мы имеем дело с такими западными партнерами на международной арене, которые уважают только силу. Мягкость, даже под видом разрядки, может дать временные преимущества, но в перспективе советские позиции будут расшатываться. Это – не наша политика;
– не раз проходили через острые периоды – в 1948, 1956, 1968 гг. – они подтверждают правильность и нынешнего вывода, к которому пришел ЦК. (Какой ЦК? Ни аппарат Центрального Комитета КПСС, который часто называли ЦК, ни члены собственно Центрального Комитета партии еще ничего не знают, разъяснения им будут даны постфактум.);
– враждебная реакция на наши действия ничуть не должна умалять значения принятых решений, линия наша не оборонительная, не оправдывающаяся.
Смотрите, как выкручивают руки на юге Африки, в Латинской Америке, как шантажируют в связи с Договором ОСВ-2. Им что же, все разрешается? Как бы стремясь показать не такую уж неординарность происшедшего, Громыко добавляет пару фраз о венских переговорах по сокращению вооруженных сил в Европе, об Иране и других актуальных тогда проблемах. Обсуждения не было. Выслушали, встали и разошлись, не глядя друг другу в глаза.
Лето 1985 г., в МИДе нежданно-негаданно появляется новый шеф, Эдуард Амвросиевич Шеварднадзе. Он знакомится со своей епархией, устраивая своеобразный экзамен каждому поодиночке. В одно из вечерних бдений очередь доходит до меня. Война в Афганистане в разгаре, и он спрашивает о моем отношении к ней. Горячо повествую, какой ошибкой был ввод войск, что уходить оттуда надо как можно скорее. Добавляю: это сейчас я такой красноречивый, а на коллегии в декабре 1979 г. убрал язык в одно место. «А что смогли бы сделать, Вас просто бы раздавили», – утешил меня Шеварднадзе.
Высказаться откровенно можно было с двумя-тремя верными товарищами. Чаще свои чувства доверял дневнику. Так, 1 января 1980 г. записал: «Не о Новом годе пойдет речь – за пару дней до него ввели войска в Афганистан. На редкость неудачное решение!» В отличие от Чехословакии десятью годами ранее на этот раз мне стало ясно сразу же: совершена ошибка.
О чем они думают, видимо, друг перед другом упражняются в твердости? Мол, мускулы показываем. На деле же это – акт слабости, отчаяния. Гори он синим огнем, Афганистан, на кой ввязываться в совершенно проигрышную ситуацию? Со времен Крымской войны 1856 г. не были мы в такой замазке, все кругом враги, союзники слабые и малонадежные. Если уж в афганском руководстве такие …удаки, что не могут управлять страной, то не научим мы их ничему с нашей дырявой экономикой, слабой организацией, неумением вести политические дела. Тем более, что ввязываемся мы, судя по всему, в гражданскую войну, хотя и питаемую извне».
Запись 22 марта: «Приезжал ко мне адмирал Тимур Гайдар (отец будущего премьер-министра. – А.), он просто места не находит от горя. Спросил его: как же так, воюют наши ребята в Афганистане, и ни слова об этом не пишется. А ведь гибнут люди. Отвечает: “Будет через какое-то время материал в “Правде”, но опять-таки эзоповым языком. Туго нам там приходится, местность знаем плохо, иногда даже географических карт не хватает. Если американцы всерьез начнут снабжать нужным оружием, особенно минами и ракетами против вертолетов, то совсем плохо придется. Несчастнейшее было решение входить туда. Надо бы скорее выбираться, а то хвост застрял в Афганистане, нос – в Польше, а посередине – бардак с экономикой».
Ключевой пункт закрытого письма членам КПСС гласил: «На волне патриотических настроений, охвативших довольно широкие массы афганского населения в связи с вводом советских войск, осуществленным в строгом соответствии с положениями советско-афганского договора 1978 г., оппозиционные Х. Амину силы в ночь с 27 на 28 декабря с.г. организовали вооруженное выступление, которое завершилось свержением режима Х. Амина».
Записка в ЦК, утверждающая эту информацию, была подписана той же тройкой – Андроповым, Громыко, Устиновым плюс Пономаревым, заведующим Международным отделом ЦК. Теми, кто не мог не знать, как было на самом деле. Первоначальная ложь потащила за собой последующие. Необъявленная афганская война в течение многих лет была покрыта плотной завесой. Шли жестокие бои, гибли наши ребята, а корреспонденции с фронта можно было увидеть разве что в зарубежных изданиях, подлежащих даже в МИДе специальному хранению.
Дневниковая запись 6 января 1982 г.: «Видел в “Геральд трибюн” фотографии наших ребят, 18–19 лет, взятых в плен в Афганистане. Гибнут парни, а за что, во имя чего? И ведь молчок полный на этот счет, будто ничего не происходит. Буквально плакать хочется, а старички играют в юбилеи и награждеия».
А теперь догадайтесь, кому принадлежат такие слова: «Что это за руководство в советском государстве, которое на языке обмана разговаривало с народом»? Ответ: члену Политбюро ЦК КПСС А. Громыко. Произнес он их на заседании ПБ 23 апреля 1987 г., уже при генсеке Горбачеве[18]. Говорилось это об обмане в другой области, финансовой, что вряд ли меняет суть дела.
Если сознательно дезинформировали своих, то что говорить о классовом противнике. Американский президент Картер, для которого случившееся было полной неожиданностью (даже ЦРУ не верило, что СССР решится на такие действия), запросил разъяснений по прямой линии связи Белый дом – Кремль. И получил ответ: «Совершенно неприемлемым и не отвечающим действительности является и содержащееся в Вашем послании утверждение, будто Советский Союз что-то предпринял для свержения правительства Афганистана… Должен со всей определенностью подчеркнуть, что изменения в афганском руководстве произведены самими афганцами, и только ими. Спросите об этом у афганского правительства… Должен далее ясно заявить Вам, что советские воинские контингенты не предпринимали никаких военных действий против афганской стороны, и мы, разумеется, не намерены предпринимать их». Подпись – Л. Брежнев[19].
Даже в МИДе правду надо было узнавать по частям, понимая, что очень многое не договаривается. Приходилось выкручиваться. Помню, что к новогоднему застолью я явился впритык к полуночи. Посол Франции А. Фроман-Мёрис вытряхивал из меня душу до позднего вечера, ссылаясь на «особые отношения» между нашими двумя странами (мы, в самом деле, информировали французов пусть за несколько часов до ввода войск, но все же раньше других). Он задавал вопросы, на которые у меня ответа не было. Подтекст был, в конечном счете, очевиден: как вы все-таки решились на столь безумное предприятие, и чего вы в сущности хотите. Именно эта иррациональность, кроме всего прочего, ставилась нам в строку: зачем русским входить в Афганистан, он и так был у них в кармане.
Дал я послу на свой страх и риск такое объяснение: наша акция – не экспансионистская, не агрессивная. Мы хотим защитить свои позиции в Афганистане от американских посягательств. Идти куда-то дальше, к Индийскому океану и прочее – не в наших целях. Вроде попал: министр разослал запись беседы «по большой разметке», т.е. членам Политбюро. Потом узнал, что оказался в хорошей компании: наш посол в США, многоопытный Добрынин, на прямой вопрос госсекретаря Сайруса Вэнса: «Правда ли, что вы хотите войти в Пакистан и Иран?» – твердо ответил: «Нет». У него в Вашингтоне, думаю, информации было еще меньше, чем у меня в Москве. Уже в «нулевые» Анатолий Федорович рассказал мне, что Центр и в этот раз крайне скупо информировал его. Посылать туда запросы было все равно как в черную дыру. Французский же посол мне почти поверил, добавив, однако: «Ваша главная задача была убрать Амина». Тогда это показалось мне натяжкой: зачем ради устранения одного лидера и привода к власти другого вводить войска. У нас и так было там два батальона. Спустя десяток лет Леонид Владимирович Шебаршин, глава внешней разведки КГБ, сказал мне, что таково и его представление. Войска же были нужны, чтобы нейтрализовать афганскую армию. Официально его должность называлась «начальник Первого главного управления, заместитель председателя КГБ». Мы с ним довольно близко общались как по работе, так и потом, когда оба отошли от служебной деятельности.
Французы – не зря мы их все же обхаживали – поначалу хотели нам помочь. Они пытались не допустить принятия санкций против Советского Союза, аргументируя тем, что конфликт локальный, международную, а тем более европейскую разрядку не затрагивает. Не СССР, мол, дестабилизировал обстановку, а ее дестабилизация заставила русских вмешаться. Нас же они просили ясно показать, что мы, как и декларировали, не собираемся оставаться в Афганистане навечно, просили сообщить календарь вывода «ограниченного контингента», отвести на худой конец какие-то части от Кабула.
В Первом Европейском отделе МИДа мы гордились тем, что в разгар экономической и политической блокады, объявленной Советскому Союзу за Афганистан, в Варшаве в мае 1980-го все же состоялась встреча французского президента Жискар д’Эстена и Брежнева для «сверки часов». Американцы были весьма недовольны этой французской вылазкой. Видя, однако, что ничего в нашей позиции по Афганистану не меняется, французы подравнялись под общую линию Запада. Помню, Дюфурк, высокий чиновник МИД Франции, убеждал меня так: «Надо бы вам набраться мужества де Голля и уйти из Афганистана, как он ушел из Алжира».
Из разговора с Блатовым узнал, что Гельмут Шмидт (он посетил Москву в июне 1980 г.) тоже не успокаивается, предлагает нам убрать хотя бы две дивизии ВДВ из Афганистана, тогда, мол, будет яснее, что не пойдете дальше. А у нас штатное расписание. Устинов резко против того, чтобы его нарушать. Военные и политические решения шли разными путями.
Помечу, что и в тех условиях нам все же удавалось использовать трения между США и западноевропейскими. Ныне американцы практически подмяли своих союзников под себя. Блок санкций сейчас единый.Правда, им помогают наши бывшие союзники, что лишний раз показывает, какими они были союзниками. Особенно скверно ведут себя прибалты.
Когда наши солдаты при свете дня входили в Афганистан, их, вычитал я у Варенникова, встречали цветами: до сих пор от нас видели только добро. Поначалу мы и не думали вовлекаться в боевые действия. Идея была встать гарнизонами в центрах наиболее опасных провинций и «не отвечать на провокации». Но логика войны брала верх: раз поставили своего, его надо защищать. Бабрак Кармаль со товарищи вновь и вновь требовали проведения военных операций. К осени 1980-го наши части оказались втянутыми в полномасштабные боевые действия.
Ошиблись мы и в том, что не будем воевать, и в том, что скоро уйдем, и в международной реакции. Как я упомянул, первое время думали, что удастся сохранить кое-что из многопланового сотрудничества с США, оставшегося после брежневской разрядки. Затем утешали себя тем, что Афганистан лишь предлог, а не причина для антисоветизма и вытекающих из него враждебных действий.