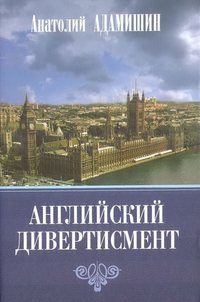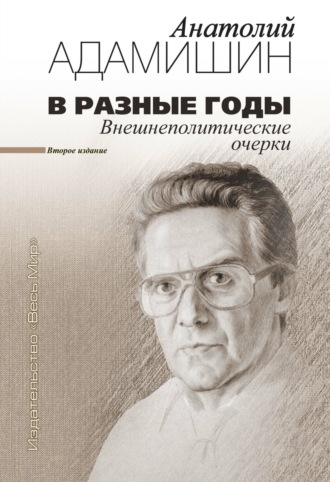
Полная версия
В разные годы. Внешнеполитические очерки
Хранители сложившихся десятилетиями порядков, а тем пуще идеологической чистоты в советском руководстве, никоим образом не поминая Леонида Ильича, да и Громыко не называя по имени, сосредоточили огонь на МИДе. Неприятности начались, когда улеглась эйфория и помощники показали Суслову и ему подобным «избранные места» Заключительного акта. Оказалось, что среди десяти принципов, которыми должны отныне руководствоваться в своих взаимоотношениях государства, фигурирует такой, как «уважение прав человека и основных свобод, включая свободу мысли, совести, религии и убеждений».
Более того, в документе обнаружились конкретные договоренности по облегчению доступа к информации, воссоединению семей, возможности жениться или выходить замуж за иностранцев, приглашению наблюдателей на военные маневры. Выходит, все это не является более нашим внутренним делом? Оговорки, которыми эти пассажи были обставлены предусмотрительным Ковалевым, всерьез не принимались. Из-за изжоги по поводу прав человека не очень радовались значительным потенциальным преимуществам, которые давала «вторая корзина»: экономика, наука и техника, охрана окружающей среды. К последней проблеме, столь разросшейся в будущем, международное внимание было привлечено в Заключительном акте впервые.
«Третьей корзиной», упрекали МИД ортодоксы, вы заплатили за то, что в реальной жизни и так имеем: нерушимые границы, существование ГДР. Запад же получил лазейки для вмешательства во внутренние дела СССР.
Последовали и некоторые оргвыводы. Главу делегации в Женеве Ковалева «прокатили» на выборах в один из органов ЦК – Ревизионную комиссию. Точнее, не включили в список тех, кого благополучно выбрал XXV съезд партии. Напомню, что членство в высших партийных органах очень высоко ценилось, да и привилегии были немалые.
Ковалев пишет в своих мемуарах (я прочел их в рукописи), что несколько лет спустя Андропов доверительно сказал ему: «Вычеркнул тебя Громыко». Если это так, то он, дав возможность Ковалеву довести до конца дело, которое поощрял Генсек, после этого сыграл и на поле «сусловцев». Но в написании знаменитой Программы мира, принятой XXV съездом, Ковалев активно участвовал. Равно как и служил все последующие годы верой и правдой министру, который советовался с ним по наиболее важным вопросам.
Но как все-таки выходить из положения с неподходящими пассажами? Очень просто: спустить на тормозах. Анатолий Федорович Добрынин, колосс нашей дипломатической службы, считает, что такая линия была определена с подачи Громыко еще до подписания Заключительного акта. Он убедил товарищей по Политбюро, что выполнение гуманитарных договоренностей в любом случае остается в руках советской стороны. «Мы хозяева в собственном доме»[3]. Тем более что эти положения, как и все другие в Акте, носят не обязующий, а морально-политический характер. Как после партсобрания, поговорили и разошлись.
По части прав человека Громыко был настроен вполне определенно. Слушая его, когда он давал отпор тем западным деятелям, которые решались затронуть эту тему, создавалось полное впечатление, что Андрей Андреевич говорил убежденно. Он мог с непритворным удивлением спросить у американского госсекретаря Шульца, ратовавшего за советского гражданина, которого не выпускали из СССР: «Так ли это важно, чтобы мистер такой-то мог или не мог покинуть свою страну? Это десяти-, если не сторазрядный вопрос». В сентябре 1977-го, беседуя с «умником» Картером насчет прав человека, Громыко прочел ему настоящую нотацию, как если бы нашей подписи два года назад в Хельсинки вовсе не существовало.
Подобному настрою Громыко не изменил. Когда 27 октября 1986 г., уже в перестройку, на Политбюро обсуждался вопрос о работе с интеллигенцией, Андрей Андреевич вставил свое слово: «Некоторые писатели пытаются смаковать репрессии… Я согласен, что, видимо, жестковато поступили в свое время с Ахматовой, Цветаевой, Мандельштамом, но нельзя же, как это делается теперь, превращать их в иконы»[4]. (Осип Мандельштам погиб в 1938 г. в ГУЛАГе, и даже его тело не было найдено.)
Одновременно мы клялись с высокой трибуны XXV съезда КПСС в верности всем положениям Заключительного акта. Ему вообще поначалу была придана беспрецедентная «паблисити». Весь Акт, без купюр, был опубликован в «Известиях» миллионными тиражами. Более того, десять принципов взаимоотношений между государствами, закрепленные в Заключительном акте, целиком вошли в новую Конституцию СССР (1977). Но были там высокопарные фразы: «Начался всемирно исторический поворот человечества от капитализма к социализму».
По свидетельству коллеги и друга Юрия Кашлева, съевшего пуд соли на Общеевропейском совещании, инициатива включения принципов СБСЕ в конституцию исходила от Ковалева.
В качестве «оправдания» тех, кто прибег к приему: «подпишем, но не сделаем», скажу, что придуман он был много раньше. В свое время СССР подписал практически все основополагающие документы в области прав человека. Наше руководство этим весьма козыряло, особенно на фоне США. Те не спешили что-то подписывать, пока не были уверены, что получат пользу от выполнения.
В ходе работы в Женеве прецеденты в гуманитарной области сыграли на руку Ковалеву: как можно было отказываться от внесения в Заключительный акт положений, почти дословно взятых из тех международных соглашений, которыми мы уже обязались руководствоваться?
Во внутренней же жизни СССР вопреки либеральным стараниям и надеждам мало что изменилось. Некоторые отдушины типа воссоединения близких родственников были открыты, но не больше. В целом матрица страны закрытой осталась в неприкосновенности.
Крамольные разделы сознательно клались под сукно, а то и отыгрывались назад из того, что было уже сделано в соответствии с Заключительным актом. К примеру, сразу после его принятия приостановили, хотя и выборочно, глушение зарубежных радиопередач. Очень скоро, однако, этот затратный механизм – работало более двадцати станций глушения – был восстановлен. Полностью глушение прекратили лишь в 1988 г. при Горбачеве.
В свою очередь, американские правые резко критиковали президента Джеральда Форда, подписавшего Заключительный акт, за «новую Ялту», увековечивание раскола Европы.
А вот в европейском межгосударственном общении климат улучшился. Так, по горячим следам окончательно договорились между собой насчет Триеста Италия и Югославия. Пошли в гору двусторонние связи, в том числе в новых формах, согласованных в Хельсинки. Оживились контакты между рядовыми гражданами. Несколько смягчившаяся атмосфера способствовала сотрудничеству в экономической и культурной областях. С рядом западноевропейских государств были подписаны долгосрочные соглашения о поставках советского природного газа.
Белград, 1976–1977 гг. Первая встреча стран – участниц Совещания, созванная в целях проверки исполнения хельсинкских договоренностей, свелась к топтанию на месте. Нашу делегацию во главе с Юлием Михайловичем Воронцовым постоянно обвиняли в отступлении от Заключительного акта. Особенно отличался в этом отношении американец Макс Кампельман, не устававший заявлять, что «с Советами нельзя иметь дело». С помощью нехитрой пропагандистской передержки Акт подавали для широкой публики как содержавший одну только «третью корзину». Запад тогда, до Югославии, трудно было обвинять в нарушении принципа нерушимости границ, в то время как нас клевали за невыполнение вполне конкретных обязательств в гуманитарной области.
Ни Воронцов в Белграде, ни мы с Ковалевым в Москве не смогли убедить министра пойти на компромисс. В этих обстоятельствах ничья в острой дуэли была не самым плохим результатом. Могли вообще остаться без общеевропейского процесса, не в последнюю очередь по причине жестких указаний из Москвы, как сказал мне Воронцов, вернувшись из Белграда. (Подобная оценка содержится и в его недавно опубликованных воспоминаниях.) Подоплека происходившего стала для меня проясняться в ходе следующей встречи СБСЕ.
Как понимать разрядку? Локальные трудности в столице Югославии вписывались в более широкий политический контекст. На словах за разрядку выступали вроде и Восток, и Запад. Но насчет того, что это означает в реальной жизни, различия возникли кардинальные. До сих пор между историками и политиками идет спор, кто как понимал разрядку. Американцы считают, что для советских руководителей эпохи Брежнева она означала лишь управление холодной войной с тем, чтобы не перейти в горячую. Думаю, это не совсем верно. Международная политика Леонида Ильича была нацелена на долговременное сотрудничество с США, не говоря уже о Западной Европе. Точнее, хотела этого, но на наших условиях. Даже введя войска в Афганистан, мы пытались сохранить какой-то минимум конструктивных отношений с американцами. Но тут уж они закусили удила.
Наша доктрина «мирного сожительства» содержала серьезные изъятия. Сохранение статус-кво в Европе, где его обеспечивали не столько хельсинкские заповеди, сколько армии, стоящие друг напротив друга, милости просим. Нормализация связей с США – то же самое.
Огромный же массив развивающихся стран оставался вне разрядки. На отношения «между угнетателями и угнетенными» принцип мирного сосуществования не распространялся по определению. Если представляются возможности расширить зону влияния социалистического лагеря, то не воспользоваться этим есть предательство дела социализма и национально-освободительного движения.
Таким образом, противостояние двух общественных систем переносилось в «третий мир», где, по господствовавшей в США в 1970-е точке зрения, мы их переигрывали. Особо нас попрекали Анголой, которую мы якобы прихватили вместе с кубинцами всего через несколько месяцев после подписания Заключительного акта. Действительность, как будет показано во второй части, была сложнее, но суть дела особо не меняла, ибо появившееся в Анголе правительство считалось «нашим». Ставили в упрек также наши и кубинские действия в Эфиопии, Йемене, Мозамбике, Никарагуа, где СССР поддерживал «прогрессивные» режимы или течения. Противоположная сторона тоже, естественно, не дремала, у нас был к ней свой список претензий. В вооруженные региональные конфликты оказались опосредованно вовлечены обе сверхдержавы, какое уж это мирное сосуществование. Хорошо еще, что между СССР и США действовала (после тяжелого опыта Кореи и Вьетнама) молчаливая договоренность не доводить дело до прямого военного столкновения.
Разрядка, как мы ее понимали, отторгала так называемую идеологическую конвергенцию. Хорошие отношения с Францией мы называли константой и действительно дорожили ими. Помню, сколько сил приложили мы в Первом Европейском отделе, готовя в октябре 1975 г., т.е. на волне Хельсинки, визит в Москву французского президента Жискар д’Эстена. Стоило ему, однако, высказать вполне здравое предположение, что коммунистическая и западная идеология могут вобрать в себя позитивные черты обоих мировоззрений, как он получил публичную отповедь. «Француз политграмоты не знает», – прокомментировал Брежнев среди своих.
Уязвимость разрядки проистекала и от того, что при любой погоде в советской номенклатуре существовали обширные сегменты, которым она была не по душе: военные, утверждавшие, что «разрядка – это не наше слово», ВПК, идеологи-догматики, наконец, те недовольные (используя их выражение) «бардаком в стране», которые причину его видели также и в либеральных послаблениях, на которые мы идем в угоду Западу. Кардинально отличающиеся друг от друга политические и социальные институты СССР и США, менталитет и культура руководителей, так сказать, системная несовместимость серьезно затрудняли нахождение между ними общего языка и тем самым более согласованных действий даже тогда, когда было желание договориться.
Справедливо упомянуть еще одно обстоятельство: на этот рубеж приходится ухудшение здоровья Леонида Ильича. Контроль за внешней политикой все более уходил из его рук. Полновластными фигурами становятся Громыко, Андропов, Устинов. Афганская эпопея, начавшись в декабре 1979-го, окончательно добила разрядку и там, где она еще оставалась. Начался период, который позже был назван «вторым изданием» холодной войны. Он продолжался вплоть до перестройки.
Академик Арбатов высказал однажды мысль, что «будь Брежнев здоров, мы, возможно, удержались бы от ввода войск в Афганистан»[5]. Вот что означает система, позволяющая безграничное, до смерти лидера, пребывание у власти.
Добавлю к этому: сторонники разрядки еще потому так цеплялись за нее, что рост напряженности вовне сразу же сказывался завинчиванием гаек внутри.
Мадрид. Вторая встреча в русле Заключительного акта, проходившая в столице Испании, была похожа на стычку, затянувшуюся на три года, с 1980 по 1983-й. Еще бы, ее фоном стали Афганистан, ракеты средней дальности (РСД) в Европе, военное положение в Польше, бойкот Московской олимпиады, гибель южнокорейского «Боинга». Все это едва не поставило крест на общеевропейском процессе. Спас его Генеральный секретарь ЦК КПСС Юрий Владимирович Андропов. В этом смысле он как бы продолжил линию своего предшественника.
Рассказываю о том, в чем участвовал. Глава советской делегации в Мадриде – Леонид Федорович Ильичев, ранее секретарь ЦК, а ныне заместитель Громыко. Человек явно небесталанный, но взглядов отнюдь не разрядочных. С американцами – их делегацию опять возглавляет «ястреб» Кампельман – действует острием против острия. Дело может кончиться тем, что будет принят формальный итоговый документ подобно белградскому, либо же запишут, как предлагают США, что договориться не удалось. Потери грозят не только символические. Может сорваться созыв конференции по мерам доверия и разоружению в Европе. Это была инициатива, с которой выступил Советский Союз. Она стоила немалых трудов сторонникам разрядки, боровшимся с ее угасанием. Затем мы подключили Францию и в тандеме с ней несколько лет ратовали за конференцию. И теперь все может пойти прахом.
На рабочем уровне я по-прежнему отвечаю в МИДе за хельсинкский процесс и, близко варясь в этой каше, вижу, что Громыко с самого начала не был настроен на успех Мадрида. Ныне он откровенно топит его. Подспудная логика все та же: политические плюсы в виде нерушимости границ в кармане, а от гуманитарных минусов надо избавляться. Они особо вылезали на встречах, подобных Мадридской и ее предшественницы – Белградской. Громыко любил повторять: «Вырезать дно этой самой “третьей корзины”».
Привожу дословно высказывания министра: «В гуманитарных делах дошли до грани, дальше отступать некуда; платить за конференцию по военной разрядке уступками по “третьей корзине” не будем, ибо не приходится рассчитывать на ее плодотворную работу при нынешней политике США и НАТО, более того, она может быть использована как ширма для размещения американских ракет».
Повлиять на Громыко не в состоянии ни телеграммы Ковалева, сменившего Ильичева в Мадриде, ни тем более я, всё еще на хозяйстве ОБСЕ в МИДе. Остается последнее: звоню по вертушке Блатову, помощнику Андропова. Сперва Анатолий Иванович драматизма не чувствует, ибо выясняется, что полной информацией не владеет: Генсеку депеши из Мадрида направляются выборочно (распоряжение на выпуск телеграмм из МИДа дает министр). Схватывает тем не менее мгновенно. На следующий день Блатов мне перезванивает, говорит по своему обыкновению иносказательно: «Тревожный сигнал возымел действие». Это уже стало понятно по поведению Громыко: разворот на 180 градусов.
Теперь он, вызвав замминистров Ильичева, Комплектова и меня, завотделом, дает другие указания: «Как бы сманеврировать, чтобы и документ сохранить, и принципами не поступиться», «кое-кого (из диссидентов. – А.) можем отпустить в качестве одностороннего нашего жеста», «на будущей конференции по военной разрядке против нас никакого решения не может быть принято», «Запад пошел на определенные уступки, второстепенные моменты роли не играют». Словом, сама конструктивность. Мои старшие коллеги, с удовольствием выполнявшие прежние жесткие установки, не верят своим ушам, на Ильичева жалко смотреть. Зато радуемся мы, «голуби», включая доброго друга Толю Слюсаря. Пометил потом для себя, что первый замминистра Корниенко сохранял на всем протяжении Мадрида достойную позицию, верно слушаясь Громыко, но давая и мне возможность пробовать альтернативные варианты, которые «до сигнала» безжалостно отметались.
В свою очередь, предупрежденный Ковалев провоцирует кризис в Мадриде, просится в Москву и окончательно обговаривает с министром финальные развязки. Мадрид избегает провальной участи, принимается решение о вышеназванной конференции, она открывается в январе 1984 г. в Стокгольме и через два года, уже в перестройку, успешно заканчивается.
Это был один из редких случаев, когда «либеральная засада» принесла успех. Внести серьезные коррективы во внешнюю политику было не под силу, оставалось пытаться минимизировать ущерб.
Не то чтобы Громыко был меньше, чем Андропов, настроен на то, чтобы не закрывать просветы в отношениях с Западом. Но разговоры в руководстве насчет «промашек» по части прав человека задевали его как главу внешнеполитического ведомства. Генсек Андропов был в этом смысле «чист». Однажды он наставлял нас, небольшую группу, писавшую проект его выступления: «С друзьями (так мы именовали союзников по Варшавскому договору. – А.) права человека не трогайте. У себя мы послаблений давать не можем, но их тащить к нашим позициям не надо».
Прочитав через тридцать лет мемуары Ковалева, узнал, что Андропов настраивал его на то, чтобы довести Мадридскую встречу до успешного завершения. Ему был нужен хоть один заметный внешнеполитический результат на фоне одной только конфронтационной перебранки. Анатолий Гаврилович так пересказывает высказывания Андропова: «Лет через пятнадцать-двадцать мы сможем себе позволить то, что позволяет себе Запад: большую свободу мнений, информированности, разнообразия в обществе, в искусстве. Но это только лет через пятнадцать-двадцать, когда удастся поднять жизненный уровень населения».
Перестройка Горбачева нацелилась на большую свободу значительно раньше и добилась, как мы увидим в последующих главах, существенных результатов. Я любил говорить, что в истории России было лишь два периода свободы. Первый, с большой натяжкой, с февраля (скорее даже с июля) по октябрь 1917 г., до тех пор, пока большевики не разогнали Временное правительство А. Керенского. И перестройка, исчисляемая несколькими годами и шедшая уже к закату, когда ее добила Беловежская пуща Ельцина.
Получив напутствие от Генсека, что во все времена было для Громыко решающим, он с легкостью отказался от жесткости.
Дух Хельсинки являлся своеобразным барометром разрядки: идет общеевропейский процесс – есть смягчение напряженности, не идет – жди плохих новостей. Нападали на него с разных сторон, в том числе и с нашей, и, в конечном счете, выхолостили.
Особо следует выделить многомесячные бомбардировки США и НАТО Югославии с целью отторгнуть ее «историческую родину» – Косово в пользу албанцев. Принцип нерушимости границ был нарушен вопиющим образом. Обвиняя нас в связи с присоединением Крыма в нарушении принципов Заключительного акта, якобы впервые со времени его принятия, представители стран НАТО раздраженно и даже агрессивно реагируют, когда им напоминаешь, что они начали первыми.
О времена, о нравы, говорили древние римляне. Как же они изменились с той поры, когда европейцы, сев за один стол, определили нормы поведения на международной арене.
Очерк третий
Пражская весна
Официальная «История внешней политики СССР (1945–1985)» под редакцией А. Громыко и Б. Пономарева одним из главных достижений периода 1964–1971 гг. считает «совместное обеспечение завоеваний социализма в Чехословакии усилиями братских стран»[6]. За этой благообразной формулой скрывается вооруженное подавление попытки реформировать неработающую социалистическую модель. В ЧССР реформы воспринимались и как стремление выйти из-под чрезмерной зависимости от СССР. Ни то, ни другое не подходило советскому руководству.
Для Брежнева настало первое серьезное испытание. Верный своему миролюбивому образу, он до последнего отказывался пойти на «крайние меры» – термин, который был тогда в ходу применительно к Чехословакии. Именно из-за этого лихорадочные поиски политического решения продлились довольно долго. Но генсеку в Политбюро и около противостояли деятели, настроенные более жестко. Не меньшее значение имело и то, что Брежнев не был еще до конца уверен в прочности своего кресла. (В Политбюро входила группа лиц: А. Шелепин, Н. Подгорный, А. Кириленко, на стопроцентную поддержку которых трудно было рассчитывать.) Кроме того, генсека подзуживали союзники по Варшавскому договору, такие как В. Гомулка, Э. Хонеккер, Т. Живков, а также некоторые деятели внутри самой Чехословакии. Апрельский и июльский пленумы ЦК КПСС были настроены решительно: «Социалистическую Чехословакию не отдадим». Проявление «слабины» в этих условиях делало положение Леонида Ильича уязвимым.
В пользу вооруженной интервенции активно выступили Громыко и Андропов, те же деятели, что в следующем десятилетии настояли вместе с Устиновым на вводе войск в Афганистан. Просматривается определенная преемственность: в 1956 г. Андропов, тогда посол в Будапеште, настойчиво предлагал применить силу в Венгрии.
На заседание Политбюро 2 июля 1968 г. были вызваны посол в Праге С. Червоненко и главный редактор «Правды» М. Зимянин, специально направленный в ЧССР для выяснения обстановки. Их «мягкотелые» соображения, как подтвердил мне много лет спустя Степан Васильевич, не встретили поддержки большинства участников, хотя Брежнев пытался сохранить осторожную позицию.
Мы много лет по роду службы близко соприкасались с Червоненко, и думаю, что подружились, взгляды наши совпадали. Врезался в память и другой его рассказ: в бытность послом в Китае он неоднократно шел на то, чтобы не выполнять «волевые» указания Центра, не боясь класть партбилет на стол. Речь шла о передаче КНР атомных и ракетных технологий.
В апреле 1981 г. Громыко направил меня как заведующего Отделом, отвечающего за Францию, в Париж, чтобы передать его выговор Степану Васильевичу (в то время послу). Вернувшись, доложил, что Червоненко поступил правильно. На этот раз выговор – за то, что не отмежевался от посла, – схлопотал и я.
«Сторонником жестких и скорых действий, – пишет на основе архивных данных Рудольф Пихоя, – был Громыко». «Теперь уже очевидно, – цитирует его Пихоя, – что нам не обойтись без вооруженного вмешательства»[7].
Громыко успокоил и насчет возможной реакции Запада: «Думаю, что сейчас международная обстановка такова, что крайние меры не могут вызвать обострения, большой войны не будет… Но если мы действительно упустим Чехословакию, то соблазн великий для других»[8]. В конце концов и Брежнев пришел к заключению: «Если мы потеряем Чехословакию, я уйду с поста Генерального секретаря».
В памяти осталась напряженная обстановка, царившая тогда в МИДе. Мой непосредственный начальник Игорь Матвеевич Ежов по-товарищески делился информацией о том, как метались от политического решения к военному и наоборот. В министерстве были отменены отпуска даже для тех, кто вроде не имел никакого отношения к ЧССР. После вторжения половина МИДа разъехалась по санаториям и домам отдыха: заговорили танки, стихла дипломатия. Зарубежные обозреватели впоследствии подметили, что это была единственная военная акция от имени Варшавского договора в целом.
Громыко оказался прав: «крайние меры» не привели к войне. Да и жесткой реакции со стороны США и НАТО не последовало. Тогда еще действовала парадигма: две великие державы «у себя» делают то, что считают нужным. (Любители империалистических заговоров могли и в этом случае увидеть происки Вашингтона: дав понять, что «проглотят» нашу акцию в Чехословакии, американцы подтолкнули нас к ней.)
На дистанции, однако, сработала бомба замедленного действия. Ввод в Чехословакию войск СССР и его союзников по Варшавскому договору стал критической точкой невозврата на целом ряде направлений. Чехи справедливо называли «оккупацией» последующее пребывание в течение 20 лет на их территории советских войск.
Был нанесен тяжелый удар по международному престижу СССР, по мировому социализму в целом. Начался отход от КПСС коммунистических и левых сил, включая такую мощную в Западной Европе силу, как итальянская компартия. Стали загоняться внутрь проблемы и противоречия в странах Восточной Европы, взорвавшиеся через два десятка лет.
Но самый большой урон понесло советское общество. Была свернута экономическая реформа Косыгина, поскольку в рыночных новшествах чехов и словаков увидели угрозу социалистическому строю. В замыслах косыгинских реформаторов предусматривался второй этап: за экономической либерализацией должны были последовать некоторые политические послабления.. И здесь «нововведения» чехословацких деятелей: отказ от цензуры, свобода печати, собраний и ассоциаций, возможность поездок на Запад – были сочтены вредоносными. Надежды на демократизацию советского общества оказались перечеркнуты, возобладали догматические методы управления, усилилось подавление инакомыслия. Прав академик Георгий Арбатов, отмечая, что застой начался с «наведения порядка» в собственном доме после сокрушения сторонников реформ и демократии в Чехословакии[9].