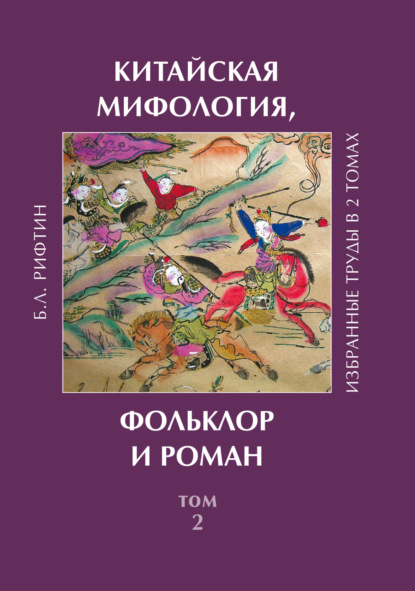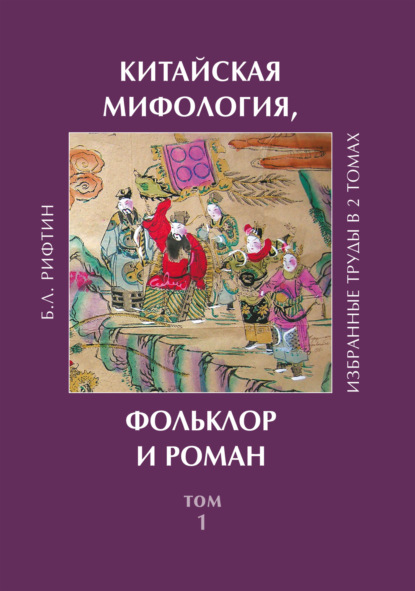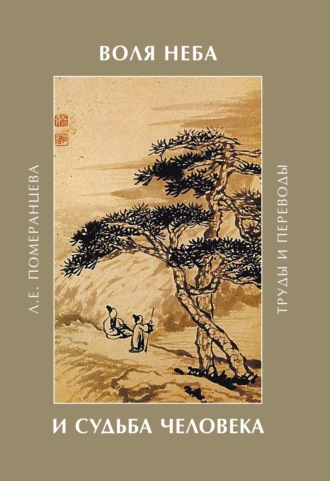
Полная версия
Воля Неба и судьба человека. Труды и переводы
Несмотря на критические замечания, мы не можем не отдать должного автору: он представил подробный анализ действительно важных для этого памятника проблем, и его попытка разобраться в сложном их сплетении безусловно заслуживает внимания.
Мало изучен «Хуайнаньцзы» и в мировой синологии. Достаточно сказать, что памятник до сих пор не переведен полностью ни на один из европейских языков. Среди частичных переводов следует указать на книгу И. Моргана[291], содержащую перевод восьми глав «Хуайнаньцзы», с предисловием и комментарием; перевод главы «Очертания земли» Э. Эркеса[292], без какого бы то ни было комментария; перевод первых двух глав «Хуайнаньцзы» Евы Крафт[293], с предисловием, построчным комментарием и подробным истолкованием текста; и, наконец, перевод одиннадцатой главы памятника, выполненный Б. Воллакером[294], содержащий вступительную статью и комментарий.
Книга Моргана является первой большой работой в европейской синологии, посвященной специально «Хуайнаньцзы». Основную часть занимает перевод (242 с.), которому предшествует предисловие (45 с.). В предисловии автор сосредоточился на нескольких темах, представляющихся ему важными в даосизме: соотношение чувственного и духовного начал, свобода, дао, недеяние. Предисловие хотя и не носит, строго говоря, исследовательского характера, однако содержит ряд замечаний, позволяющих судить о взгляде автора на даосизм. Автор различает у даосов два мира: видимый и невидимый, смертный и вечный, чувственный и рациональный. Мир видимый, чувственный, смертный стоит ниже мира невидимого, вечного, идеального. Над тем и другим миром стоит некая высшая сила – дао (этот термин Морган склонен переводить в большинстве случаев как «космическая душа» – Cosmic Spirit). Дао является единством видимого и невидимого миров. Над дао, по Моргану, стоит «естественность» (naturalism, цзыжань). Но дао и само может выступать как «естественность». Сами наблюдения Моргана заслуживают внимания: есть мир вещей, есть невещный мир и есть некий их синтез и одновременно источник; дао — это «космическая душа». Но отсутствие систематического анализа текста, поверхностность и излишняя широта сопоставлений (например, с христианскими понятиями), распространение выводов на весь даосизм – все это лишает его гипотезы необходимой для научной работы достоверности. Интересны и также не аргументированы замечания Моргана относительно того, что даосы рассматривают человеческое тело как микрокосм, и о том, что в даосской философской системе существует тесная связь между космосом и человеком.
Перевод Моргана, на наш взгляд, грешит «широтой». Формулируя свое кредо переводчика, Морган говорит, что зачастую парафраз точнее передает смысл текста, чем его буквальный перевод. С этим трудно не согласиться, но следует при этом быть осторожным, поскольку, как это видно по работе самого Моргана, легко сбиться на пересказ, включающий слишком много субъективного. Переводчик «дополняет» то, что с его точки зрения не достаточно ясно сказано в тексте. Но как бы там ни было, перевод Морганом целого ряда глав до сих пор остается единственным в европейской синологии и как таковой имеет свою ценность.
Работа Евы Крафт заслуживает того, чтобы на ней остановиться подробнее. Кратко, но достаточно полно характеризует она памятник во вступительной части работы: говорит о его значении, об истории текста, о комментаторской традиции; специально останавливается на проблеме сопоставления текста «Хуайнаньцзы» с текстом «Вэньцзы» и приходит к выводу, что это два разных текста и соответственно ничем не оправдана правка ученых цинского времени (XVIIIв.) текста «Хуайнаньцзы» по «Вэньцзы»[295].
Далее следует перевод первых двух глав «Хуайнаньцзы». Выбор этих глав обусловлен тем, что переводчик считает первые четыре главы принадлежащими одной руке и рассматривает их как вступительные ко всему памятнику. Перевод отличается точностью и скрупулезностью. Комментарий к тексту свидетельствует об отличном владении переводчика литературой, как комментаторской, так и исследовательской, а также текстами Лаоцзы и Чжуанцзы.
За переводом следует истолкование текста, идущее в основном последовательно от первой главы ко второй, но зачастую отсылающее читателя к разным частям перевода. Работа, кроме того, снабжена указателем, дающим перечень основных понятий.
Исследование Е. Крафт обладает многими достоинствами. Во-первых, это единственная пока работа в европейской синологии, сосредоточенная на системе «Хуайнаньцзы». Е. Крафт отдает себе отчет в том, что эта система тесно связана с предшествующей даосской традицией и только в связи с нею может быть осмыслена. Но, имея весь необходимый запас знаний относительно этой традиции, автор пытается дать прежде всего интерпретацию основных категорий даосизма в том виде, как они предстают из текста памятника, и провести свой анализ как бы изнутри, полностью концентрируя свое внимание на развертывании мысли в избранных ею двух главах «Хуайнаньцзы». Такой подход представляется нам единственно правильным и возможным, потому что без конкретной разработки системы каждого памятника даосской мысли в отдельности невозможно сделать сколько-нибудь основательные выводы о развитии основных понятий даосизма и всей его философии в целом в историческом разрезе. Такой подход позволяет автору глубоко войти в живую плоть текста и делает для него явственными многие существенные детали, остающиеся, как правило, вне внимания других исследователей.
Во-вторых, несомненным достоинством работы является попытка акцентировать внимание на термине, постараться выделить его значение из контекста. Поскольку содержание этих двух глав сосредоточено на идее дао, постольку в центре внимания исследователя, естественно, постоянно остается дао. Е. Крафт снова и снова уточняет его значение, по мере того как текст предоставляет к этому возможность. В результате в интерпретации исследователя дао впервые обретает конкретные черты, позволяющие всякому, знакомящемуся с работой, делать самостоятельные выводы относительно сущности этой важнейшей категории. Причем последовательное, а не выборочное толкование текста в значительной мере гарантирует объективность, во всяком случае дает возможность контроля.
И наконец, еще одна привлекательная черта исследования – автор хорошо чувствует образную сторону текста. Проникновение в суть мифологических и поэтических образов «Хуайнаньцзы» дает ему дополнительный материал для аргументации. Без попытки войти в образный мир даосских памятников вообще и «Хуайнаньцзы» в частности, учитывая специфику формы изложения любой древней философии, нельзя приблизиться к пониманию конкретных выводов этой философии. Филологический анализ текста есть путь к его философскому анализу.
Но при всех достоинствах работа Е. Крафт обладает одним весьма существенным недостатком – автор явно находится под гипнозом новой европейской философии, и это, помимо его воли, окрашивает всю интерпретацию в цвета, совершенно чуждые древности. Пока автор говорит, что дао — начало (Ursprung), дух (Geist) и душа (Seele) мира, то он еще остается на почве древности. Но когда он утверждает, что дао не только начало, но и принцип (Prinzip), не только дух, но и принцип духа (Geist Prinzip), и в довершение всего говорит, что дао должно быть понято как трансцендент (als Transzendent)[296], то такая интерпретация сразу перемещает нас на почву новоевропейского образа мыслей, а никак не древнекитайского. «Вся беда в том,– пишет по поводу таких интерпретаций А.Ф. Лосев,– что античности неведомы… ни учение о чистом внебытийном трансцендентализме, ни абсолютная мощь субъекта, когда он сам обосновывает и себя и всякое иное бытие… Античная философия и античный „идеализм“ всегда исходят из объективного бытия (подчеркнуто А.Ф. Лосевым.– Л.П.)»[297]. Отсюда понятно наше отношение к этой работе – она представляет интерес как скрупулезный анализ текста, выполненный на высоком научном уровне, и полезна в частностях, но что касается общих выводов, то они не могут быть нами приняты безоговорочно.
Работа американского ученого Б. Воллакера, как отмечали рецензенты, вызывает чувство удовлетворения своим аппаратом, но разочаровывает качеством перевода[298]. Работа состоят из пяти частей. Первая глава – «„Хуайнаньцзы“ и его комментаторы» – содержит краткую биографию Лю Аня и краткие сведения о комментаторах памятника. Вторая глава представляет собой перевод предисловия Гао Ю к «Хуайнаньцзы». Основной пафос третьей главы – установление общности между одиннадцатой главой «Хуайнаньцзы», ее идеями и идеями «Дао дэ цзина» и «Чжуанцзы», с одной стороны, и взглядами Хань Фэйцзы, с другой стороны. Автор пытается уловить социальный и политический подтекст, связанный с событиями II в. до н. э., но, как представляется, глава не дает ему достаточного материала. Четвертая часть содержит собственно перевод и суммарное его изложение в пересказе. Пятая – посвящена проблеме перевода терминов и дает подборку вариантов перевода важнейших терминов древнекитайской философии в работах известных переводчиков и исследователей, таких как Вэйли, Дайвендак, Вильгельм, Дабс и др. Попытка автора путем такой подборки найти подходящий для себя вариант или оправдать свой собственный едва ли плодотворна – автору как будто безразлично, идет ли речь о переводе термина в памятниках даосской или конфуцианской школ («Дао дэ цзин» Лаоцзы и «Изречения» Конфуция), в памятнике, относящемся по содержанию к VI–V вв. до н. э. (как Лаоцзы и Конфуций) или ко II в. до н. э. (как «Хуайнаньцзы»).
В общих работах по истории древнекитайской философии «Хуайнаньцзы», как правило, или вовсе не упоминается, или только упоминается и цитируется в связи главным образом с космологической теорией и мифами[299].
В русской и советской синологии «Хуайнаньцзы» упоминается в трудах таких крупных синологов, как В.П. Васильев, В.М. Алексеев, А.А. Петров, что свидетельствует об их интересе к этому памятнику. Как источник по мифологии он привлекается к исследованию Э.М. Яншиной, Б.Л. Рифтиным, Л.С. Васильевым. Однако специальных работ на русском языке, кроме статей автора настоящей монографии, по «Хуайнаньцзы» нет.
Исследование такого памятника, как «Хуайнаньцзы», сопряжено с привлечением текстов других древнекитайских памятников, в первую очередь даосской школы. Использование их автором монографии было значительно облегчено уже имеющимися переводами и исследованиями русских и советских ученых (А.И. Иванова, А.А. Петрова, Ян Хин-шуна, Л.Д. Позднеевой, Л.С. Переломова, Ю.Л. Кроля), а также европейских (Дж. Легга, Р. Вильгельма, Г. Джайльса, А. Вэйли, А. Форке, Я. Дайвендака, Дж. Нидэма, А. Грэхема и др.) и китайских (Фэн Юланя, Хоу Вайлу и др.).
Предлагаемое исследование не претендует на исчерпывающий анализ памятника. Автор пытался на основании всего текста в целом определить тот комплекс идей, который лежит в фундаменте памятника и который обусловливает основные линии развития мысли. Соответственно этой задаче все исследование делится на четыре главы: учение о мире, учение о знании, эстетика, учение об обществе и государстве.
Исследование
Глава 1. Учение о мире
Мир в представлении авторов «Хуайнаньцзы» есть нечто целостное, соединяющее в себе материальное и идеальное. Идеальное определяет его смысл, его внутренние законы. Материальное есть его плоть, материальное осуществление смысла, материализация внутренних законов. Материальное и идеальное зависимы друг от друга. В силу своего идеалистического в принципе воззрения на мир авторы «Хуайнаньцзы» считают всякое идеальное, внутреннее основой материального, внешнего. Поэтому в их онтологии материальное является порождением идеального. Как таковое идеальное выделяется в самостоятельную субстанцию, которая является причиной самой себя и существование которой ничем не обусловлено. Мир идеального – это мир абсолютного покоя, небытие; материальный мир – это движение, непрерывный процесс становления (по терминологии даосов – «изменения»). То, что сообщает всему движение, есть Дао, которое выступает как бы посредником между миром идеальным и миром материальным. Дао же движет себя само. Как идеальное было выделено в самостоятельно существующую субстанцию, так и самодвижение получило имя дао.
Поскольку способность к движению у древних соединялась с представлением об одушевленности и разумности, то дао и выступает в качестве всеобщей души и разума.
Однако в тексте мы не найдем столь определенного и последовательного изложения этой системы, поскольку авторы «Хуайнаньцзы» менее всего были озабочены такой задачей. И тем не менее эта система у них присутствует и может быть нами выделена из отдельных периодов, фраз, отступлений, философских «зачинов» глав. Это оказывается возможным и необходимым потому, что как ни заняты авторы политическими проблемами, ради которых они и создают свою теорию, в условиях того времени она не может быть построена иначе, чем на традиционном общефилософском фундаменте. Вопрос заключается в том, вносят ли они какие-либо изменения в традиционное понимание вещей и каковы эти изменения. Анализ материала показывает, что эти изменения производились в целом на даосской основе. Они, однако, не затрагивали основ даосизма и выражались зачастую не столько в каком-то принципиальном дополнении, сколько в развитии уже известных положений или иной акцентировке. Превалирующей и наиболее четко выделяемой идеей являлась идея единого источника происхождения мира и единства руководящих им законов, а отсюда – и взаимосвязи явлений.
После этого краткого и очень общего вступления обратимся к текстам[300].
Бытие и небытие«В то время, когда небо и земля еще не обрели формы, все было парение и брожение, струилось и текло. Назову это – Великий Свет. Дао возникло в пустоте и туманности. Пустота и туманность породили пространство и время (космос). Пространство и время породили эфир (ци). Эфир разделился: чистый и светлый взметнулся вверх и образовал небо, тяжелый и мутный сгустился и образовал землю. Чистое и тонкое легко соединяется, тяжелое и мутное трудно сгущается. Поэтому небо образовалось раньше, а земля установилась позже. Соединившиеся в одно частицы цзин неба и земли образовали инь и ян. Их (т.е. инь и ян) концентрированные частицы цзин образовали четыре времени года. Рассеянные частицы цзин четырех времен года образовали тьму вещей. Жаркий эфир скопившихся [масс] ян породил огонь, а из частиц цзин огненного эфира образовалось солнце. Холодный эфир скопившихся [масс] инь образовал воду, а из частиц цзин водяного эфира образовалась луна. Частицы цзин, истекшие от солнца и луны, образовали звезды и созвездия» (7, 35)[301].
Таков один из вариантов происхождения бытия. Отсюда ясно то, что не представляется сомнительным и по другим даосским текстам, и по другим фрагментам «Хуайнаньцзы»: космос рождается в пустоте. Но что такое пустота? Пустота не представлялась древним как нечто полностью не существующее. Она появляется из единого и нераздельного целого как первый необходимый шаг к раздельности. В самом деле, для того чтобы раздельность могла осуществиться, она должна быть отделена от другой раздельности промежутком (цзянъ).
Этот промежуток и есть пустота. Пустота у даосов абсолютизирована и представлена как самостоятельно существующее ничто. Терминологически это понятие выражается словами сюй у – «пустота-ничто». Как отличающаяся от бытия она есть небытие (у).
Таким образом, космос родится в пустоте. Космос – это буквально «пространство и время» (юй чжоу). Из «Чжуанцзы» знаем, что пространство обладает сущностью (ши), а время – длительностью (чан).
«То, что обладает сущностью, но не помещением [для нее], – пространство. То, что обладает длительностью, но не имеет ни начала, ни конца,– время» («Чжуанцзы», 3, 151, 258). Но что такое сущность, которая нигде не помещается, или время, которое «не имеет ни начала, ни конца» (букв. «ни корня, ни верхушки»)? Это беспредельные время и пространство. Однако пространство и время уже и здесь обладают свойствами – «сущностью» и «длительностью». Таким образом, они в одно и то же время в отношении бытия есть небытие (поскольку ничем не ограничены, не имеют материальной формы), но в отношении абсолютной идеальности есть уже бытие (поскольку обладают свойствами). В этой среде рождается воздух, или эфир (ци), как сущее, обладающее многими свойствами.
Весь остальной процесс происходит материальным путем. Все, начиная с неба и земли и кончая тьмой вещей, образуется в результате того, что массы воздуха или его частицы вздымаются или опускаются, соединяются или рассеиваются в зависимости от его свойств (легкий или тяжелый, чистый или мутный, холодный или горячий). Однако при этом нельзя забывать, что рождению космоса как первой пространственно-временной раздельности предшествует появление дао.
Другой фрагмент из «Хуайнаньцзы» делает более ясными признаки, отличающие бытие от пустоты-небытия. Здесь внимание сосредоточено на рождении тьмы вещей. Космос как таковой оставлен за границами описания. Отсчет ведется от момента образования неба и земли. Воздушные потоки неба и земли устремляются навстречу друг другу, приходят в соприкосновение, и все как бы замирает перед первым вздохом: «Так называемое начало. Всеобщее затаенное возбуждение еще не прорвалось. Как обещание почки, как отрастающие после порубки ростки. Еще нет каких-либо форм и границ. Только шорох абсолютного небытия. Все полно желанием жизни, но еще не определились роды вещей… Было бытие. Тьма вещей во множестве пустила корневища и корни, образовались ветви и листья, зеленый лук и подземные грибы. Сочная трава ярко заблестела, насекомые встрепенулись, черви зашевелились, все задвигалось и задышало. И это уже можно было подержать в руке и измерить» (7, 19).
Минуя «беллетристическую» сторону, обратим внимание на характеристику двух основных признаков бытия: наличия форм («И это уже можно было подержать в руке и измерить») и движения («Тьма вещей во множестве пустила корневища и корни… насекомые встрепенулись, черви зашевелились, все задвигалось и задышало»).
Продолжение этого же фрагмента содержит характеристику небытия-пустоты как мира нечувственного по контрасту с только что приведенной характеристикой бытия: «Было небытие. Смотришь – не видишь его формы; слушаешь – не слышишь его голоса; трогаешь – не можешь его схватить; смотришь вдаль – не видишь его предела. Свободно течет и переливается как в плавильном котле. Бескрайне, безбрежно. Нельзя ни измерить его, ни рассчитать» (7, 19).
Таким образом, бытие есть мир форм, мир чувственно воспринимаемых вещей, а небытие-пустота есть бесформенное существование, не подвластное чувствам.
Но до сих пор речь шла о происхождении бытия, из чего могло создаться впечатление, что небытие только рождает бытие, а затем уже не имеет к нему отношения. Однако это не так. Между бытием и небытием происходит постоянное движение: «Из небытия (вещи.– Л.П.) вступают в бытие и из бытия – в небытие…» (7, 11); «Из небытия вступаем в бытие, из бытия – в небытие. Начало и конец не имеют грани» (7, 109). Бытие понимается как жизнь, а небытие как смерть. Жизнь – это пребывание в определенной форме, а смерть – распадение этой формы и возвращение в бесформенное: «При жизни я принадлежу к роду обладающих формой, по смерти я исчезаю в бесформенном» (7, 102). Жизнь и смерть толкуются как «превращения» (хуа), которые следуют одно за другим непрерывной чередой: «Тьма превращений, сотни изменений вольно текут, ни на чем не задерживаясь» (7, 13), т.е. мир представляет сплошную текучесть, ни на миг не останавливается его движение. Но движение это особого свойства. Это движение по кругу: начало в конец, конец в начало («Начало и конец подобны кольцу» – 7, 105); жизнь-смерть-жизнь; бытие-небытие-бытие. Все есть только постоянная смена форм. То, что умирает в этой форме, в следующий миг возрождается в другой. Всякая вещь, таким образом, в какой бы момент ее ни взять, стоит между бытием и небытием (как ничто). Поэтому часто говорится, что жизнь и смерть имеют одно тело (7, 109, ср. в «Чжуанцзы»: «Я дружен с тем, кто знает о единстве бытия и небытия, жизни и смерти» – «Чжуанцзы», 3, 151, 258; «Мы подружились бы с тем, кто способен считать небытие головой, жизнь – хребтом, а смерть – хвостом» – «Чжуанцзы», 3, 42, 165). Отсюда же представление, что все родится из ничего, бытие из небытия: «Бесформенное, а рождает имеющее форму; беззвучное, а поет пятью голосами; безвкусное, а образует пять [оттенков] вкуса; бесцветное, а создает пять цветов. Так бытие рождается в небытии, сущее берет начало в пустоте» (7, 11)[302].
В связи с представлением о небытии как порождающем начале авторы «Хуайнаньцзы» выделяют некую особо существующую субстанцию, стоящую и над бытием, и над небытием-пустотой. Помимо того небытия, в которое вещи уходят по смерти и из которого они вновь появляются, обретая форму, в текстах явно выступает и некое более высокое небытие. Оно носит разнообразные имена – хаоса, бесформенного, Единого, Великого Единого. В форме хаоса оно в «Хуайнаньцзы» выступает в этой функции формально – это наипервейшее состояние мира: «В то время, когда небо и земля еще не обрели формы, все было парение и брожение, струилось и текло…» (7, 35); «В древности, когда не было еще неба и земли, были только образы, не было форм. Темнота, мрак… неразличимый хаос» (7, 99); «Небо и земля пребывают в хаотическом единстве, в хаотическом смешении образуют основу. Еще не образовались и не сформировались вещи. Назову это Великим Единым» (7, 235). Ничего более определенного специально о хаосе мы в «Хуайнаньцзы» не найдем. Однако в «Лецзы» и «Чжуан-цзы» есть нечто, разъясняющее этот предмет. В «Лецзы» говорится: «Существует первонепостоянство, существует первоначало, существует первообразование, существует первоэлемент. При первонепостоянстве еще нет воздуха, первоначало – начало воздуха, первообразование – начало форм, первоэлемент – начало свойств [вещей]. Все вместе – воздух, форма, свойства – еще не отделились друг от друга. Поэтому и называются хаосом. Хаос – смещение тьмы вещей, еще не отделившихся друг от друга» («Лецзы», 3, 2, 44). Здесь довольно ясно выделяются два основных момента: состояние, когда еще нет и самой первоматерии, воздуха,– это так называемое «первонепостоянство»; и «начало» первоматерии – «первоначало». Кроме этого, важно, что все стадии, начиная с «первоначала», характеризуются как «начала» – начало воздуха, начало форм, начало свойств. Но это «начало» ни в коем случае не означает еще рождения воздуха, форм и их свойств в их отделенности друг от друга. Наоборот, подчеркнуто, что «воздух, формы, свойства еще не отделились друг от друга. Поэтому и называются хаосом». Что же дает основание квалифицировать это как «начало»? По-видимому, «началом» называется наметившееся разделение. В «Чжуанцзы» этот момент прояснен: «В первоначале было небытие, не было бытия, не было имен. С возникновением одного стало одно, но еще не было форм… То, что не имело еще форм, уже имело разделения, но не имело промежутка. Назову это судьбой» («Чжуанцзы», 3, 73, 191). Таким образом, в «Чжуанцзы» уже определенно говорится о разделении как о потенциальной возможности, еще не реализованной здесь («не было промежутка»), и называется это разделение «судьбой». Следовательно, хаос есть такое единство, в котором уже заложена идея вещей, их смысл и назначение (ср. «судьба»)[303].
Это небытие выступает, как сказано было выше, и в качестве бесформенного и Единого: «То, что называю бесформенным, есть название Единого. То, что называю Единым, не имеет пары в Поднебесной. Подобный утесу, одиноко стоит; подобный глыбе, одиноко высится. Вверху пронизывает девять небес, внизу проходят через девять полей. Его окружность не выписать циркулем, его стороны не описать угольником. В великом хаосе образует одно. У него есть листья, но нет корня. В нем покоится Вселенная. Оно для дао служит заставой» (7, 11).
В связи с вышесказанным прежде всего следует обратить внимание на выражение: «У него есть листья, но нет корня», т.е. оно само по себе, не из чего не происходит и ничем не питается («нет корня»), хотя и имеет нечто от себя производное («есть листья»). «В нем покоится Вселенная» – эта фраза сталкивает нас с представлением о положении Вселенной относительно этого Единого – оно буквально «держит ее за пазухой» или в груди, т.е. окружает ее. «Не имеет пары в Поднебесной», «одиноко стоит», «одиноко высится» – все это говорит о его особности. «Его окружность не выписать циркулем, его стороны не описать угольником», т.е. оно неизмеримо. Заметим здесь попутно, что это небытие является «заставой» для дао, через которую дао как-то сообщается с небытием, хотя, как увидим позже, деятельность дао развертывается только во Вселенной.