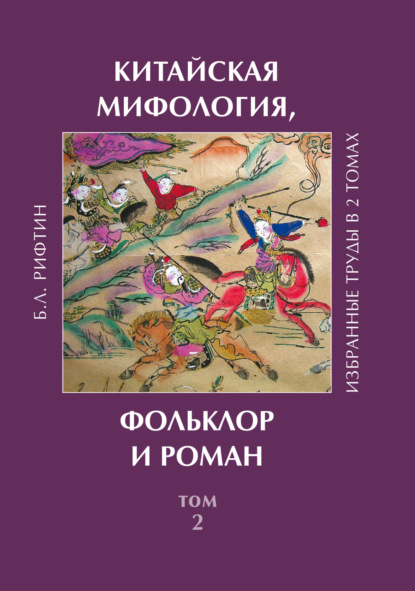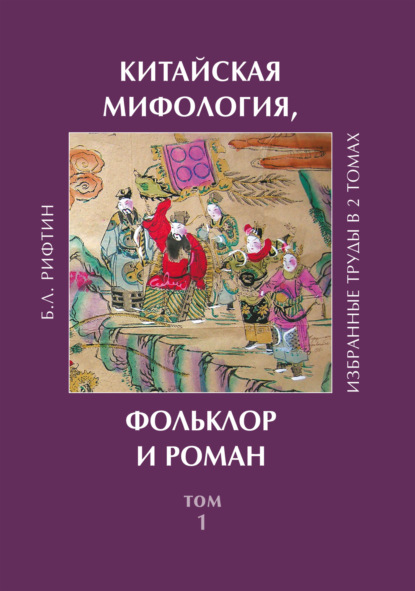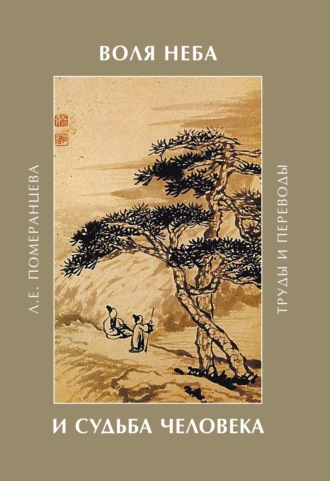
Полная версия
Воля Неба и судьба человека. Труды и переводы
Поэтому, слушая добрую речь, хорошие планы, и глупый возрадуется; когда превозносят высшее благо, высокие поступки, то и неблагородный позавидует. Радующихся много, а применяющих планы на деле – мало; завидующих множество, а поступающих так – единицы. В чем причина этого? В том, что не могут вернуться к своей природе. Домогаются учения, не дав внутреннему проникнуть в сердцевину, потому учение не входит в уши и не запечатлевается в сердце. Разве это не то же, что песня глухого? Поет, подражая людям, не для собственного удовольствия. Звук возникает в устах, выходит из них и рассеивается.
Итак, сердце – господин пяти внутренних органов. Оно управляет четырьмя конечностями, разгоняет кровь и эфир (ци), спешит определить границы истины и лжи, снует в воротах сотен дел. Потому если не дошло до сердца, а хочешь распоряжаться эфиром Поднебесной, то это все равно что, не имея ушей, браться за настройку барабанов и гонгов; не имея глаз, хотеть любоваться расписным узором – никогда не справишься с этой задачей. «Душа[228] из Поднебесной не подвластна деяниям. Воздействующий на нее разрушает ее, завладевающий ею теряет ее»[229]. Сюй Ю, презирая Поднебесную, не пожелал сменить Яо[230] на престоле, а оказал влияние на Поднебесную. В чем причина этого? Следование Поднебесной и есть воздействие на Поднебесную. Все, что необходимо Поднебесной, заложено не в ком-то другом, а во мне, не в других людях, а в моем теле. Овладей собственным телом – и тьма вещей обретет порядок. Откажись внутренне от искусственных рассуждений – и страсти и вожделения, любовь и ненависть останутся вовне. Когда ничто не радует, не гневит, не несет ни наслаждения, ни горестей, то тьма вещей приходит к сокровенному единству. Тогда нет ни истинного, ни ложного, изменения происходят подобно сокровенным вспышкам[231]. Живой, я подобен мертвому. Я владею Поднебесной, а Поднебесная владеет мною. Разве есть что-нибудь, разделяющее меня и Поднебесную? Неужели те, кто владеет Поднебесной, непременно должны держать в руках власть, опираться на могущество, сжимать смертоносный скипетр и так проводить свои указы и повеления? То, что я называю владением Поднебесной, совсем не то. Обрести себя и все. Обретаю себя, и тогда Поднебесная обретает меня. Мы с Поднебесной обретаем друг друга и навсегда завладеваем друг другом. Откуда же возьмется что-то между нами? То, что называется «обрести себя»,– это сохранение целостности своего тела. Тот, чье тело целостно, с дао образует одно.
Заурядные люди без удержу предаются прогулкам по берегу реки и морскому побережью, скачкам на знаменитых скакунах, выездам под балдахином из перьев зимородка, любуются зрелищем танцев «Колыхающиеся перья» и «Боевые слоны», наслаждаются нежными переливами прозрачных звуков, воодушевляются роскошной музыкой Чжэн и Вэй, увлекаются вихрем чуских напевов[232], стреляют птиц на болотах, гонят зверя в заповедниках.
Мудрец, попав сюда, не чувствует волнения духа, смятения эфира (ци) и воли, и сердце его не утрачивает в трепете своего природного чувства. Он поселяется в пустынном краю, среди горных потоков, сокрытый глубиной чащ. Жилище в четыре стены, тростниковая крыша, завешенный рогожей вход и окно из горлышка кувшина, скрученные ветки шелковицы вместо дверной оси. Сверху капает, снизу подтекает. Сыреет северная сторона, снег и иней порошат стены, ползучие растения держат влагу. Свободный, скитается среди широких озер и бродит в скалистых ущельях. Все это, по мнению заурядных людей, насилует форму, стесняет путами, в печали и скорби не дает обрести волю. Мудрец же, попав сюда, не тоскует и не страдает, не утрачивает основы своего наслаждения. Отчего это так? Оттого что внутренне он проник в суть неба[233] и потому ни благородство, ни худородство, ни бедность, ни богатство, ни труды, ни досуги не лишат его воли и блага. Разве воронье карканье или сорочья трескотня меняются в зависимости от стужи или жары, засухи или вёдра?[234]
Поэтому тот, кто обрел дао, устанавливается в себе и не ждет подталкивания извне. Я обретаю себя независимо от изменений, происходящих в каждый момент. То, что я называю обретением,– это когда мое природное чувство находится в покое. Природа вещи и ее судьба выходят из рождающего их корня одновременно с формой[235]: форма готова, – и готовы природа вещи и ее судьба. Природа вещи и ее судьба образуются, – и рождается любовь и ненависть. Поэтому для мужей существует однажды установленный порядок отношений, а женщины следуют неизменным нормам поведения.
Циркуль и угольник[236] – это не круг и квадрат, крюк и отвес – это не изгиб и прямая. По сравнению с вечностью неба и земли восхождение к славе нельзя считать долгим, жизнь в презренной бедности нельзя считать короткой. Поэтому тот, кто обрел дао, бедности не страшится, добившись успеха – не гордится; взойдя на высоту, не трепещет, держа в руках наполненное – не перельет. Будучи новым, не блестит, старым – не ветшает. Входит в огонь – не горит, входит в воду – не промокает. Поэтому и без власти уважаем, и без богатства богат, и без силы могуществен. Сохраняя равновесие, пустой, течет вниз по течению, парит вместе с изменениями. Такие прячут золото в горах, а жемчуг – в пучинах[237]. Не гонятся за товарами и богатством, не домогаются власти и славы. Поэтому довольство не почитают за наслаждение, недостаток – за горе. Не считают знатность основанием для покоя, худородство – для тревоги. Форма, дух, эфир, воля[238] – все находит свое место, чтобы следовать движению Вселенной. Форма – прибежище жизни, эфир – наполнитель жизни, дух (шэнь) – управитель жизни. Когда одно из них утрачивает свое место, то все три терпят ущерб. Поэтому мудрец и определяет каждому человеку его место, его занятие, чтобы не было взаимной борьбы. Поэтому форма, помещенная туда, где нет для нее покоя, разрушается; эфир, не получая того, что дает ему полноту, иссякает; дух, лишенный того, что ему соответствует, меркнет. Эти три вещи нужно бережно хранить. Взять хоть всю тьму вещей в Поднебесной. Пресмыкающиеся и черви, насекомые и бабочки – все знают, что доставляет им радость или отвращение, несет с собой выгоду или вред. Отчего? Оттого что их природа остается при них и их не покидает. А если вдруг уйдет, то кости и плоть утратят единство пары. Ныне люди видят даже неясное, слышат даже неотчетливое, телом способны отталкивать, могут вытягивать и сокращать суставы, различать белое и черное, отличать безобразное от прекрасного, распознавать тождество и различие, определять истину и ложь. Каким образом? Благодаря полноте эфира и усилиям духа.
Откуда знаем, что это так? Человек, у которого воля на что-то направлена, а разум на чем-то сосредоточен, идет и проваливается, натыкается на столб – и не чувствует этого. Помаши ему – не видит, позови его – не слышит. Уши и глаза при нем, но почему же не отзываются? Оттого что дух утратил то, что должен хранить. Поэтому, занятый малым, забывает о большом; сосредоточась на внутреннем, забывает о внешнем; находясь наверху, забывает о том, что внизу; помещаясь справа, забывает о том, что слева. Когда же все наполняет, то везде и присутствует. Поэтому тому, кто ценит пустоту, и кончик осенней паутинки – надежная крыша. А вот лишившийся ума не может спастись от огня и воды, преодолеть канаву – разве нет у него формы, духа, эфира, воли? Дело в разности их использования. Они лишились места, которое должны охранять, оставили прибежище внутреннего и внешнего. Поэтому суетятся, будучи не в состоянии обрести должное, в покое и движении найти середину[239]. Всю жизнь перекатывают несчастное тело из одной ямы в другую, то и дело проваливаясь в зловонные канавы. Ведь жизнь одновременно с человеком выплавляется, как же оказывается, что она так жестоко смеется над людьми? Все оттого, что форма и дух утратили друг друга. Поэтому у того, кто делает дух господином, форма идет следом, и в этом польза; кто делает форму управителем, у того дух идет следом, и в этом вред. Жадные, алчные люди, обуянные страстями, слепо рвутся к власти и наживе, страстно желают славы и почестей. Мечтают превзойти других в хитроумии, водрузиться над будущими поколениями. Но дух с каждым днем истощается и уходит далеко, долго блуждает и не возвращается. Форма оказывается закрыта, сердцевина отступает, и дух не может войти. Вот причина того, что временами Поднебесная в слепоте и безрассудстве утрачивает самое себя. Это как жирная свеча, чем ярче горит, тем скорее убывает. Дух, эфир, воля спокойны – и день за днем наполняются силой; в беспокойстве – и день ото дня истощаются и дряхлеют. Вот почему мудрец пестует свой дух, сохраняя в гармонии и рассеянным свой эфир, в равновесии свою форму и вместе с дао тонет и всплывает, поднимается и опускается. В покое – следует, вынужденный – приходит в действие. Его следование подобно складкам одежды, его действие подобно пуску стрелы[240]. Когда так, то нет такого изменения, на которое бы не отозвался, нет такого поворота в делах, на который бы не откликнулся.
Поздние даосы о природе, обществе и искусстве
(«Хуайнаньцзы» ― II в. до н.э.)[241]
Введение
«Хуайнаньцзы», или «Философы из Хуайнани», является крупнейшим философским памятником Китая II в. до н. э. В политической истории Китая это время отмечено правлением знаменитого ханьского У-ди (140–86 гг. до н. э.).
Династия Хань (202г. до н.э.– 220г. н.э.) пришла на смену первой в истории Китая империи Цинь (221–207гг. до н.э.), унаследовав все ее завоевания, главным из которых было объединение страны. Первый китайский император Цинь Шихуан к 221г. до н.э. подчинил себе все существовавшие до того времени царства Китая, централизовав управление и создав постоянное императорское войско. «В интересах торговли Цинь Шихуан установил единую для всей страны монету…единые меры и весы, а также приказал делать оси для повозок одного размера. Была установлена также и единообразная для всей страны письменность»[242]. Широко развернулись строительные работы: были прорыты большие каналы, проложены новые дороги, выросли новые города. Все эти мероприятия имели целью единение огромной империи, однако требовали таких затрат, которые не в состоянии была покрыть тогдашняя экономика. Отрыв рабочей силы от сельского хозяйства, разорение земледельцев, налоги и тяжелые повинности подорвали хозяйство страны.
«Хани воцарились, унаследовав разруху Циней… Народ оставался без занятий, продолжался великий голод. [Цена] за дань (мешок) риса поднялась до пяти тысяч [монет]. Люди ели людей. Вымерло больше половины [населения]…»[243]. Новые правители, пришедшие к власти в 202г. до н.э. в результате крупного народного восстания, повели политику снижения налогов, освобождения от многочисленных повинностей, всемерного стимулирования сельского хозяйства. Это принесло свои плоды. В первые годы царствования новой династии наблюдается явный экономический подъем. В это время ощутимо растет численность населения, интенсивно развиваются ремесла и торговля. «Город являлся средоточием ремесла, культуры, торговли. Дворцовые сооружения, башни и дома знати выделялись среди остальных построек своими размерами и роскошной отделкой… дворцы циньских и ханьских правителей строились из различных пород ценного дерева и имели кровли из цветной черепицы. Внутри домов стены украшались росписями и пропитывались ароматическими веществами, пол инкрустировался драгоценными камнями. Вокруг дворцов были разбиты сады и парки с цветниками, сохранявшимися на протяжении всего года»[244]. Активная внешняя политика, рассчитанная на расширение земель, обеспечивала развитие торгового и культурного обмена между Китаем и завоеванными государствами. Расширились связи и с далекими странами – Средней Азией, Персией, Индией. Китайские товары достигали даже границ Римской империи. Все это способствовало расширению кругозора китайцев, обогащало их представления о внешнем мире, о культуре чужеземных стран, а кроме того в большой мере стимулировало развитие производства и культуры.
Хани продолжали политику укрепления единства страны, начатую Цинями. Централизация управления достигает своей высшей точки при У-ди. При нем был положен конец сепаратистским тенденциям, носителями которых были прежде всего бывшие правители удельных царств, на всем протяжении периода империи не желавшие мириться с потерей политической независимости: «…по указу 127г. до н.э. владения их, прежде наследовавшиеся старшим сыном, стали делиться между всеми сыновьями и быстро уменьшаться в размерах; статус их чиновников (высшие из которых назначались императором еще со времен Цзин-ди)…был определен специальными статутами; императорские инспекторы, подчинявшиеся одному из чиновников „внутреннего двора“ (в эту палату входили лишь доверенные лица императора.– Л.П.), бдительно следили за их действиями; многие аристократы по новым законам теряли свои владения, а часто и головы»[245].
Жесткая внутренняя политика, проводимая У-ди в отношении практически всех слоев общества, должна была обеспечить строгий надзор за действием всех и вся, однако имела внешне весьма пышную и привлекательную завесу. Заботясь о популярности своего правления, У-ди взял на себя миссию якобы восстановителя расшатанных предшествующей династией устоев древности – именно этим обстоятельством Хани объясняли бесславную погибель Цинь. Объявление конфуцианства официальной идеологией (136 г. до н. э.) также способствовало этой цели: Конфуций и его последователи особенно афишировали верность заветам отцов, обычаям и установлениям предков. Эта идея широко пропагандировалась и обставлялась различного рода культурной деятельностью. При У-ди широко развернулась работа по сбору, записи, редактированию и комментированию исторических, философских и литературных произведений, бытовавших до тех пор либо в устной форме, либо записанных в разное время и в равных вариантах и в небольшом количестве экземпляров. Именно при У-ди особое значение приобретает «Музыкальная палата», в задачу которой входили сбор и обработка народных песен и мелодий, а также создание новых – для ритуальных целей. Официально считалось, что на основании этих песен император составляет себе представление о «гласе народном».
Вне зависимости от тех целей, которые преследовал У-ди, все эти мероприятия создавали благоприятную обстановку для развития искусств и науки.
Уже с VIIIв. в Китае получает развитие институт гостей (ср. римских клиентов). Правители отдельных царств и крупная знать содержали при своих дворах по несколько тысяч так называемых гостей (кэ), странствующих учителей мудрости, что в древнем обществе означало знатоков философии, истории, военного дела, географии, астрономии, политиков, поэтов, музыкантов, астрологов, врачей и знахарей и людей всех возможных профессий. Со времен империи такие армии гостей содержались также и при императорских дворах. Эти люди служили своим патронам отчасти как советники по политическим делам, отчасти – как наставники в их частной жизни, отчасти – для развлечения своих высоких покровителей и их двора. В особом покровительстве, которое У-ди оказывал поэтам и вообще людям искусства и науки, возможно, была своя политика, преследовавшая не только цель придать своему двору пышность. Дело в том, что уже предшествующая династия Цинь прекрасно отдавала себе отчет в действенности слова, исходящего из уст как поэтов, так и странствующих философов. Весь период расцвета ораторского искусства в V–III вв. до н. э. показал, какое это сильное оружие. Возможно, У-ди хотел воспользоваться им для укрепления и упрочения своего могущества. Его двойственная политика давала возможность, правда, с оглядкой на императорский авторитет, обсуждать различные формы правления, их преимущества и недостатки, а освятив себя конфуциевым знамением, можно было обсудить и различные философские системы древности и возможности их приспособления к нуждам современности. II–I вв. до н. э. – это конец классической древности, а расцвет ханьской империи при У-ди – последний взлет древней культуры. Уже к концу I в. до н. э. появляются признаки распада, которые, все расширяясь, приводят в конце концов к краху. Но именно в период расцвета как никогда сильно и полно формируется сознание человека империи. Сила империи в ее единстве, а залогом сплоченности является строгая иерархия общества и гармония сословий – эта мысль определяет общий мировоззренческий принцип эпохи, что находит философское обоснование в идее единства и целостности мира, управляемого едиными законами: все множество разнородных и разнообразных явлений мира расположено иерархично одно по отношению к другому и основано на гармонии.
Произведения этого времени отличает небывалая масштабность. «Хуайнаньцзы», как и «Исторические записки» Сыма Цяня, пронизан стремлением осознать и определить сущность широчайшего круга явлений, исходя из представления о целостности мира. В самом деле, философские памятники не дают нам ни одного примера такого «глобального» охвата различных сторон мира природы и человека.
Космогония, теория познания, теория государственного управления, история, военное искусство, физика (в древнем своем значении), календарь – все это темы, входящие так или иначе в круг рассматриваемых в «Хуайнаньцзы». Количество используемых источников, среди которых можно найти и даосские, легистские, конфуцианские, моистские, а также те, что составляют общее достояние – предания, мифы, легенды, пословицы и поговорки, известные исторические аналогии, – не поддаются перечислению. Наконец, огромное количество фактического материала, разнообразных сведений, относящихся к быту, составляющих последнее слово науки (как, например, глава об астрономии) или удовлетворяющих интерес современников к чужеземным странам (как глава о географии) – все это говорит о стремлении к исчерпывающей полноте.
В отличие от раннеклассических произведений V–III вв. до н. э., «Хуайнаньцзы» уже не ищет специально ответов на глобальные вопросы бытия – они как будто уже даны. Весь пафос трактатов состоит в том, чтобы найти способы применения высокой теории к практическим делам сегодняшнего дня: либо найти с ее помощью объяснение современным общественно-политическим явлениям, либо обосновать свои проекты общественного устройства. Эта незаинтересованность в «чистой» теории оказывает известное влияние на общую мировоззренческую позицию авторов «Хуайнаньцзы».
Так же, как Сыма Цянь, авторы «Хуайнаньцзы» заслужили в традиции имя эклектиков. В известной степени эта оценка справедлива, потому что ни в том, ни в другом случае нельзя говорить ни о выработке оригинального учения, ни о последовательном проведении принципов одного из известных учений. Сыма Цянь, цитируя в предисловии к «Историческим запискам» слова своего отца Сыма Таня, говорит о достоинствах и недостатках шести важнейших философских школ Древнего Китая. Из этой характеристики ясно, что Сыма Цянь отдавал должное каждой из этих школ. Точно так же и авторы «Хуайнаньцзы» склонны отдавать дань каждой из этих школ. Так, в онтологии и теории познания они явно исповедуют даосизм, в теории управления государством – легизм, а в этике – конфуцианство. Несмотря на все это, ни труд Сыма Цяня, ни «Хуайнаньцзы» нельзя считать компиляцией. Известно, что Сыма Цянь включал в свой исторический труд разнообразный материал хроник, исторических преданий, речей, докладов и пр. Современные историки много внимания уделяют сличению этих источников с текстом Сыма Цяня и при этом находят большие несовпадения. Отсюда они делают вывод, что Сыма Цянь «редактировал и сокращал»[246] известные тексты, подвергал их критическому отбору[247]. Точно так же и в «Хуайнаньцзы» мы можем найти множество «заимствований» из более ранних памятников, таких как «Дао дэ цзин», «Лецзы», «Чжуанцзы», «Книга правителя области Шан», «Люйши чуньцю», «Хань Фэйцзы», «Моцзы», «Сюньцзы», «Гуаньцзы» и даже «Изречения» Конфуция. Однако материал предшествующей традиции используется в «Хуайнаньцзы» таким образом, что оказывается подчиненным собственным воззрениям авторов. От этого даосские, легистские, конфуцианские тезисы приобретают зачастую несвойственную им окраску. Одиннадцатая глава «Хуайнаньцзы» представляет собой развернутый комментарий к «Дао дэ цзину». Характерно, что подавляющее число примеров, иллюстрирующих тезисы Лаоцзы, взято из области управления государством. Кроме того, в известные тезисы вносятся путем комментария такие поправки, которые меняют их смысл. Например, хорошо известно изречение Лаоцзы: «Когда растут законы и приказы, увеличивается число воров и разбойников»[248]. Эта мысль была развита еще и в «Чжу-анцзы» (гл. X). Смысл изречения в том, что рост законов в государстве указывает на его неблагополучие. Пример же, который приводится в «Хуайнаньцзы», говорит не о том, что законы ничего не исправят в «подгнившем» государстве, а о том, что нужны законы, соответствующие конкретным условиям времени[249]. Защита самой идеи закона отдает легизмом. По-легистски перетолковываются и конфуцианские тезисы, а легистские объясняются, исходя из даосских посылок. Суть таких толкований в том, что в ханьское время обнаруживается ясная тенденция приспособления «теории» к «практике». Теория не исключается, ее значение не снижается, но она явно «заземляется» на практически важных для современников проблемах. Отсюда свой, специфический подход к истолкованию предшествующей традиции. Подход вполне творческий, не эпигонский.
«Хуайнаньцзы» начинается двумя вступительными главами и кончается заключительной главой. Расположение промежуточных глав носит определенный порядок, исходя из общей задачи, сформулированной авторами в заключении: «Проникнуть во внутренние законы неба и земли, соприкоснуться с делами людскими, [представить] в полноте путь предков»[250]. Уже здесь невольно возникает сравнение с «Историческими записками» Сыма Цяня, появившимися несколькими десятилетиями позже «Хуайнаньцзы». Сыма Цянь также будет обосновывать и выбор материала, и последовательность его изложения в своих предисловиях к труду в целом или к его отдельным частям. Такой прием появляется впервые в «Вёснах и осенях рода Люй» (III в. до н. э.) и, несомненно, является свидетельством нового типа произведения, основанного на авторском замысле.
Каждая глава представляет собой трактат и обозначается словом сюнь, что значит «поучение», «наставление». В «Хуайнаньцзы» мы находим достаточно разработанный язык логических понятий, который только комментируется привычным языком образов. Доля этой образности в памятнике зависит от предмета: ее может вовсе не быть (как в главах об астрономии, географии и сезонных приказах); она может быть минимальной (как в главе об искусстве управления); и, наконец, она может быть значительной (как, например, в главе «Об изначальном дао»). Главы об астрономии представляют собой перечень положительных знаний (или принимаемых за таковые), и потому здесь оказывается наиболее уместным каталожный стиль: «Что называется восемью ветрами? На сорок пятый день после зимнего солнцестояния приходят северо-восточные ветры. На сорок пятый день после прихода северо-восточных ветров приходят восточные ветры. На сорок пятый день после прихода восточных ветров приходят весенние ветры…»[251] и т.д., или: «Что называется девятью областями? Центр называется Цзюньтянь. Его звезды – Цзяо, Кан, Ди. Восток называется Цантянь. Его звезды – Фан, Синь, Вэй. Северо-восток называется Бяньтянь. Его звезды – Цзи, Доу, Цяньню…»[252]. То же самое в главе о географии: «Что называется шестью реками? Это Хэшуй, Чишуй, Ляошуй, Хэйшуй, Цзяншуй, Хуайшуй…»[253]. Глава о географии имеет много общих мест с «Каталогом гор и морей» и написана в том же стиле: «В Янчжоу есть дерево Фу [сан], где солнце загорается. В Дугуане есть дерево Цзянь, с которого боги сходят вниз и поднимаются наверх. В полдень [там] нет тени, на звук нет эха. Это центр неба и земли»[254].
«Сезонные распоряжения» воспроизводят главу из «Книги обрядов» – «Полунные приказы» и, естественно, сохраняют ее стиль перечня государственных и хозяйственных распоряжений, отдаваемых в связи с той или иной частью календаря: «Во вторую луну весны… начинаются дожди, расцветают персик и слива, иволга начинает петь… отдается приказ [соответствующим] чинам провести осмотр тюрем, снять ручные и ножные кандалы, прекратить наказания плетьми, приостановить судебные разбирательства…»[255].
Глава «Искусство владычествовать» близка к легистским произведениям и воссоздает их стиль – строгий, деловой, сжатый: «Пребывать в недеянии, наставлять без речей – в этом заключается искусство владык. Чистый и спокойный, он недвижим; соразмеряется с единым и не колеблется;…не награждает, не карает, не выказывает ни радости, ни гнева. Каждое называет его именем, каждого причисляет к его роду. Дела предоставляет их естественному ходу, ни в чем никогда не исходя от себя…»[256].
И совсем иное дело первая глава «Хуайнаньцзы». Она резко выделяется среди других глав своей высокой поэтичностью, которая создается гибким ритмом, яркой образностью, богатством параллелей, разнообразием стилистических фигур. Ее автор обладал немалым литературным талантом. Эта глава рождает ассоциации с древнекитайской поэзией: органичное сочетание в ней прозы, ритмических пассажей, поэзии свидетельствует о владении автором стилем од (фу). Как представляется, и эта черта есть знамение эпохи: происходит смешение стилей, с одной стороны, и отделение научной прозы от художественной – с другой.