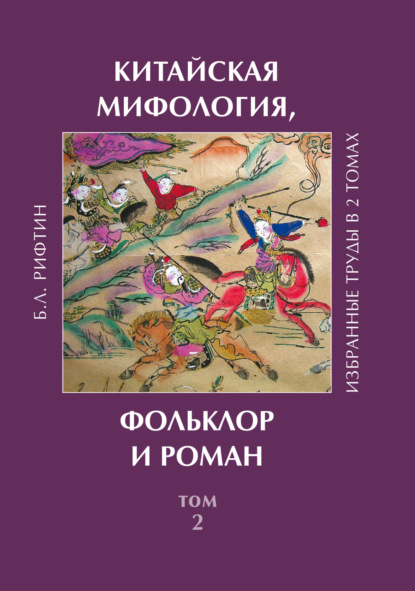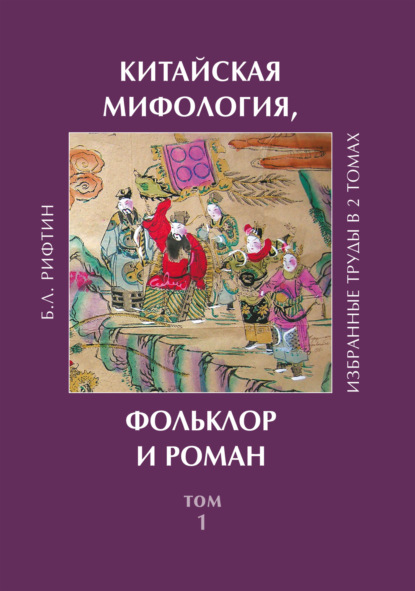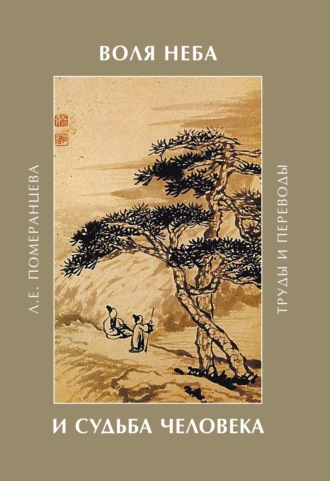
Полная версия
Воля Неба и судьба человека. Труды и переводы
Указанные здесь примеры стилей являются как бы крайностями. Для «Хуай-наньцзы» в целом более типичен «средний» стиль, в котором отвлеченно-логическое рассуждение перемежается с образностью. Трактаты написаны разными авторами – «гостями» хуайнаньского вана Лю Аня, и удельный вес и соотношение этих частей, а также мера искусности и художественного мастерства различны в разных главах.
Таков самый общий вид «Хуайнаньцзы».
Для истории сложения памятника и его характеристики небезразлично знать, кто такой был сам хуайнаньский князь и кто были его «гости».
Лю Ань был прямым потомком основателя Ханьской династии Лю Бана, который также известен в китайской истории под титулом Гаоцзу (206г. до н.э.). В разделе «Жизнеописания» «Исторических записок» Сыма Цяня (145?–86? гг. до н.э.) есть биографии и отца Лю Аня – Лю Чана, и самого Лю Аня, и его брата хэншаньского князя[257]. История хуайнаньских князей интересовала знаменитого историка, бывшего их младшим современником.
В восьмой год своего правления (198 г. до н. э.), рассказывает Сыма Цянь, великий Гаоцзу проходил с войском через бывшее царство Чжао. Правитель Чжао подарил императору одну из своих наложниц. Возвратившись в столицу, император и думать забыл о красавице из Чжао. Тем временем в Чжао был поднят мятеж против центральной власти. Сам правитель, его семья и наложницы были схвачены и преданы казни. Среди наложниц была и забытая Гаоцзу красавица. Уже связанная, будучи на сносях, она сказала императорским послам, что отец ребенка – сам император. Послали гонцов к императору, но Гаоцзу был слишком разгневан на чжаоского правителя и не стал их слушать. Младший брат наложницы через посредничество некоего Шэнь Шици попробовал повлиять на Гаоцзу через императрицу Люй, но та не пожелала вмешиваться в дела императора. Шэнь Шици не настаивал. Наложница родила сына и в отчаянии покончила с собой. Тогда еще раз доложили о случившемся императору, и он, раскаявшись, признал сына и поручил его воспитание императрице Люй. Через несколько лет он дал ему в удел Хуайнаньcкие земли.
Хуайнаньский князь Лю Чан рос при дворе как императорский сын и, как говорит Сыма Цянь, не испытывал никакого почтения к новому императору и своему брату – Вэньди. Сопровождая его на охоте, Чан вставал рядом с ним на колеснице и, обращаясь к нему, называл его просто «Старший брат». Это вызывало недовольство императора и придворных. В душе Чана жила обида на Шэнь Шици за смерть матери, и, улучив момент, он убил его, после чего отправился к императору с повинной. Вэньди помиловал брата, и с тех пор, рассказывает историк, Чан перешел все границы: он завел при своем дворе императорские порядки и требовал от подданных императорских почестей; не считался с императорскими приказами, а собственные указы приказывал рассматривать как императорские; самостоятельно распоряжался своими войсками и заключал союзы с соседними племенами. В доносе, который был послан императору, говорилось, что хуайнаньский ван дает приют людям, бежавшим от наказаний императора, поддерживает их семьи, одаривает богатыми подарками, жалует земли, строения и имущество; что он ведет переговоры с племенами минь, юэ, сюнну, готовясь к мятежу против центральной власти. В результате этого доноса Чан был схвачен и отправлен в ссылку. Его везли как преступника в железной клетке, и гордый князь не перенес позора. Он отказался принимать пищу и умер в пути голодной смертью. Земли его были конфискованы, а малолетним сыновьям даны в уделы небольшие территории. Однако через восемь лет Вэнь-ди под давлением распространившейся молвы о его жестокости по отношению к брату вернул земли Чана его сыновьям. Хуайнаньским ваном стал Лю Ань (164 г. до н. э.).
Рассказ Сыма Цяня о Чане примечателен как иллюстрация того исторического момента, когда молодая империя еще должна была активно защищать завоеванные рубежи, постоянно наталкиваясь на сопротивление бывших царьков, никак не желавших примириться с утратой наследственной власти. Сепаратистские тенденции были настолько живы, что ими заражались, как видно, и «новые» аристократы. Одним из них был князь Чан.
«Хуайнаньский князь Ань был человеком образованным,– пишет Сыма Цянь,– играл на цине, не любил охоты с травлей и скачками, стремился, не кичась добродетелью, служить простому народу, чем и прославился в Поднебесной»[258]. Но Лю Ань не забыл обстоятельств смерти своего отца и, как говорит Сыма Цянь, «подумывал о мятеже, да все не было повода». «На второй год эры правления Цзяньюань», т.е. в 139г. до н.э., Лю Ань сблизился с неким У Анем, бывшим главнокомандующим при императоре У-ди, и тот стал подстрекать князя к действию, говоря: «Ныне у императора нет наследника. Вы, великий князь, приходитесь внуком императору Гао[цзу]. Вся Поднебесная знает о Вашей добродетельности и справедливости. Императорская колесница с каждым днем все ближе к закату. Кому как не вам, князь, занять престол!»[259]. И Лю Ань стал готовить мятеж. Он тщательно разрабатывал план действий, обсуждая его со своими советниками; вступил в тайные переговоры с приближенными императора. Лю Ань не жалел золота на подарки другим князьям, стремясь заручиться их поддержкой, готовил оружие и военные запасы. Его сторонники вели активную агитацию по всей империи, странствующие ораторы прославляли его добродетели, и имя князя приобретало все большую популярность. Сыма Цянь очень подробно излагает всю историю заговора, приводит речи советников и князя, доклады его противников императору, входя в мельчайшие детали этого дела. Но в результате предательства все рухнуло, когда Лю Ань увидел у своих ворот гонцов императора с верительными дщицами, он уже знал, что дело проиграно, и покончил с собой. Его семья и все, кто был причастен к заговору, были казнены до девятого колена, а княжество поделено на девять областей.
Сыма Цянь неодобрительно отзывается о хуайнаньских князьях: «Отец и сыновья погубили и царства свои, и жизнь и стали посмешищем Поднебесной»[260].
Таков приговор историка. Однако в биографии Лю Аня у Сыма Цяня есть некоторые не очень ясные моменты. Удивительно, что Сыма Цянь ни словом не упоминает о сочинении «Хуайнаньцзы». А между тем из «Хуайнаньцзы» явственно следует, что взгляды хуайнаньского князя на политику были созвучны взглядам Сыма Цяня. В частности, такие политические положения «Хуайнаньцзы», как необходимость извлечения пользы из прошлого опыта и одновременно с этим требование изменения древних установлений с учетом меняющейся обстановки; выбор людей для управления на основе их способностей, а не происхождения или родства; обличения роскоши знати и пр., – все это с одинаковым энтузиазмом выражено и в «Хуайнаньцзы», и у Сыма Цяня. Но историк намеренно и подчеркнуто берет только линию внешней жизни Лю Аня – он не одобряет политической активности хуайнаньских князей, их действий против императора.
Интересно, что «История Хань» Бань Гу (32–92гг.), значительно сокращая биографию Лю Аня, тем не менее делает довольно большую вставку о литературных занятиях хуайнаньского князя, о его меценатстве, о расположении к нему императора У-ди, об участии Лю Аня в литературных беседах, чтениях, диспутах и пирах при дворе императора, о поэтическом таланте князя[261]. Можно лишь предполагать, что ко времени Бань Гу имя хуайнаньского князя перестало быть запретным, и это дало возможность даже такому ортодоксальному историку, каким был Бань Гу, говорить о деятельности князя более свободно. Во всяком случае, фактом остается то, что от Сыма Цяня до нас дошли подробные сведения о политической деятельности хуайнаньских князей, но о Лю Ане как о философе, поэте, ученом, меценате мы узнаем впервые из «Истории Хань» Бань Гу.
До нас дошел еще один ранний вариант биографии Лю Аня, оформленный как житие праведника в «Житиях святых» Гэ Хуна (284–363гг.)[262]. Возник он, по-видимому, значительно раньше того времени, когда был записан Гэ Хуном, потому что его пересказывает уже автор Iв. н.э. Ван Чун, ссылаясь на некую легенду о восьми старцах[263]. В «Житии» Гэ Хуна эти восемь старцев (ба гун) перевоплощаются чудесным образом в одного, который становится духовным наставником Лю Аня. Под его руководством Лю Ань овладевает искусством перевоплощений и в конечном счете живым возносится на небо. Но интересно, что по другим источникам[264] «восемь старцев» толкуются как ближайшее окружение Лю Аня, люди, имена которых известны, авторы и соавторы довольно многочисленных произведений, приписываемых кисти хуайнаньских философов. У Сыма Цяня двое из них упоминаются как активные участники заговора[265].
Таким образом, легенда по-своему истолковала роль ближайших советников князя, сделав их наставниками в его духовном и нравственном воспитании. Под названием ба гун известна река, а также горы в области Хуайнань, где был храм хуайнаньского князя. Эти совпадения не случайны. Они свидетельствуют о популярности истории хуайнаньского князя. В житии Лю Ань – праведник, вся жизнь которого – подвиг и подвижничество. Он невинно страдает и чудесным образом спасается, вознесясь на небо. Житие опровергает свидетельство «Истории Хань» Бань Гу (повторяющее рассказ Сыма Цяня) об участии Лю Аня в заговоре:
«В „Истории Хань“… не говорится о том, что Ань достиг бессмертия. Боясь, что последующие поколения будут чтить его, забросят государственные дела, будут доискиваться пути Аня, [„История Хань“] говорит, что Ань совершил преступление и покончил с собой». Житие стремится обелить Лю Аня. В его основе лежит фольклорное предание, что подтверждает факт популярности имени князя в народе. Сочувствие вызывала сама судьба Лю Аня: его принадлежность к императорской фамилии, постоянные репрессии и обиды, которым подвергались отец и сыновья, их щедрость и помощь тем, кто бежал от гнева императора. Были и другие причины популярности Лю Аня. Так, сохранились сведения об увлечениях князя алхимией, астрологией и магией, о его поисках китайского «философского камня» – эликсира бессмертия. Нам представляется верным замечание Ху Ши о том, что поиски бессмертия, о которых свидетельствуют источники, недаром соединились в легенде «О восьми старцах» с характеристикой князя как праведника, который невинно пострадал от злых козней[266]. Мы знаем из истории, что проповедь бессмертия была характерна для тайных сект, выступавших не однажды идейными вдохновителями и идеологами народных восстаний, и, следовательно, имела отклик в этой среде.
У Сыма Цяня заговор описан так, что ясно ощущается его масштаб – это не сговор кучки придворных, а широко развернутое и продуманное выступление. К нему были привлечены тысячи людей. Сыма Цянь говорит, что основанием заговора, помимо честолюбивых стремлений князя, послужили его опасения, что отсутствие наследника у У-ди породит смуту среди владетельных князей и приведет к гибели единую империю. Предвестием смуты было и появление в 133г. до н.э. кометы: «Когда [царство] У подняло свои войска, появилась комета длиной всего в несколько чи, а кровь пролилась на тысячи ли. Ныне же комета пересекла все небо. Быть в Поднебесной великому восстанию»[267]. Нужно принять во внимание распространение в ханьском Китае астрологических занятий, особую склонность к ним хуайнаньского князя и его «гостей», чтобы должным образом оценить впечатление, которое произвело это небесное явление. Кроме того, происхождение Лю Аня давало ему основания для претензий на престол, если бы речь зашла о борьбе за него. Все вместе взятое показывает, что выступление Лю Аня против царствующего императора имело уже несколько иной смысл, чем мятеж его отца Лю Чана. Немалую роль играла, по-видимому, и слава хуайнаньского князя как человека, который «стремился, не кичась добродетелью, служить простому народу» (Там же). Выражение «не кичась добродетелью» тоже знаменательно. У Сыма Цяня оно выражает определенную позицию автора в отношении господствующих сил, громко восславляющих недостойных и отправляющих в изгнание достойных. В этих условиях слава «добродетельного» мало чего стоила в глазах достойных людей, и они стремились от нее уйти.
О литературных и научных (по тем временам) занятиях Лю Аня и его кружка сохранились достаточно красноречивые свидетельства в библиографическом разделе «Истории Хань» Бань Гу: «Хуайнань. О дао. 2 тетради»[268]; «Хуайнань. Внутренняя [книга], 21 тетрадь; Хуайнань. Внешняя [книга], 33 тетради»[269]; «Хуайнаньский князь. Оды. 82 тетради; Хуайнаньский князь и его придворные. 44 тетради»[270]; «Хуайнаньские песни. 4 тетради»[271]; «Хуайнаньские ученые. О звездах. 19 свитков»[272]. Первое, что обращает на себя внимание в этом перечне,– это количество произведений. Во-вторых,– их разнообразие: здесь и философские сочинения, и поэтические, и научные – об этом мы можем судить по названиям и по тем разделам, в которые Бань Гу помещает их (соответственно: «Гадания», «Прочие философы», «Оды», «Песни», «Астрономия»). Это и неудивительно. Ведь Лю Ань был не только политиком, но и меценатом. Бань Гу о нем писал: «Хуайнаньский князь Ань был образован, играл на цине… Созвал гостей, мужей, сведущих в искусстве превращений, несколько тысяч человек. Составили внутреннюю книгу в двадцать одну тетрадь, внешнюю – еще более пространную, а также среднюю из восьми свитков, [в ней] говорилось о святых, об искусстве алхимии»[273]. В собрании «Чуские оды» сохранилось произведение «Призывание отшельника», приписываемое некоему «Хуайнань сяошань». Современный исследователь «Чуских од» Ма Маоюань пишет, что до сих пор не установлено, действительно ли «Хуайнань сяошань» – имя автора оды или это обобщенный псевдоним авторов из кружка Лю Аня. Буквально этот псевдоним переводится «Хуайнаньские малые горы». Комментатор IIв. н.э. Ван И по поводу оды и ее автора писал, что, возможно, она написана поэтами из кружка Лю Аня, среди произведений которых были принадлежавшие к циклу «Большие горы» и «Малые горы» (по аналогии с разделами «Книги песен» – «Большие оды» и «Малые оды»)[274]. Комментатор «Хуайнаньцзы» Гао Ю (II–IIIвв. н.э.) также упоминает названия «Малые горы» и «Большие горы» в связи с кружком Лю Аня[275]. По форме ода близка к известному произведению Сун Юя (Цюй Юаня?) «Призывание души». Как известно, это обрядовый плач, молитва, обращенная к душе умершего, пафос которой – то увещанием, то угрозами, то соблазнами вернуть душу обратно на землю. В оде «Призывание отшельника» яркими красками передана зловещая атмосфера пустынных горных ущелий, где слышны только рев барсов да стоны обезьян, и где человека на каждом шагу подстерегает смерть. Кончается она призывом: «Вернись, царский внук! В горах нельзя оставаться долго!».
Некоторые комментаторы считают, что ода является обращением к Лю Аню друзей в момент его увлечения борьбой за трон[276]. Как бы там ни было, ода – единственное, что дошло до нас от поэтических произведений Лю Аня и его кружка.
Таким образом, исходя из дошедших до нас сведений, мы можем определенно сказать, что круг интересов кружка Лю Аня и его самого был чрезвычайно широк.
Но, конечно, самое главное, чем прославлен в истории хуайнаньский князь Лю Ань,– это философское сочинение, дошедшее до нас под названием «Хуай-наньцзы». По свидетельству комментатора Гао Ю, памятник в его время имел и другое название – «Хунле». «„Хун“,– пишет Гао Ю,– означает „великий“, „ле“ – „мудрость“, т.е. в нем говорится о великой мудрости дао»[277]. Лю Сян (77 г. до н. э. – б г. н. э.), известный ханьский филолог, работал над текстом этого памятника и назвал его, в свою очередь, «Хуайнань» [Там же]. Известно также название, как бы соединяющее два предыдущих: «Хуайнаньцзы хунле» (начиная с XI в.). В дальнейшем все три названия, а именно «Хуайнань», «Хуайнаньцзы», «Хуайнаньцзы хунле», употребляются равноправно.
История текста достаточно хорошо изучена, и в настоящее время представляется бесспорным, что это есть та самая «внутренняя книга» из двадцати одной главы, о которой упоминает Бань Гу в библиографическом разделе «Истории Хань»[278].
«Хуайнаньцзы» имеет два основных комментария. Один принадлежит известному ханьскому филологу и комментатору, автору знаменитого словаря «Шо вэнь» – Сюй Шэню (I–II вв.), второй – уже упоминавшемуся и не менее известному комментатору Гао Ю (II–III вв.). Со временем эти два комментария смешались, и ученые потратили немало усилий на то, чтобы определить, какая часть комментария принадлежит Сюй Шэню, какая – Гао Ю. В настоящее время считается установленным, что тринадцать глав дошли до нас с комментарием Гао Ю, а восемь – с комментарием Сюй Шэня. Издания текста, на которых основываются новейшие исследования (тексты в современном собрании «Сыбу цун-кань», воспроизводящем печатный текст XI в., в собрании «Сыбу бэй яо», основанном на издании XVIII в. Чжуан Куйцзи, а также новые критические издания Лю Вэньдяня и Лю Цзяли), идут с комментариями Сюй Шэня и Гао Ю. В «Собрании сочинений философов» текст дается с теми же комментариями и дополнениями к нему Чжуан Куйцзи.
«Хуайнаньцзы» поразительно мало изучен как в самом Китае, так и за рубежом. Небольшая работа Ху Ши «Книга хуайнаньского князя» (1931 г.), представляющая собой монографическое исследование, является единственным целостным исследованием памятника в Китае. Книга Ху Ши состоит из шести глав.
Первая глава посвящена биографии Лю Аня и истории текста. Ху Ши не просто цитирует соответствующие места «Исторических записок» Сыма Цяня, «Истории Хань» Бань Гу, «Критических рассуждений» Ван Чуна, «Житий бессмертных» Гэ Хуна, но пытается проникнуть в политическую атмосферу того времени, понять логику поведения Лю Аня, его роль не только в политической, но и в культурной жизни.
Вторая глава работы Ху Ши посвящена дао. Он признает положительное значение космологии даосов, выводящей первоначало из стихийного саморазвития вещей[279]. Он говорит, что это означало отрицание ими какого бы то ни было бога, создателя, наделенного волей и сознанием. Ху Ши не понимает, каким образом такая космологическая система могла уживаться с идеей дао, как некоей предметностью, обладающей свойствами[280]. По его мнению, существует альтернатива: либо саморазвитие, либо дао как «матерь Поднебесной». Не находя разрешения этому противоречию у даосов, Ху Ши делает вывод, что даосы, правильно поняв естественность природных законов, не смогли все же оторваться от суеверий своего времени и превратили умственную схему (т. е. дао) в нечто, стоящее над всеми законами, в результате чего «в глазах обычных людей [она] отождествилась с Высшим небом, с Верховным богом»[281]. Хотя с таким выводом трудно согласиться, но заслуживает внимания сама постановка вопроса: в каком соотношении находится идея саморазвития вещей и идея дао?
Третья глава книги Ху Ши посвящена теории «недеяния». «Недеяние – это перенесение принципа стихийного саморазвития вещей в космосе на человеческую жизнь и политику»[282] – так формулирует Ху Ши основной принцип недеяния. Недеянием, как правильно отмечает Ху Ши, здесь признается деятельность, согласующаяся с законами природы. Отсюда достижения цивилизации являются достижениями постольку, поскольку они не вносят в природу дисгармонии и не приводят к разрушениям. В этой же связи рассматривается вопрос о пользе учения. Мудрость открыта избранным, обычные же люди, обладающие средними способностями, нуждаются в приобретении знаний и мастерства с помощью учения. Ху Ши замечает, что «Хуайнаньцзы» в этих пунктах демонстрирует «взгляд живого деятельного человека на жизнь человеческого общества»[283]. Однако это замечание сделано им в связи с общей отрицательной оценкой роли даосизма в развитии наук. Ху Ши говорит, что преклонение перед природой, слишком большая вера в дао, сокрытое в природе, усиленные разговоры о недеянии, о том, что нельзя вредить природе, тормозили развитие наук. Это не мешает Ху Ши тут же перечислить научные достижения даосизма: им известно было такое явление, как инстинкт самосохранения, приспособляемость организма к окружающей среде[284]. «Подобные фрагменты,– говорит Ху Ши,– содержат историю прогресса человечества, иногда близкую к современной интерпретации»[285]. Таким образом, по Ху Ши, даосизм препятствовал развитию естественных наук и он же вырабатывал в русле своей философии научные критерии.
Четвертая глава книги посвящена политическим взглядам авторов «Хуай-наньцзы». Ху Ши формулирует три, с его точки зрения, важнейших пункта политической теории философов из Хуайнани: мудрое правление, основанное на законе; опора на силы и способности большинства; призыв изменять законы, не цепляясь за древность.
Первый пункт, как раскрывает Ху Ши, означает правление, руководствующееся принципом объективности и ничем больше, не привносящее сюда никаких личных моментов. Понятно, что в даосской интерпретации такое правление ассоциируется с принципом недеяния, потому что следование объективному порядку вещей и есть недеяние.
Второй пункт вытекает из понимания того, что знания правителя, как бы мудр он ни был, имеют предел, и потому нужно опираться «на уши и глаза всей Поднебесной, чтобы видеть и слышать, на руки и ноги всей Поднебесной, чтобы двигаться и действовать»[286]. Ху Ши отмечает бесспорный демократизм такого утверждения, поскольку он означал «провозглашение равных возможностей для проявления способностей»[287]. О демократизме говорит и признание «равенства между правящими и управляемыми»[288], выраженное в принципе «взаимной благодарности», принципе, который Ху Ши совершенно правомерно противопоставляет принципу подчинения низших высшим, объявленному Мэнцзы. Закон обязателен для исполнения в равной мере как для высших, так и для низших.
Третий пункт политической программы «Хуайнаньцзы» провозглашает необходимость изменения законов в соответствии с временем и новыми условиями. И здесь Ху Ши говорит о влиянии на «Хуайнаньцзы» теории Хань Фэйцзы и Ли Сы. Изменяющаяся во времени объективная реальность требует того, чтобы общество находило способы восстанавливать нарушающееся соответствие между требованиями действительности и своими установлениями. Ху Ши сетует на то, что и здесь даосы слишком акцентировали значение «природных изменений», но он забывает или не принимает во внимание, что для даосов «природа» включала в себя и общество. Именно поэтому требование соответствия «природным изменениям» приводило к столь радикальным политическим выводам.
В целом политические взгляды «Хуайнаньцзы» импонируют Ху Ши именно своей активностью, несмотря на объявленную позицию недеяния.
«Теория ухода от мира» – так называется пятая глава книги Ху Ши. Истоки этого учения Ху Ши видит в практике «полуученых-полумагов», ставивших фармакологические и алхимические опыты, которые привели к определенным достижениям в области медицины, химии, обработки металлов, физики. Однако он склонен считать, что даосы своей философией внутреннего самосовершенствования обратили вспять попытки этих полуученых-полумагов оторваться от суеверий и встать на путь науки. Здесь, как нам представляется, Ху Ши ошибается. Сколь бы ни были значительны и положительны в разрезе истории результаты физических опытов алхимиков и фармакологов, их открытия носили случайный характер. В то же время «ушедшие от мира» даосы, стремясь постичь мир в целом, создали его абстрактную модель. В основе ее лежало представление о единстве мира и единстве происходящих в нем разнообразных явлений. Случайные открытия алхимиков, фармакологов и прочих укладывались в ее стройную систему, образуя сложную, но строгую картину мира.
Далее Ху Ши останавливается на теории познания даосов.
Познавательная способность в своей высшей форме, считали они, связана с духом, или разумом (цзин шэнь). Ху Ши делает попытку определить, что такое дух в понимании авторов «Хуайнаньцзы». Он приходит к выводу, что это мельчайшие частицы воздуха, или эфира, из которого состоит и тело, но обладающие функцией управления телом и потому почитаемые наравне с духами. Ему представляется, что вся теория познания сводится к призыву беречь свой воздух, или эфир, от внешнего влияния, сохранять его чистоту, которая легко замутняется страстями и влиянием внешнего мира. Поскольку же Ху Ши-практика никак не может удовлетворить учение, которое оберегается от внешнего влияния (а именно таким оно представляется Ху Ши), то он и заканчивает главу осуждением пораженческой позиции «Хуайнаньцзы».
Последняя глава книги рассматривает влияние на «Хуайнаньцзы» религиозных представлений того времени. Переплетение вполне научных наблюдений и выводов с мифологией и верованиями в «Хуайнаньцзы» выводит Ху Ши из терпения, и он в конце концов, вопреки собственной высокой оценке даосизма во второй главе[289], называет даосизм «мусорной телегой», на которую навалены и разнообразные философские учения древности, и вся масса религиозных заблуждений[290]. Ху Ши не сумел увидеть в сложном синтезе ханьского даосизма главного – «мусор» был лучшим достижением древней научной мысли и для авторов «Хуайнаньцзы» послужил теоретическим руководством в решении практических проблем, как научных, так и политических, которые выдвигала перед ними их эпоха.