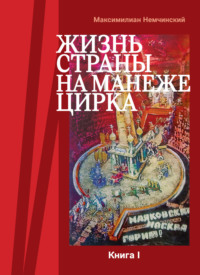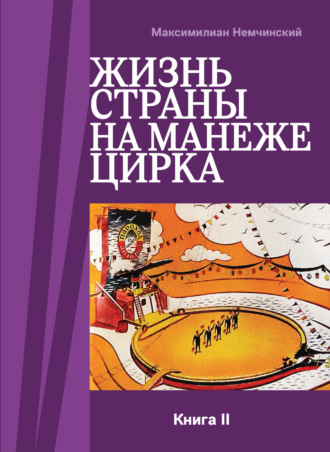
Полная версия
Жизнь страны на арене цирка. Книга II: История создания. 1954-1987
Идет номер меткой стрельбы. С обеих сторон. Затем мы видим горную пропасть. Через нее перекинута веревка. На большой высоте идет нарушитель. За ним идут пограничники.
Затем идет сцена переодевания. Множество неожиданных коллизий. Нарушитель пойман.
И снова мы видим заставу. Начальник заставы говорит нескольким пограничникам о том, что нарушитель оказался крупным диверсантом и что его сообщники должны с часу на час взорвать плотину, которую построили в пограничном районе несколько колхозов. Пуск плотины назначен на сегодня. Надо спешить.
Поле. Идет человек. Навстречу ему другой. Это диверсант. Вопросы и ответы. Сценка с ротозеем. Он показывает дорогу на плотину. Затем мы видим наполнение бассейна водой. Пока это происходит – у плотины собирается народ. Среди них ходит диверсант. Подскакали пограничники. По точным приметам они направляются прямо к диверсанту. Не видя выхода, тот бросается в воду. Погоня и схватка в воде. Диверсант пойман. На фоне пуска плотины – торжественный, яркий апофеоз. Разноцветной феерией – подсвеченная прожекторами – клокочет и переливается вода»[21].
Это было далеко не первое либретто пантомимы, самотеком поступившее в Главк. Лет за пять до «Границы» С. Острового, сотрудники репертуарного отдела зарегистрировали, казалось, безупречное предложение.
«Тема предлагаемой мной пантомимы “Радостный поток” почерпнута из нашей сегодняшней действительности, отражает великий и радостный труд в годы сталинских пятилеток, – говорилось в этой заявке. – Покорение советским человеком бесплодных пустынь, всенародная стройка в одной из Среднеазиатских республик грандиозного оросительного канала – такова эта тема.
Что касается жанра пантомимы, то он представляется нам условно-реалистическим. Пантомима “Радостный поток” вбирает в себя многие элементы водяной феерии. Пантомима эта не должна быть “немой”. Помимо декламационного пролога в ней будет несколько клоунских сценок и интермедий, коротких диалогов, в которых должны принять участие и артисты не разговорных жанров. Эти сценки и диалоги помогут соединить воедино отдельные номера представления и развертывать их вокруг сюжетного стержня пантомимы»[22].
Однако никакого движения этой заявке, в отличие от присланной Островым, дано не было. Очевидно, предложение сочли лишенным конкретности. Постоянно отвергались и многочисленные, разрабатывающие самые, казалось, востребованные темы сценарии, поступающие из Ленинграда (другие цирки, включая Московский, этой проблемой не озабочивались). Работы, прошедшие все мыслимые контрольные инстанции, в последний момент тормозились. И вдруг неожиданное предложение из Москвы. Можно предположить, что Венецианов, уставший ото всех отказов и проволочек, готов был взяться за осуществление перенаправленной ему заявки, надеясь, что хоть ее-то дадут довести до конца. Но что же могло привлечь в предложении поэта работников Главка?
Ответ кроется, скорее всего, в четком изложении идеологической позиции автора, в конкретно прописанном противоборстве советских тружеников, строящих свое будущее, и капиталистических наймитов, пытающихся им помешать.
В эти годы отечественные киностудии начали выпускать приключенческие фильмы. Не затих еще шумный успех «Смелых людей», как его режиссер К.К. Юдин закончил съемки еще одного фильма, «Застава в горах». Востребованность и популярность кинокартины подтверждало уже то, что за две недели после начала проката пять ведущих газет страны откликнулись на его появление. Разумеется, новая лента упрекалась за недостаточную глубину раскрытия человеческих судеб и характеров персонажей. Но Борис Полевой, автор прославленной «Повести о настоящем человеке», наиболее эмоционально оценивший достоинства ленты, невольно назвал причину того, что увлекало и постановочную бригаду, и зрителей. «Тут и жаркие схватки с басмачами, и головокружительные погони по узким горным тропам, висящим над обрывами, и прыжки всадников через пропасть, – перечислял Полевой фактически будничные события нелегкой службы пограничников в своей статье, напечатанной “Правдой”. – Тут и тигры, рычащие в зарослях, и великолепная работа служебных собак, и голубиная почта на службе у пограничной стражи. Тут и кавалерийское мастерство всадников, и отлично выдрессированные кони». Из частного факта он, отметая, разумеется, мораль и форму «ковбойских боевиков Голливуда», делал принципиальный вывод: «Советский приключенческий фильм, как все наше искусство, строится на иной, благородной основе, пропагандирующей мир, дружбу между народами, радость созидания, священные идеи патриотизма, высокие моральные качества советских людей, их смелость, твердость характера, их коллективизм, товарищескую взаимопомощь и т. д. И какое богатейшее поле раскрывается перед творческими работниками кино, работающими в этом жанре, наша героическая действительность! Какой богатый материал дает им наша жизнь, каждый день которой до краев полон пафоса труда и созидания!»[23].
И в «Заставе в горах», и в «Границе» были одни и те же герои – пограничники. Заменить «кино» на «цирк», а «фильм» на «пантомиму» совсем нетрудно. А выгода от такой работы очевидна. Поэтому, наверное, руководство Главка, да и Венецианов радостно решились на осуществление патриотического материала, утверждающего дружбу народов нашей страны, позволяющего вернуть на манеж не просто пантомиму, но пантомиму приключенческую. Лихой жанр, которого так не хватало в искусстве манежа тех лет.
Когда Венецианов встретился с Островым, они договорились писать сценарий вместе. Тем более, что Георгий Семенович как драматург обладал в этом куда большим опытом, чем поэт. Ведь за его плечами, не считая большого количества скетчей, конферансов и фельетонов, были антиколониальная пьеса «Джума Машид», еще в 20-е годы широко прошедшая по театрам страны, а потом ставшая основой цирковой пантомимы, и сценарий продолжающей демонстрироваться на экранах кинотеатров, оборонной, приключенческой ленты «Четвертый перископ». И, главное, за ним было знание цирка и его возможностей.
Заявленный Островым сюжет – нарушившего государственную границу диверсанта обезвреживает погранслужба, – должен был обрести конкретных героев и драматургию их борьбы. Сговорились, что следует поменять объект диверсии. Именно в эти годы перед советским народом была поставлена задача широкого использования малых рек путем строительства на них гидроэлектростанций. Борьба за спасение колхозной станции от покушения врага и стала стержнем действия. Поэтому решено было, что диверсант, обозленный неудачной попыткой уничтожить гидростанцию, взорвет мост. Но и это не должно было помешать пограничнику, идущему по его следам, задержать и обезвредить врага. Ведь совершал он это, опираясь на помощь окрестного населения. Ввели новый эпизод – колхозный базар. Лучшего места, позволяющего выявить и местный колорит, и свести вместе всех требующихся по сюжету персонажей, не существовало. Главный герой получил завуалированно символическую фамилию – Миронов. Ведь он действительно стремился принести мир труженикам, спокойствие которых вместе с однополчанами защищал.
Приключенческий сюжет редко когда обходится без любовной интриги. Поэтому придумана была местная девушка, в которую герой-пограничник был влюблен. Она, работая шофером, постоянно гоняет свой грузовичок с молочными бидонами из городка в колхозы, близ которых строилась гидростанция. Для активизации интриги диверсант пытается именно эту девушку принудить, шантажируя ее, перевезти взрывчатку на плотину.
Запуганная врагом, она соглашается. Но делает это, как потом выясняется, чтобы помочь любимому обезвредить врага.
Местом действия – чтобы добиться в изложении сюжета большего темперамента и колорита – избирается граница между Турцией и Арменией. Экспансивность ее жителей позволяет, не теряя стремительного темпа, ввести локальные комические сценки, никак не влияющие на сюжет, но оттеняющие его.
Пуск гидростанции (и предотвращение ее взрыва) приурочивается к 1 мая[24]. Благодаря этому двойное празднование, объединяющее и колхозников, и городских жителей, и пограничников, позволяло завершать строительство гуляньем, а приключенческую пантомиму, как и полагается, традиционным апофеозом.
Так выстроился сюжетный остов либретто пантомимы, получившей название «Случай на границе».
Трудясь над ним, авторы постоянно помнили, что они разрабатывают сюжет цирковой пантомимы. Они понимали, что зрители изначально будут убеждены в предотвращении диверсии. Поэтому стремились сочинить как можно больше препятствий, которые предстояло преодолеть для этого. Каждой действенной коллизии следовало найти трюковой эквивалент, любому его повороту придать обязательное цирковое решение, и всякое событие обставить с наиболее возможной зрелищностью. Ударный аттракцион водяной пантомимы искать не приходилось. Водопад, вырывающийся из-под самого купола цирка, предполагался изначально. Но потоку, заполняющему чашу манежа, нашли логическое оправдание, как метафоре, движущей сюжет пантомимы. Чтобы помешать главарю диверсантов уничтожить гидростанцию, пограничник открывает шлюзы. Вырвавшийся поток воды смывает врага. Второй крупный технический аттракцион – взрыв моста – также задумывался как этап их конфликта. Опытный противник не желал сдаваться. Это предоставляло возможность еще одной схватки, уже в воде. Пограничная зона как место действия и пограничники как основные его участники требовали широкого использования дрессуры. Условия службы на заставе предполагали участие конных погранотрядов и служебных (значит, отлично вышколенных) собак. Сражения с бандой нарушителей позволяли использовать наряду с различными видами конноакробатической работы и трюковую борьбу в партере. А так как местом действия была избрана южная республика, своеобразным аттракционом могло стать даже простое участие в действии обыкновенного стада, непривычных для Центральной России животных (специальная экспедиция привезла к премьере буйволов и козлов-джейранов). Современность происходящего (а заодно показ оснащенности далекой периферии транспортом) подчеркивалась включением в действие самых разных видов автомобилей, от легкового до самосвала. Все, разумеется, отечественного производства.
И Венецианов, и, как можно судить по сохранившимся вариантам сценария, Островой ценили в цирке традиционное соединение героики и комизма. Но сюжет изначально строился на борьбе с диверсантами, в которой пограничникам активно помогало местное население. Поэтому, чтобы позволить зрителям сбросить напряжение и посмеяться, комическое пришлось искать не в самом сюжете. Главная героиня получила пару пожилых родственников. Они, при полной своей самодостаточности, могли, как коверные в цирковой программе, проходить через все эпизоды, каждый раз по-новому принимая в них участие.
Уже на стадии написания сценария соавторы нашли решение такой важной проблемы реализации пантомимы, как преодоление технических пауз, необходимых для смены декораций. Решили воспользоваться приемом, открытым еще при постановке «Гуляй-Поля». Время, необходимое для перестановок на манеже, позволяло расширить рамки повествования, демонстрируя подходящие к сюжету кинокадры.
При московской постановке Вильямса Труцци они показывались на белом полотнище, затягивающем сцену. В Ленинградском, более теперь технически оснащенном цирке предполагались два экрана, установленные один против другого, сбоку от сцены и от лож центрального прохода. Кроме того, Венецианов предложил, отказавшись от привлечения обычной в таких случаях черно-белой кинодокументалистики, отснять на цветной пленке игровые фрагменты, предваряющие (или развивающие) сцены, разыгрывающиеся на манеже артистами, занятыми в пантомиме[25]. Такой прием позволял значительно расширить масштабы зрелища.
Кинофрагменты тщательно продумывались. Ведь им следовало развивать действие и держать его напряженный темпо-ритм. Вот, что должно было отвлечь от самой большой технической паузы, необходимой для превращения манежа в бассейн:
«И снова вспыхивают два экрана. С бешеной скоростью мчится по дороге мотоцикл. На сидении – диверсант. На багажнике – Арам (брат героини, помогающий в поимке врага. – М.Н.). Мотоцикл на огромной скорости преодолевает подъемы, склоны, делает немыслимые виражи на поворотах. Но за ним уже мчится другой мотоцикл. Его ведет Миронов. С еще большей скоростью, чем первый мотоцикл, мчится по шоссе мотоцикл Миронова. Расстояние сокращается. И когда диверсант видит, что ему уже от погони не уйти – он притормаживает мотоцикл и сбрасывает под откос Арама, а сам мчится дальше. Круто, с ходу, затормозил свою машину Миронов. Мгновенное раздумье: продолжать преследование или подобрать мальчика? Быстрее пули скатывается Миронов под откос, где на куче песка стоит, растирая ушибленное место, Арам. Внизу, под откосом, идет дорога, параллельная верхней. С необыкновенной скоростью мчится по ней автомобиль. Это идет подмога Миронову. Почти на ходу прыгают в нее Арам и Миронов. Машина летит дальше, все круче и круче наращивая скорость. И когда на переезде нижняя дорога уже сливается с верхней, и диверсант вот-вот должен быть пойман – опускается шлагбаум. Должен пройти поезд. Диверсант на мотоцикле успевает проскочить под шлагбаумом. Автомобиль Миронова под перекладиной пройти не может. Слышен нарастающий гул поезда. Мчится курьерский. Мелькают световые пятна. Когда поднимается шлагбаум, мотоцикл уже далеко впереди. И вновь идет бешеная погоня. Прямо по дороге – мост. Под мостом – водонасосная станция. Слева от дороги – большая котловина, предназначенная к затоплению. Скоро ее затопят, но на дне котловины пока еще стоит легкий деревянный барак, в котором живут рабочие, заканчивающие последние работы. Диверсант спрыгивает с мотоцикла. Свет на экранах гаснет. Действие переносится на манеж, который изображает котловину, только что показанную на экране»[26].
Не менее масштабные игровые вставки на экранах были задуманы и для других технических пауз. Но от этого замысла пришлось отказаться. При очередном обсуждении сценария Главк категорически рекомендовал изъять кино. Из-за этого для оправдания эпизода на мосту пришлось ввести бытовые сцены, никак с развитием сюжета непосредственно не связанные. Кроме того, для обострения действия появилась еще целая группа диверсантов, помогающих своему главарю. Решено было всячески усилить и сложности поимки врагов. Задействованы были и внешние эффекты. Сцена погони должна была проходить в грозу, под проливной дождь и сверкание молний.
Приключенческая форма пантомимы требовала предельной быстроты и напряжения в разворачивании действия. Изыскивались все возможности к обострению предлагаемых обстоятельств. Заодно пантомима получила более зазывное название – «Выстрел в пещере».
При всей определенности схватки противоборствующих сил пантомимы и трюков, через которые она разрешалась, для задуманного зрелища следовало найти убедительную образную сферу. В этом требовалась помощь художника. Венецианов обратился к И.А. Короткову[27]. Праздничность и размах, которые Иван Андреевич постоянно вносил в свои цирковые работы, его знание возможностей манежа и творческий контакт с постановочными цехами позволяли надеяться, что он и на этот раз сумеет осуществить замысел режиссера.
Как всегда при создании оформления пантомимы, необходимо было решить проблему непрерывности показа меняющихся мест действия. А их сценарий предусматривал немало. Были среди них такие масштабные, как «Базар», предполагающий прилавки с самым разнообразным товаром, была разделяющая два государства «Пограничная полоса», «Степная дорога», пригодная для проезда автомашин, и, разумеется, котлован гидроэлектростанции в манеже, соединенный с ее шлюзом на сцене. Были эпизоды и более камерные, происходящие в помещениях или ограниченном пространстве. Но, главное, при всей достоверности оформления оно должно было соответствовать правилам цирка, предоставляющим полную свободу зрительскому воображению. И, конечно же, перестановки декораций не должны были замедлять темп спектакля. Тем более, что задумывалась стремительная приключенческая пантомима. Следовало учитывать и пожелание режиссера помочь преобразовать в место действия весь объем цирка, даже постараться внедрить героев в гущу зрительного зала.
Ко всему этому художник получил еще одно задание. Венецианов, как всегда, поставил конкретную, но достаточно сложную задачу. Центром постановки являлась, разумеется, пантомима. Но ей предшествовало еще одно, традиционное, чисто номерное отделение. Георгий Семенович, настаивая на его самостоятельности, самым решительным образом возражал против участия исполнителей этих номеров в пантомиме. Тем не менее он хотел, чтобы Коротков нашел единую сферу для показа как номерного отделения, так и для пантомимы. Требование было продиктовано заботой об утверждении многожанровости цирка. Венецианов стремился наглядно внушить зрителям, что пантомима не вставной спектакль, а часть циркового представления.
Стремясь воплотить все пожелания режиссера, Коротков пришел к совершенно неожиданному решению. Он предложил отказаться вообще от строенной декорации на манеже, а все основные разговорные эпизоды сосредоточить на сцене. Там же следовало организовать решающую схватку между героем пантомимы и главным диверсантом. Все оформление манежа было сведено к богато декорированной, прямо-таки триумфальной арке, стоящей на опорах по бокам прохода на манеж и поднимающейся к самому куполу. Она обрамляла форганг, из которого появлялись как артисты первого отделения, так и персонажи пантомимы, и сцену с увеличенной для исполнения игровых эпизодов рампадой, а затем, в финале, превращалась в праздничное оформление спасенного от взрыва здания давшей ток гидростанции.
Как возможный вариант, это предложение Венецианову понравилось. Смутили его только малые размеры ленинградской сцены и невозможность для зрителей, сидящих по бокам ее, видеть происходящее. На это у Короткова был заготовлен ответ. Он предложил продолжить рампаду сцены до линии манежа. По желанию режиссера, ее можно было сделать и наездной, увеличивающейся или уменьшающейся согласно задуманной планировке картин. Для этого выдвижной планшет необходимо было снабдить двумя подвижными опорами, ходящими по рельсам, уложенным в форганге. Венецианов эту придумку одобрил еще и потому, что она решала проблему водостока. Продвинутая вплоть до манежа новая площадка, так же как планшет основной сцены, могла менять угол наклона, что позволяло добиться более эффектного силуэта потока и, что было не менее важно, легко устанавливаемого водосброса.
Вот на этой, при необходимости увеличивающейся двухуровневой сцене Коротков и предложил монтировать декорации разговорно-игровых сцен – «Пограничной заставы», «Приусадебного сада», «Отделения милиции», «Пещеры», «Здания гидростанции» и финального праздника. Перестановки можно было быстро и незаметно проводить за закрытым занавесом центральной арки портала во время сцен, происходящих на манеже. Поэтому оформление всех эпизодов сводилось к использованию одного набора фрагментов: живописного (иногда работающего на просвет) задника, перекрывающего его низ бережка, декорированного соответствующей росписью, и минимальной, необходимой по ходу действия мебели.
Трансформировался, хотя и своеобразно, манеж. Для спектакля была изготовлена богато орнаментированная барьерная дорожка. Она спускалась с внутренней стороны до манежа, совпадая по рисунку и цветам с укрывающим его большим круглым ковром. Первое отделение было составлено исключительно из партерных номеров[28], поэтому ковер до антракта лежал на манеже, оставаясь праздничным единым фоном для всех выступающих на нем артистов. Основной алый цвет ковра и дорожки повторяли украшенные восточным орнаментом занавесы, перекрывающие форганг и все арки портала над рампадой.
В антракте перед показом пантомимы ковер убирался. Ориентальное покрытие барьера оставалось, только уносились его ворота у главного прохода (у форганга их не было с начала представления). Пантомима шла на традиционном тогда опилочном покрытии. Этого требовали сменяющие друг друга конные сцены, проезды повозок и автомобилей. А оформление одного из эпизодов, происходящего на государственной границе, даже использовало эти опилки. По диаметру манежа из форганга в главный проход шла широкая вспаханная (прочерченная граблями униформистов) полоса, по сторонам которой устанавливались пограничные столбы с государственными знаками СССР и некоей (нарочито неопределенной) сопредельной страны.
Что касается дальнейшей трансформации манежа каждый раз в другое место действия, то она всякий раз происходила как часть трудового процесса принимающих в нем участие персонажей. В базар, например, пустой манеж преображался благодаря тому, что продавцы располагались на нем вместе с товаром. Явившиеся пешком, расстилали ковры. Шашлычник выносил мангалы, винодел – бочонки на козлах. Приезжали продавцы и на ишаках, обвешанных корзинами с товаром. А дыни, арбузы и капусту вывозили буйволы или лошади, запряженные в арбы. Все оставшееся пространство заполняли одетые в яркие национальные костюмы покупатели, кто пешком, кто верхом, а кто и на автомобиле. Для свободного перемещения по базару устанавливались площадки и лестницы, идущие от барьера в боковые проходы.
Кольцевые мостики, расположенные у основания купола, первоначально предполагалось использовать только для погони. Венецианов предполагал, что декорации штабов пограничников и шпионов расположатся, как это было при постановке «Шамиля», на помостах, перекрывающих верхние боковые проходы в амфитеатр. Но Коротков предложил поднять их до уровня мостика. Выносные помосты, поддерживаемые консолями, располагались перед мостиками, что позволяло снабдить каждую из них минимальной обстановкой и декоративным фоном позади. Режиссер согласился с вариантом художника. Разнесенные диаметром амфитеатра друг против друга, они помогли и в мизансценировании пролога. Для упрощения монтировки в окончательном варианте решено было сделать четыре помоста. Два (один, снабженный аппаратом для «снега», другой – для «дождя») предназначались для пролога, показывающего, в каких условиях несут службу пограничники. Остальные, на которых проходили игровые эпизоды штабов погранзаставы и шпионов, были кроме декоративного фона снабжены и тюлевым (при соответствующем освещении становящимся прозрачным) экраном спереди. Вдоль поручней обеих половинок мостиков натягивалось на все представление декоративное полотно. Оно, так же как барьерная дорожка, было расписано под восточный орнамент.
Несколько ниже мостиков, пересекая все пространство цирка по диаметру боковых проходов, ведущих на амфитеатр, располагался подвесной «воздушный» мост (хорошо знакомый тогдашним зрителям по приключенческим трофейным кинолентам). Он, снабженный приспособлениями для всевозможных провалов, предназначался для решающей схватки Миронова с одним из диверсантов. Предполагалось, что тело подстреленного врага упадет в бассейн и исчезнет в его водах.
Выше моста, почти под самым куполом, размещалось девятиметровое в диаметре кольцо-труба, засверленное в два ряда мелкими отверстиями, предназначавшееся для ливня и финальной грозы. Для этого же под куполом на разных уровнях развешивались стеклянные зигзаги молний.
Само собой, большие надежды в преображении всех мест действия возлагались на умелое использование световой аппаратуры, определяющее атмосферу и характер каждого эпизода. Электроцех продолжал возглавлять К.Д. Соловьев, принимавший участие в осуществлении всех довоенных пантомим. Он не должен был подвести и при создании этой. В световое решение спектакля включили и такую новинку, как ультрофиолетовые лампы. Они должны были придать сцене в пещере с ее сталактитами и сталагмитами дополнительную тревожную атмосферу.
Отдельно решалась проблема моста, переброшенного через бассейн. Его конструирование было отдано в руки Б.Э. Нейгибауэра из постановочной части Малого оперного театра[29].
Что касается оформления апофеоза, то его Коротков ориентировал на пуск гидроэлектростанции. Ведь всю пантомиму пограничники и помогающее им население сражались за то, чтобы она была построена в срок. И установленное на сцене сооружение давало ток. По всему цирку должны были зажечься многочисленные и многоцветные электрогирлянды. Они обрамляли портик над форгангом, перила верхних кольцевых мостиков, поднимались от них к центру купола. Зажигались лампочки и в гирляндах, соединяющих шесты, установленные вкруг всего борта бассейна. Эти бесконечные цветные огоньки отражались в заполняющей его водной глади. В воде и над водой и могло развернуться финальное торжество. И, разумеется, как завершающий аккорд праздника, из шестов, установленных по кругу барьера, мог взлетать цветной фейерверк.
Такую праздничную среду предложил художник для апофеоза.
Обходясь малыми изобразительными средствами, Коротков ухитрялся добиваться большой выразительности оформления. Но, главное, он стремился, учитывая настойчивые пожелания Венецианова, создавать бытовую и в то же время условную среду. Реальный мир, существующий на цирковом манеже и по цирковым законам.