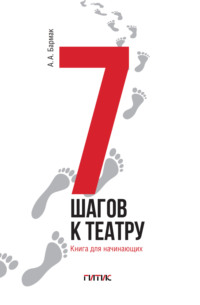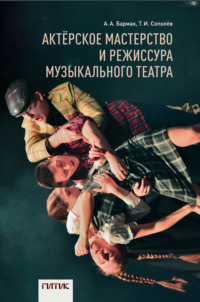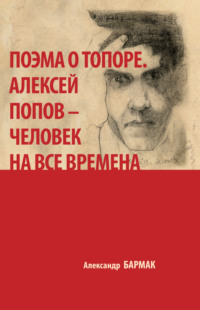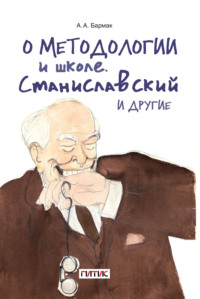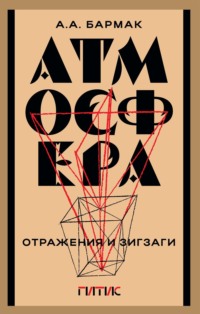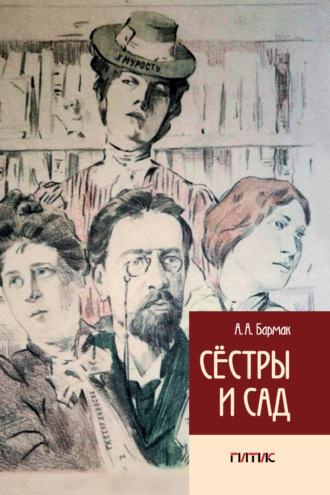
Полная версия
Сёстры и сад
Военные – своеобразный прием остранения, используемый Чеховым блестяще. Военная среда для общества того, да и нашего, кстати, времени была в гораздо большей степени terra incognita, чем любые другие общественные группы. Неслучайно такой грандиозный скандал разразился после выхода в свет повести Куприна. После Куприна вряд ли можно было бы написать таких военных, как герои «Трех сестер», и претендовать на реализм описания. До Куприна много о военном быте писал Крестовский, но настоящей правды не было и у него. Но автор «Трех сестер» не только не заботился о правде изображения рядовой военной среды, он вообще о реализме, во всяком случае в его узком и довольно частом понимании как житейской правды, совершенно не заботился. Житейской правды в «Трех сестрах» маловато, ее на грош с полушкой, но есть ее приметы, разбросанные там и сям, очень ловко создающие видимость правды в далекой от реализма вещи. В ней есть правда атмосферы, ради которой и сделана вся вещь. Эта правда требовала такого Тузенбаха, такого Вершинина и т. д. Мечтателей, для которых мечта важнее, а может быть, и реальнее самой жизни. Известная доля маниловщины есть в каждом российском образованном человеке. Не будем говорить – интеллигентном человеке, что это такое, мы уже не знаем. Речь идет не просто о мечте, а о мечте, существующей только в бесконечных разговорах о ней. Мы, серьезно уже разменявшие двадцать первый век, кажется, более осторожны в своих прогнозах на будущее, чем люди того времени. Но тоже любим помечтать, правда, наша мечта направлена назад, в прошлое. Наша мечта живет в бесконечных разговорах о прошлом, мы его не изучаем, а придумываем. Прошлое, где так страдали и так поэтически рассуждали о своих страданиях чеховские герои. Те смотрели в будущее и ошибались, мы смотрим в прошлое и также ошибаемся. Прошлое в тени настоящего. В отношении к прошлому современный человек отличается от чеховских героев. Те относились к прошлому без сантиментов – владеть живыми душами; ведь это переродило всех вас; мы родились от людей, презиравших труд, и т. д. Мы же идеализируем прошлое, и это естественный процесс, когда нет настоящего. У них и у нас есть и общее: это полное равнодушие к нынешнему дню, мы им тяготимся. Одно желание, чтобы он скорее прошел.
Тузенбах своей способностью воспринимать страдания и стремлением говорить о них, конечно, отличается от необаятельных героев Куприна. Он отличается также и от обаятельного старика-полковника из «После бала» Толстого. Тот по части «сострадания» приближается уже к нам; в этом смысле он больше наш современник, чем живший на пятьдесят лет позже него и погибший сто лет назад на дуэли барон. Ну, так известно, что история идет по спирали.
Неслыханная массовость страданий и предательств закалила человека. До наших дней дотащились лишь бронированные натуры. Перефразируя Владислава Ходасевича, можно сказать, что наши «душевные мышцы» не просто ослабели, а у многих и атрофированы. Тем не менее современный человек, хоть и заглядывается на прошлое, все же надеется на наступление какой‐то новой, и, представьте, необыкновенно счастливой жизни. С какой, собственно, стати? Что, конечно, тоже говорит о том, что он мало изменился. Для прихода этой новой и необыкновенно прекрасной жизни подполковник Вершинин отпустил двести-триста лет. Он, правда, договорился и до тысячи, но это число уже не подлежит обсуждению. Тут и говорить не о чем. Ясно, что тысяча – синоним «никогда». Остановимся на двухстах-трехстах. Тем легче, что сто уже прошли. Осталось еще столько же, а на худой конец двести. Это пустяки, это можно подождать. Хотя, скажем откровенно, что‐то подсказывает нам, что эта новая, необыкновенная и прекрасная жизнь никогда не наступит. В этом вопросе мы согласны с Тузенбахом полностью. Уже потому не наступит, что мы мало что делаем для ее наступления, еще меньше, чем чеховские герои. Но, может быть, и не нужно ничего делать? Хорошо будет, коли и эта – самая обыкновенная – жизнь сохранится.
И не пустят нам пулю в лоб.
У Тузенбаха масштабы времени скромнее, чем у его командира – через двадцать пять лет, уверенно заявляет он в начале первого акта, работать будет каждый человек. Эта неосторожная фраза вызывает улыбку, но не очень добрую. Тузенбах тут опять ошибся – ни через двадцать пять, ни через сто лет, по‐настоящему, то есть так, как представлял себе труд Тузенбах, работали и работают очень немногие. Так работали, скажем, герои фильма «Девять дней одного года», какая‐то тонкая ниточка связывает их с героями Чехова, они тоже мечтатели, но все‐таки герои художественного фильма. Но они и подобные им были меньшинством даже в ту эпоху, когда в нашей стране труд был назван делом чести и доблести. Он еще был назван делом геройства. Геройства касаться не будем, это качество, выходящее за рамки нормального. Но честь, совесть и сострадание – эти понятные и близкие чеховским героям атрибуты духовной жизни нормального человека – извели. Да, трудились, как и не снилось Тузенбаху, миллионы людей, но в подавляющем большинстве их понимание труда несколько расходилось с представлением о нем Тузенбаха. И если бы Соленый, по его словам, не подстрелил бы барона, как вальдшнепа, то вполне возможно, что Тузенбах на себе испытал бы всю «прелесть» такого труда. В лучшем случае он торил бы канал к Белому морю – там такой здоровый, хороший славянский климат. Почему это в стране берендеев, где живут коми-пермяки – здоровый славянский климат? То, что он здоровый, это куда ни шло. Что это такое – эти слова Вершинина, а что, скажем, в Черногории – климат не славянский? Ах, средиземноморский… Ну, бог с ней – с Черногорией, недаром она в оперетках называется Монтенегро, а во Владимирской губернии, например, – какой климат, не славянский? Вершинина понесло, наверное, прекрасные женщины тому причиной.
Иван Денисович из повести Солженицина многое мог бы по части труда открыть Тузенбаху, если бы они работали в одной бригаде. Такое отношение к труду, как у Ивана Денисовича, без всякой по нему тоски (еще бы в лагере тосковать по труду!) не было дано даже героям «Трех сестер». Да и в повести он один, да и вообще в советской литературе таких героев, как он, единицы.
Более точны, как и полагается хорошему артиллеристу, прогнозы Соленого. Через двадцать пять лет вас уже не будет на свете, – говорит он барону. – Года через два-три вы умрете от кондрашки, или я вспылю и всажу вам пулю в лоб. И всадил на дуэли – ровно через три года. Интересно, при чем здесь – кондрашка, что в комплекции и темпераменте барона предполагает такой скорый апоплексический удар? Может быть, он, как Гамлет, тучен и задыхается? Напомним, что не Соленый затеял дуэль. А вот зачем затеял ее Тузенбах?
Соломенная шляпа Тузенбаха
Автору пьесы все равно, что ни написать. Он меньше всего озабочен правдоподобием коллизий, событий, взаимоотношений действующих лиц. Он ставит нас перед фактами правды художественной, а она, как известно, бывает очень далека от бытовой правды. То, что происходит в пьесе и кажется в ней абсолютно достоверным, в реальной жизни часто вообще произойти не может. Это обычная вещь и в романе, но там явную неправду мы проглатываем вместе с лирическими отступлениями автора. Классический пример – Гоголь. Редкая птица долетит до середины Днепра; а скажи‐ка, милая, где барин; а барин-то это я и т. д. Все это опять‐таки общие места, и, конечно, об этом не стоило бы говорить, если бы не то обстоятельство, что творчество актера на лирических отступлениях основываться не может. Слишком оно реалистично, физиологично по своей природе. Да и где же в пьесе лирические отступления? В ремарках, в паузах, в общем тоне? В атмосфере? Да, в атмосфере. Конечно, ее можно и нужно почувствовать, но ее нельзя сыграть. Почувствованная, угаданная в пьесе, она должна возникнуть в спектакле, не в последнюю очередь как результат подлинной жизни актера на сцене. А эта жизнь нуждается в абсолютной конкретности предлагаемых обстоятельств, событий, взаимоотношений, задач, целей и т. д.
Поэтому актерам и режиссеру надо точно и крепко связать все узлы, а для этого найти обрывки всех белых нитей, которыми сшито произведение. Любому актеру самого условного театра все равно нужна конкретность. Вопрос в том, где ее искать. Чтобы не играть вообще и нечто. Для автора важно, чтобы все, что он напишет, отвечало бы его художественным целям. Или каким‐нибудь еще целям – общественным, например. Иногда художественные цели и общественные как бы подразумевают друг друга. Иногда одно жертвует другому. Есть, скажем, традиция изображать военных любящими выпить, волокитами, бретерами, картежниками, поручиками Кувшинниковыми. Или, в лучшем случае, грубоватыми служаками, честными, но недалекими людьми. Слуга царю, отец солдатам и т. д. и т. п., полковниками Богданычами. Из Максима Максимыча как‐то традиции не получилось. Или грубыми жестокими солдафонами, как уже вспоминавшийся нами герой «После бала». Не изобразить ли их не только тонко чувствующими, но и умеющими выражать эти чувства литературно и в длинных монологах, интеллигентами, умнее и благороднее которых в стране нет никого? А заодно устами одной из героинь пьесы, которой явно симпатизирует автор, сам, кажется, немного к ней неравнодушный, еще и обругаем тех, кого принято считать подлинными интеллигентами – учителей, например.
Если судить по высказываниям влюбленной в Вершинина Маши, гимназия, в которой служит ее муж, учебное заведение, собравшее в своих стенах людей неинтересных, невоспитанных, даже пошлых. И сам Кулыгин, учитель этой гимназии, человек ограниченный, а в своем отношении к начальству даже несколько неприятный человек. Пять лет супружества, причем супружества бездетного, да еще с таким Кулыгиным, это, конечно, тяжелое испытание для женщины и может привести ее к тяжелой форме неврастении. А именно к ней близка Маша в начале первого акта пьесы. Маша говорит о своем замужестве так, как будто бы ее выдали замуж насильно, против ее воли, что мужа своего она боялась, он ей казался таким умным, начитанным, а она едва кончила курс. Тут опять сплошная темнота и в некотором роде даже тайна. Отец, что ли, был такой деспот, что не только образованием угнетал, но и насильно выдал замуж барышню, едва окончившую гимназию, и выдал против ее воли? И мимо старшей сестры, добавим. Как это случилось? Ничего непонятно. Ну, не мог же Кулыгин, учитель гимназии, таков, каким он изображен в пьесе, ухаживать за гимназисткой? Или он был тайной гимназической любовью? Или тут своего рода «Легкое дыхание», только в очень пошлом варианте? Меня выдали замуж…Мы уже говорили, похоже, она, что называется, выскочила замуж. Но какой же должна была быть жизнь ее в доме, чтобы такой человек, как Кулыгин, мог увлечь красивую и умную девушку в осьмнадцать лет. Хотя, как известно, бывает все. В осьмнадцать лет вы расцвели прелестно, неподражаемо, и это вам известно, в самом деле – Кулыгины блаженствуют на свете. Вообще в семье Прозоровых есть какая‐то тайна. Создается впечатление, что они о чем‐то умалчивают, что‐то недоговаривают. Об отце вспоминают два раза. Но как‐то очень уж сдержанно. О матери говорят коротко – погребена в Ново-Девичьем; начинаю забывать ее лицо; это часы покойной мамы. Один только раз эта тема звучит очень напряженно. Но также быстро снимается, чтобы уже не возникнуть никогда. Вы любили мою мать? – Очень. – А она вас? – Этого я уже не помню. Понимайте, как хотите, хотя этими словами все сказано.
Кулыгин казался Маше самым умным, очень может быть. Но в таком случае сама она была хоть и красивой, но не умной. Кстати, Ольга называет ее самой глупой в семье. Тут есть некая параллель с Еленой Андреевной и профессором Серебряковым. Но та вышла за очень известного человека, хотя и вышла, кажется, прежде всего из‐за феноменальной лени. Отношение к мужу или свое разочарование в нем Маша переносит вообще на всех учителей гимназии. Или автору необходимо было выдвинуть заодно и вопрос о реформе образования? В то время, действительно, кто только не ругал классические гимназии. Передовым людям того времени надо было обязательно обругать положение дел в современном образовании, как все похоже! Но, спрашивается, где училась сама Маша? Ведь не в пансионе фон Мебке, как другая генеральская дочь, Лидочка из «Розового чулка»?
Та плакала и все жалела, что не пошла в гимназию – окончила бы гимназию, поступила бы на курсы… Или влюбленная Маша хочет польстить Вершинину? От влюбленности у нее такой милитаризм? Да, конечно, любовь меняет человека. Самые порядочные, самые воспитанные, самые благородные люди в городе – это военные. Других, выходит, нет. Не нравятся ей учителя классических гимназий: Когда мне случается быть среди учителей, товарищей мужа, то я просто страдаю.
Интересно, что в пользу Маши неожиданно свидетельствует М. Осоргин. Он как раз оканчивал именно пермскую классическую гимназию. Учился он в ней в те же годы, что и Маша в своей. Мнение Осоргина о гимназиях и гимназических учителях приводит в статье о нем М. Алданов. Осоргин ругательски ругает свою гимназию. «Как большинство русских провинциальных гимназий, и тех времен, и позднейших, – пишет Осоргин, – наша была отвратительным учреждением, очень вредным и губительным. Учителя все пили дико и свирепо и забывали подтяжки в публичных домах. Все запрещалось, считались страшными, запрещенными и развратными даже Достоевский, Толстой, Шекспир, Байрон». Интересно, как это можно забыть подтяжки? И как об этих милых пустяках узнал гимназист Осоргин? На этом фоне, конечно, даже Кулыгин выглядит образцом порядочного и добродетельного человека. Во всяком случае намека на то, что он оставляет подтяжки в публичных домах, как его коллеги, описанные Осоргиным, мы в пьесе не находим. Надо сказать, что Осоргин, кажется, не очень убедил своего биографа. «Я был моложе Михаила Андреевича, – пишет Алданов, – но неужели нравы и обычаи могли так (подчеркнуто М. А.) измениться. Нам о названных выше писателях рассказывали на уроках словесности, а тем из нас, кто получал «награды первой степени», нередко давались в дар их сочинения. Очевидно, Михаилу Андреевичу особенно не повезло», – деликатно добавляет Алданов. Кто тут больше прав? Учитывая, что гимназист Осоргин умудрился вызвать на дуэль учителя немецкого языка, надо, наверное, сделать поправку на некоторые особенности его юношеского характера.
Но, конечно, есть в городе кроме казенных и земские учителя, есть и врачи, не один же спившийся Чебутыкин, есть артисты, есть, наверное, инженеры, тем более что это город вроде Перми, есть, наконец, политические ссыльные. Уж на что страшен городок Окуров у Горького, но и в нем есть своя Евгения Петровна. Нет, город, в котором проживают сестры Прозоровы, хуже городка Окурова. В одной книжке забавно рассуждают о том, что есть города умышленные и неумышленные. Кажется, город вроде Перми – город вполне умышленный. Год назад эти самые, самые были названы ею же, – полтора человека.
Среди учителей, товарищей мужа, я страдаю… То есть все перевернуто с ног на голову и перевернуто специально. Грубо говоря, все неправда. С житейской точки зрения. Как неправда, например, то, что долго после смерти отца мы не могли привыкнуть обходиться без денщиков. Что значит долго и кто это мы? Год – это совсем недолго. И привыкать обходиться без денщиков должны были бы за это время Ольга и Ирина, а уж никак не Маша, которая уже несколько лет с ними не живет. Но денщиков к тому времени в русской армии давно уже не было. Они были упразднены, а была прислуга. И восстановлены через два года после написания пьесы. Так что не к чему было привыкать. Зачем они, денщики, вдруг понадобились? Как это можно вообразить, чтобы денщики ухаживали за тремя стремительно произрастающими барышнями.
Между тем, сестрам, кажется, повезло меньше, чем Ане из «Вишневого сада». Та хотя и неизвестно где училась, да и училась ли вообще, но у нее была хотя бы Шарлотта, полоумная, слов нет, но, согласитесь, не денщик все же. А кто воспитывал сестер и брата после смерти матери, неизвестно. Кто барышень одевал, раздевал, укладывал спать и прочее, и прочее? Денщики? Анфиса? Иметь такой огромный дом и не иметь бонны, а ее, по всей видимости, не было. Стало быть, младших сестер и брата воспитывала Ольга, потратив на это лучшие годы? Незавидная участь, если не сказать больше. Правда, будешь вспоминать отца сквозь зубы. Но зачем понадобилась тема этих не существовавших на самом деле денщиков? Что же, как денщиков не стало, так некому было дрова рубить, печки топить и провожать в гимназию? Какую‐то важную для автора черточку, наверное, должна была прибавить к характеристике атмосферы произрастания трех сестер эта их привычка к денщикам. Избалованности. Барственности. Непрактичности.
Все это – плохой Андерсен. Маша – принцесса на горошине. Но зачем это нужно? Ирина говорит Тузенбаху: Мы родились от людей, презиравших труд. Это именно фраза. Кто презирал труд – отец, который умер в звании бригадного генерала, в звании, которое именно выслуживается тяжким трудом. Отец, который угнетал воспитанием и заставлял учить по три-четыре иностранных языка. Мать презирала труд? Может быть, достоверных сведений нет… Конечно, фраза Ирины или на самом деле фраза, что делало бы Ирину неискренней, а это не так, или это фраза девочки, выделывающейся, старающейся по‐взрослому, идейно отнестись к жизни. Но по правде говоря, она и в первом-то акте совсем не девочка, не Аня из «Вишневого сада», которой семнадцать, ей двадцать лет, совсем не девочка, особенно по тогдашним взглядам на возраст женщины. Похоже, она выделывается, но все равно эта фраза была бы более уместна в устах тургеневской барышни, живущей в каком‐нибудь дворянском гнезде, где в саду с каждого ствола глядят на вас человеческие существа и т. д. Здесь в тональности атмосферы звучит чувство вины, то есть как будто бы справедливости возданности нынешних страданий… Все это очень искусственно. Но, наверное, необходимо для атмосферы.
Интересно, как к такой аттестации самих себя как людей грубых, нелюбезных, невоспитанных относилась та провинциальная интеллигенция, столь раздражающая Машу, которая специально приезжала в Москву и проводила ночи у кассы любимого ею Художественного театра, чтобы успеть купить недорогой билет и попасть на те же «Три сестры». Вздыхали, наверное, и… соглашались. Тут уничижение паче гордости. Здесь опять проклятая иллюзия, заслоняющая реальную жизнь. Все то же чувство вины, смешанное с интеллигентским упреком к жизни. Далеко оно нас всех завело.
Совершенно очевидно, что в пьесе есть другая правда.
Это правда – полета птиц, бодро звучащего марша и заключительных монологов Маши, Ирины и Ольги.
Ради этого только и написана вся пьеса, ради этого расчетливо создается вся ее атмосфера, в которой сильно звучит мотив изгойства. Ради этого и придуманы военные, столь нетипические как для того, так и для нашего времени.
Вся штука в том, что военные – это перемещающийся слой общества.
Ушла бригада, неизвестно зачем когда‐то пришедшая в этот город, и возникло чувство утраты, потери чего‐то очень дорогого. А скучная провинциальная местная интеллигенция, от нее никуда не денешься, и она никуда не денется. Влюбилась бы Маша, например, в какого‐нибудь хорошего, умного, да еще и недурно пишущего рассказы и сочиняющего пьесы земского врача – ну и что бы вышло? Вышла бы какая‐нибудь совершенно пошлая мелодрама. А обаятельный умница, болтун подполковник, под аккомпанемент бодрого военного марша, очень красиво передислоцируется в Царство Польское. По улицам ходила большая крокодила…
Не до свиданья, а прощайте…
Когда‐нибудь встретимся…
Но тогда мы едва узнаем друг друга, холодно поздороваемся…
И вышел вон какой поэтический финал пьесы.
Птицы летят, военный оркестр играет бодрый марш, три одинокие красивые женщины на сцене…
О милые сестры, жизнь наша еще не кончена. Будем жить! Музыка играет так весело, так радостно, и, кажется, еще немного, и мы узнаем, зачем мы живем, зачем страдаем… Если бы знать, если бы знать!
Надо сказать, что от этого потрясающего финала, от этих трех чудесных женщин, совершенно уже оторванных от реальной жизни и как бы уже парящих над нею, отторгнутых от мира, действительно, угадывается мостик к той, ненаписанной, пьесе, где корабль гибнет, окруженный льдами, среди огромного Ледовитого океана…
Гостиная с колоннами, за которыми виден большой зал. В зале накрывают стол для завтрака… Кто накрывает? Надо полагать, что прислуга. Что это за юсуповский такой дворец? Это что – родовое имение? Разве может себе позволить так жить всего лишь бригадный генерал, который, как мы уже вскользь замечали, если только он живет на средства, отпускаемые ему правительством, не настолько богат, чтобы содержать такой дом? Ведь это декорации даже не ларинского, а чуть ли не греминского бала. Или есть семейное состояние, какое‐нибудь наследство от ярославской тетушки, или какие‐нибудь поместья? Но ничего такого как будто бы нет.
Ольга вечерами, по ее словам, в которые с трудом верится, подрабатывает, дает уроки. Она говорит, что занята с утра до вечера каждый день, это непонятно. Самая большая нагрузка для учителя гимназии, мы же упоминали, восемнадцать часов в неделю. При этом заработок его при такой нагрузке не менее полутора тысяч в год. Да квартирные, да дрова. Это по современным нормам просто синекура. Конечно, самую необходимую прислугу можно было содержать. Но повар, кухарка, горничные, дворник да еще много кого в таком огромном доме, ведь его содержать надо! Понятно, что все это великолепие выдумано. И никакого такого дома у Прозоровых быть не могло в подлинной жизни. Но правда житейская здесь не к месту. Нужно ощущение простора, света, красоты, изящности – слово это часто звучит в разговорах героев пьесы.
Ремарка здесь подсказывает образ.
Нужна необыкновенная атмосфера жизни и какого‐то особенного, совершенно непохожего на повседневный, серый быт провинциального города, праздничного быта этого своеобразного дома. Можно было бы сказать, как Вершинин, – изящного быта (кажется, это одно из любимых его слов). Артиллерийский подполковник, правда, ни разу не воевавший, очень любит все изящное. Но в наше время это словечко несет на себе какой‐то неприятный лаковый оттенок. Да, еще множество цветов – интересно, откуда они? Из оранжереи, стало быть, и садовник из цветочного магазина? Или это комнатные цветы? Белые колонны, масса воздуха и света, зал, где накрывают стол для завтрака, – все это должно произвести – и производит – сильное и радостное впечатление на Вершинина.
И все это, столь не схожее с жизнью обывателей губернского города, должно было бы привлекать в этот дом много людей, которые всегда стремятся к чему‐то возвышенному, оригинальному по крайней мере. Но… В прежние времена, когда был жив отец, в этот дом, если верить Маше, приходило по тридцать-сорок офицеров. Из этих интеллигентных тридцати-сорока она не выбрала никого – предпочла зануду и сухаря Кулыгина. То есть являлся почти весь списочный состав офицеров бригады, не считая пьяниц, картежников, больных и прочих… А сегодня только полтора человека и тихо, как в пустыне…
Интересно, откуда взялись эти тридцать-сорок офицеров? Не из Гоголя? Ноздрев упорно врет Чичикову что‐то о сорока офицерах, приехавших на ярмарку. Какие сорок офицеров могли прийти к генералу на именины его дочерей? И что, собственно, значит прийти? Визит вежливости это одно, а к столу и танцы, провести вечерок в обществе трех молоденьких, а потом двух молоденьких девушек – это другое. Сорок – чуть ли не весь офицерский состава бригады. Младшие чины, а их большинство, неужели могли прийти к генеральским дочерям на именины? Три раза в год собирались, положим, почти все офицеры бригады – ведь не на одни только Иринины именины собирались, потом два раза в год – на Ольги и Маши. Одни мы знаем 5 мая, а вот у Ольги – скорее всего 11 июля, святой равноапостольной, а так еще есть несколько дней в святцах на Ольгу. Но, надо полагать, и у генерал-майора Прозорова тоже были именины, и уж к нему-то являлись с поздравлениями все, полный состав офицеров бригады. Ну, если не ошибаемся, в году может быть шестнадцать именин на самых разных Сергеев. Допустим, что генерал-майор на Сергия Радонежского – тогда 20 июля, а то, может, и 8 октября – Преставление. Кого приглашали на обед или там поздний завтрак, как в первом акте, а кого и нет, другое дело.
Быть приглашенным на обед к полковому командиру – большое дело, отнюдь не все могли рассчитывать на такую честь. Вспомните, что чувствовал герой «Поединка», приглашенный на обед к полковому командиру! Зачем понадобились эти сорок офицеров в прошлом и полтора человека в настоящем? Чтобы возникло ощущение отверженности, одинокости? Что значит – в прежние времена? Отец умер год назад – год, два года, даже три, это совсем не прежние времена. Так говорят о чем‐то давно прошедшем. Но, может быть, Маша говорит о себе, о своей юности, пять лет прошло, как она замужем, кажется – вечность. В незабвенные времена юности все казалось веселее. Тузенбах и Соленый – в общей сложности полтора человека, Чебутыкина и всякую мелочь вроде Родэ и Федотика за людей она не считает, это лихо сказано. Но куда же девались остальные? Пусть не сорок, но ведь, действительно, сколько‐то их там было. Не может быть, чтобы в генеральский дом ходили только четыре офицера одной-единственной батареи. Если это так, что представляется, правда, маловероятным, и если это те офицеры, которых мы встречаем в пьесе до прихода Вершинина, то тогда понятно, почему Маша именно выскочила за Кулыгина. Получается, что посещали генеральский дом только из‐за Маши. А как она вышла замуж, сразу же ходить перестали. У них все попросту, это мнение Наташи, но все же по отношению к сестрам эти слова Маши уж очень простодушные. Почему сейчас, в самом деле, только полтора человека, куда еще, как не в дом, где живут милые, образованные девушки, что называется, на выданье и ходить офицерам? Да и не только офицерам. Отчего бы и некоторым штатским не ходить. Однако – не ходят. Что за тайна? Объяснения причин того, почему в этот светлый прекрасный дом не ходят, мы не найдем. Это нужно для атмосферы.