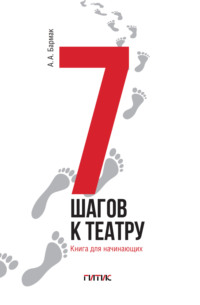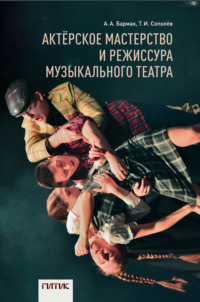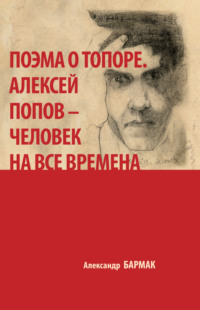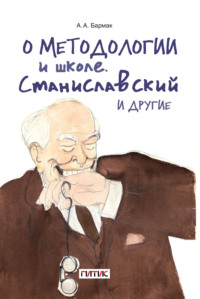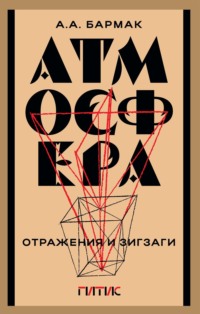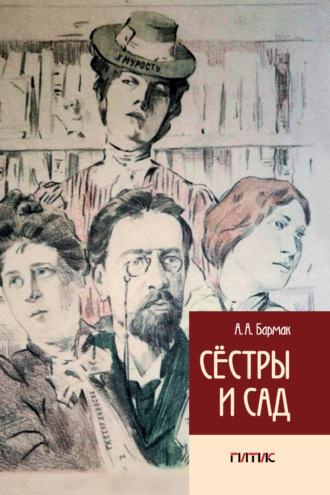
Полная версия
Сёстры и сад

Александр Александрович Бармак
Сестры и Сад
© Бармак А. А., 2020
© Издательство ГИТИС, 2022
Мотивы и реминисценции
ТарарабумбияСтарую английскую песенку со смешным названием «Та-ра-ра-бумбей» любил Уинстон Черчилль и часто ставил пластинку с ее записью. Эта песенка по сути военный марш, очень известный. Кто помнит старый знаменитый замечательный фильм «Мост через реку Квай» о британских офицерах в японском концлагере с изумительным Алеком Гиннесом в главной роли, должен прекрасно помнить и музыку из этого фильма, она жива до сих пор. Особенно был, да и сейчас остался, популярным саундтрек под названием «Марш полковника Боги». Похоже, что этот марш и любил слушать великий британский премьер, в другой, конечно, музыкальной редакции и обработке. Впрочем, он успел посмотреть фильм и, наверное, услышал свою любимую песенку в ее новом варианте, как она сделана в кино, а сделана великолепно. На рубеже девятнадцатого и двадцатого веков, в пору, так проникновенно, пряно, но все же не совсем внятно, описанную Андреем Белым в самом, так сказать, разгаре belle époque, в парижских кафешантанах шансонетки отчаянно плясали и пели под песенку с похожим названием, что‐то вроде «Тамара бум-бей». Плясали и пели до первого звоночка к мировой войне, который, однако, не все расслышали, – речи кайзера Вильгельма в Танжере в 1905 году; плясали и пели еще несколько лет после звоночка, а потом все обрушилось, и началась бойня и абсолютные и страшные изменения в мире. Речь Вильгельма очень недалеко от событий «Трех сестер» – с Германией хотя и обнимались, и с Вильгельмом на яхте хаживали, мундирами обменивались, но в подозрении все‐таки держали. Может быть, поэтому в «Трех сестрах» артиллерийскую бригаду и пехотный корпус, после отмены корпусов – дивизию (артиллерийская бригада бывает не сама по себе, но всегда при пехотной части) отправляют в Польшу, в Царство Польское. То есть на границу с Германской империей. На границу с Японской империей не догадались, а ведь именно там бригада-то была всего нужнее, война с Японией началась буквально завтра после окончания пьесы. Ну а до этого все Тамара бум-бей да Тамара бум-бей. Причем здесь Тамара, трудно сказать, определенно можно утверждать, что это никак не лермонтовская Тамара, которая ни в коем случае не «бум-бей», тем более что Тамара, которая «бум-бей», вполне может в латинском написании читаться и произноситься как Фамара. Тут уж возникает соблазн сделать зигзаги и к библейской Фамари, и к бессмертному таировскому спектаклю «Фамира-кифаред», но это будут именно зигзаги.
Вот что интересно.
В пьесе один из самых неприятных ее персонажей Чебутыкин то ли напевает, то ли бормочет время от времени: Та-ра-ра-бумбия… Сходство во всех трех случаях очевидное, по крайней мере в названии. Вряд ли, напевая: Та-ра-ра-бумбия… сижу на тумбе я, Чебутыкин мог знать о старинной английской военной песенке, популярной песенке парижских кафешантанов с почти одинаковыми на слух названиями. Скорее всего, он и не подозревал об их существовании и популярности. Впрочем, может быть, и знал, и слышал. Граммофоны уже были очень распространены. Правда, незаметно, чтобы граммофон был у Прозоровых. Могла ли военная песенка стать, как теперь говорят, шлягером ресторанной эстрады, или – если уж говорить совсем современным языком – ресторанного шансона?
Эстрады у нас давно уже нет никакой. Разумеется, могла. Такого рода травестии хорошо известны. Мелодия популярной и политически вполне невинной немецкой песенки о Хорсте Весселе, исполнявшаяся тоже в берлинских кабаре и ставшая впоследствии гимном гитлеровских штурмовиков, зазвучала в одной из любимых советских песен тридцатых годов прошлого века – «Марш авиаторов». Современное поколение и не помнит такой песни. Ну как же: Все выше, и выше, и выше стремим мы полет наших птиц… Что‐то еще там такое необыкновенное то ли слышно, то ли дышит в каждом пропеллере.
Есть ли польза от такого рода сопоставлений, ассоциаций, например, для актера, играющего Чебутыкина, и режиссера, работающего с ним над этим образом? Нет никакой пользы, да и над образом сейчас мало кто работает, это даже странно сейчас – работать над образом, артист сам теперь образ и есть. А уж работать ему над самим собой, это вопрос не столько эстетического, сколько этического порядка. Разве что они с удовольствием посмотрят старый добрый фильм. Какое им дело до любимой пластинки великого британского премьера и парижских шансонеток из, скажем, знаменитого кабаре «Мулен Руж» и их берлинских коллег из, скажем, не менее знаменитого, правда, возникшего лет на двадцать позже берлинского «Неопатетического кабаре», название которому дал доктор философии Стефан Цвейг, в то время еще только автор «Серебряных струн»? Никакого дела им до этого нет. Даже если они узнают, что именно в «Мулен Руж» впервые актриса разделась догола на сцене. На всякий случай, это случилось в 1893 году. Скандал был! Даже если они и сделают, что, впрочем, представляется крайне сомнительным, зигзаг в сторону и к Фамари, и к Фамире-кифареду. Так зачем же нужны эти натянутые сопоставления? И сопоставления не нужны, тем более натянутые.
Так в чем же, собственно говоря, дело?
В атмосфере.
В пьесах Чехова – атмосфера самое главное, это дыхание пьесы, и это дыхание самое труднодостижимое в чеховском спектакле. Не настроение, не эмоциональный фон, не некий общий тон. Даже не музыкальность, хотя атмосфера сама по себе, а в этой пьесе особенно, обладает своей уникальной музыкой. Атмосфера рождается из самых неожиданных вещей, часто и из натянутых сопоставлений. Иногда из зигзагов.
Но в театре атмосфера возникает только через человека, она создается действующим на сцене актером, именно и только действующим – не переживающим и не изображающим состояние, что сегодня довольно распространенная вещь. Все остальное только подручные, хотя и чрезвычайно важные вещи.
Но пока мы говорим именно о пьесе, написанной гениальным писателем. О произведении великой литературы. И говорим, если угодно, не столько о психологии ее атмосферы, сколько – о ее философии.
Текст этой пьесы представляет собой изумительную художественную литературную ценность сам по себе. При всей его абсолютной непонятности и совершенной нереальности. Он все время информирует нас не о том, что происходит на самом деле, ему вообще нельзя доверять, как, впрочем, любому тексту. Совокупность всех диалогов и пауз между ними, особое сцепление слов – из всего этого возникает удивительная прозрачная ткань пьесы, создается ее атмосфера, так сильно и так чарующе действующая на нас при ее прочтении. Именно из совокупности – каждая отдельная реплика диалога бывает очень банальна и пóшла. Считается, что Чехов не писал романы – но пьесы его, особенно «Три сестры», «Вишневый сад», самые настоящие театральные романы, причем, конечно, во времени создания их – самые что ни на есть модернистские. Это такой вечный модерн, надо было так написать, что каждая эпоха, а их сменилось несколько с тех времен, как он написал эти пьесы-романы, рассматривает их как суперсовременные вещи, причем совсем не потому, что в них подымаются так называемые вечные, то есть чрезвычайно пошлые, темы. Нет, речь идет именно о форме этих произведений. Немирович-Данченко говорил о «театральном романе жизни», тут хорошо бы обратить внимание на слово – театральный, как новом и небывалом еще на театре сценическом жанре.
Вместе с тем, вот так вот просто перенести на сцену атмосферу пьесы, даже прекрасно понимая ее особенности, природу, и то, что называл Немирович-Данченко «лицом автора», абсолютно невозможно. Можно прийти к ней или приблизиться, что скорее всего, но ради этого приближения необходимо создать на сцене действенную жизнь актеров. А стало быть, препарировать пьесу с точки зрения анализа так называемых предлагаемых обстоятельств. А они, увы, далеко не всегда понятны и оправданны, если не сказать, что вообще непонятны. Стало быть, нужно искать в предлагаемых обстоятельствах особые, необходимые – то есть не набирать обстоятельства, а совершать тщательный отбор их. А иногда просто-напросто – придумывать, ибо далеко не все в пьесе поддается строгому логическому и бытовому анализу, если не сказать – вообще не поддается анализу. Логику нужно искать и не в последнюю очередь именно в художественных особенностях текста пьесы. А делать это необходимо, чтобы действие актера приобрело смысл и органически вытекало из строго отобранных предлагаемых обстоятельств, действенных фактов, событий. Действие – это прежде всего процесс восприятия, включающий в себя и отношение, стало быть, это процесс исключительно эмоционально окрашенный, в нем огромную роль играют воображение и фантазия. Велика роль в этом процессе ассоциаций, очень велика.
По нашему мнению, которое, разумеется, можно оспорить, актер, знающий о песенке Черчилля и исполнявших ее мелодию французских шансонетках, да еще и посмотревший фильм «Мост через реку Квай», как‐то иначе будет напевать: Та-ра-ра-бумбия, сижу на тумбе я…, чем актер, не знающий об этом. Даже если никакого отношения одна тарарабумбия к другим и не имеет, впрочем, может быть, и действительно не имеет. Даже скорее всего – не имеет.
«Три сестры» – великая пьеса, одна, может быть, из самых замечательных в мировой драматургии. По поводу и пьесы, и ее героев можно задавать миллионы вопросов. И на все вопросы найдется в пьесе ответ, даже и тогда, когда ответа нет, заведомо нет. Это звучит странно. Но поэтика пьесы обладает собственной правдой. И эта правда выше всех вопросов и бывает, что противоречит логике реальной исторической жизни. Так нужно пьесе, вот, в сущности, единственный ответ на все вопросы. Если ты чего‐то не понимаешь или что‐то ставишь под сомнение, так это твои проблемы, не берись за постановку этой пьесы, возьми другую. Ту, которой вопросы задавать легче, а может быть, и вовсе не нужно, поскольку в пьесе все ясно и вопросов не возникает. Все это, впрочем, известно и представляет собою так называемое общее место. Как и многие другие рассуждения такого рода. Но так ли уж необходимо пренебрегать так называемыми общими местами? А вдруг они совсем и не общие?
Тем не менее в книжке эти вопросы, далеко не все, некоторые, задаются. Даже не к пьесе – а к ее тексту. Пусть и несколько назойливо. Очень может быть, что неумные вопросы, да что там говорить, признаемся – глупые вопросы, должно быть, даже из того разряда, хуже которого нет и быть не может, что называется, обывательских. Ну, например, когда родился Бобик и была ли Наташа в положении, когда страстно целовалась с Андреем в конце первого акта. И кто все‐таки был виноват в этом «положении» – Андрей или один из, безусловно, главных героев пьесы – Протопопов? Сколько лет Андрею в первом акте, старше он своих сестер или младше и т. д. и т. п. Ведь по сцене ходят не элементы поэтики, а живые люди, и им большей частью приходится задавать себе и друг другу вопросы, часто самые не поэтические, неприятные даже отчасти вопросы.
Вопросы, кстати, начинаются прямо со списка действующих лиц.
Анфиса стоит в этом списке последней, это незначительный персонаж. Тогда можно предположить, что первый в списке – самый значительный. Первым из действующих лиц пьесы, означенной во всех изданиях драмой, но которую Чехов, шутя, наверное, называл комедией, стоит Прозоров Андрей Сергеевич. Второй – Наталья Ивановна, его невеста, потом жена. И только третьими – сестры Ольга, Маша и Ирина, взятые в фигурные скобки, казалось бы, главные героини пьесы. Да, конечно, драматургия Чехова новаторская, и у него нет главных героев в прежнем традиционном их понимании. Тем не менее пьеса называется «Три сестры», а не, скажем, «Сестры Прозоровы». Конечно, так назвать пьесу было не совсем корректно, из трех сестер одна уже не Прозорова, а Кулыгина. Но можно было, например, назвать – «Семья Прозоровых», Мария Сергеевна, хотя уже и Кулыгина, все‐таки из семьи Прозоровых. Прибавьте Андрея, получается абсолютно точное название. Но автор называет пьесу «Три сестры», вольно или невольно давая нам понять, что все‐таки все вертится и крутится вокруг именно сестер. Пьеса называется «Три сестры», как роман Дюма называется «Три мушкетёра». Мушкетёров только в самых первых главах всего трое, потом с д’Артаньяном их становится четверо. Но роман называется не «Четыре мушкетёра». И даже не как некоторые, впрочем, посредственные, фильмы – «Д’Артаньян и три мушкетёра», а просто «Три мушкетёра». Хотя главный герой – и в этом нет сомнений – д’Артаньян. Может быть, Андрей Прозоров такой вот своеобразный д’Артаньян? Может быть, он самый старший в семье и поэтому открывает список действующих лиц, читая который, мы все‐таки привыкли имена главных героев произведения, даже самого новаторского, видеть в первых строках программки? Или он как единственный мужчина в доме занимает место главы семьи? Но в доме ли он? Может быть, он только недавно приехал и совсем не рассчитывает остаться в этом городе и в этом доме надолго? А когда остается, и навсегда, то совсем не хозяином в доме. Так почему он открывает список действующих лиц? Он – самое, можно сказать, бездейственное и, простите, рыхлое лицо во всей пьесе. Может быть, просто «Три сестры» – красиво звучит? Две сестры – вроде как две сиротки, так называлась популярная мелодрама. Четыре сестры – звучит чудовищно, хотя и не лишено смысла.
Интересно, что Чехов предполагал главными героями пьесы четырех интеллигентных женщин, а ведь это в своем роде те же четыре сестры, вряд ли он имел в виду старуху Анфису, скорее все‐таки Наташу. Но так не получилось – четвертая, Наталья Ивановна, оказалась дамой совсем неинтеллигентной, во всяком случае в нашем, современном и, конечно, идеализированном, ложном понимании той, прежней, настоящей, крайне немногочисленной, которой был, по словам Горького, всего-то паутинно-тонкий слой, интеллигенции, хотя и стала родственницей, почти сестрой. Чехов, мягко говоря, интеллигенцию не любил. Да и понимал под ней все‐таки всего лишь слой образованных и, что для него было немаловажно, воспитанных людей. Потом из образованных – вышла, прибегая к знаменитому термину А. Солженицына, образованщина, ну это уж было после интеллигенции в любом даже ее понимании, но эта образованщина сидела крепко и в старой, идеализируемой нами интеллигенции. Теперь и образованщина стала тонким паутинным слоем и выглядит почти как самая настоящая, а таковой не было никогда, интеллигенция. Все это отнюдь не праздные вопросы – все это вводит нас в своеобразную, очень запутанную и отчасти даже несколько мистическую в своей запутанности атмосферу пьесы.
Нам кажется, что пробиться к подлинной поэтической правде пьесы и к ее необыкновенной атмосфере невозможно, минуя эти вопросы к ее тексту.
Пьесы Чехова обладают своей особой атмосферой, она музыкальна, и конечно, собственно музыка играет свою роль в ее создании. Надо сказать, что автор совершенно определенно указывает все непосредственно музыкальные фрагменты в своей пьесе, и возникают они в строго необходимый ему момент действия. Зачем он это делает и почему именно в этот момент – один из вопросов к автору. И искать ответ на него в обманчивой прозрачности пьесы придется режиссеру и актерам.
Таких музыкальных вставок несколько.
В первом акте Маша насвистывает песню. Какую? Это немаловажный вопрос, автор пишет не просто насвистывает, а именно песню. Что за песню могла насвистывать Маша и почему она не напевает, а насвистывает? Не всякую песню можно насвистывать, но все можно напевать. Особенно возвратившись с кладбища, надо полагать, что они на могилу отца ходили? Тузенбах что‐то тихо наигрывает на рояле. Что? Может быть, «Весеннюю песню» Мендельсона, дело-то происходит в самом начале мая. Ну неужели третью часть Второй сонаты Шопена, знаменитый Marche funebre? Казалось бы, рано еще, впрочем, у него ума хватит и на это. Занятно: Маша свистит, а играет на рояле Тузенбах. Но к концу пьесы мы узнаем, что оказывается Маша изумительная пианистка, вот ей бы и сыграть на рояле, а барону бы посвистеть, но она ни разу за все действие пьесы к роялю не прикоснулась. Ну и барон не свистит ни разу. Если не считать его монологов, о которых можно выразиться так: несколько на арго. А какой бы это мог быть выигрышный момент для исполнительницы этой невероятно сложной роли, о которой девяностолетняя уже Книппер-Чехова, первая ее исполнительница, сказала: Наконец-то я стала понимать Машу! Интересно, как же она играла-то ее почти всю жизнь, не понимая? Но нет, Чехов такого момента Маше не дает.
Скрипка звучит в первом акте два раза, это играет Андрей, что именно он играет, Чехов не указывает, опять вопрос к исполнителю роли и режиссеру. Грустная, задумчивая мелодия, что как будто бы больше пристало скрипке, они обычно даже рыдают в романсах и плохой литературе; мелодия может быть и веселой, и даже лихой, тоже популярная крайность – цыганщина, так сказать. А вдруг так называемую Крейцерову сонату? Ну уж не «Дьявольскую трель» Тартини? Да, нет – ну что может наигрывать на скрипке Андрей – может быть, «Каприс» Франтишека Бенды? Ну тогда это и правда испытание для домашних.
А может быть, Андрей влюбился и по этому случаю стал учиться на скрипке? Ну все‐таки кто же стал учить его игре на скрипке и когда? И вообще – он что, был одаренный ребенок, который с младенчества тянулся к скрипке? А кто на ней играл в семье военного артиллериста? Ведь где‐то мальчик должен был скрипку услышать? Может быть, в еврейском оркестре из «Вишневого сада»? Но были ли в Москве, где произрастал Андрей, еврейские оркестры из «Вишневого сада»? В концерты ездил с матерью и там услышал скрипку, и стал просить обучить его на скрипке играть? А кто был учителем? Вот тут возникает вопрос, а сколько же Андрею лет? Неужели отец – генерал-майор командир бригады учил сына музыке и не на фортепиано, что в принципе не так уж выглядело бы странным, но именно на скрипке? У артиллериста почти всегда не хороший слух. Для скрипки нужен абсолютный музыкальный слух, скрипачи они же на жаргоне слухачи. Воспитывал сына, потом сын скажет о нем: Угнетал нас воспитанием. И что, скрипка в этом воспитании сына играла какую‐то особую роль, наравне, например, с лобзиком, которым так отлично научился владеть Андрей? Известно, что он выпиливает рамочки и играет на скрипке, больше, к сожалению, ничего о нем в сущности неизвестно. Играет он или поигрывает просто? Может быть, мать все‐таки учила его? Машу на фортепиано, а его на скрипке? Вот были б дуэты хороши. Была сама музыкально одарена и играла на скрипке? Если так, то это большая редкость. Она хотела видеть сына музыкантом, скрипачом? Она умерла одиннадцать лет назад, так сколько же было лет Андрею, когда она умерла? Он вспоминает забытые уроки?
Второй раз музыка сопровождает весь второй акт – издалека слышна гармоника, няня поет колыбельную, Маша по‐прежнему насвистывает, Ирина напевает, Федотик и Родэ наигрывают на гитаре, песня «Ах вы, сени мои, сени…», Тузенбах играет вальс на рояле, снова отдаленная гармоника и няня поет песню…
В третьем акте основная музыка – это набат по случаю пожара. Андрей, правда, снова играет на скрипке, заперся у себя в комнате и играет, что он играет, опять‐таки неизвестно. Вполне возможно, что все того же Франтишека Бенду. Также неизвестно, слышна ли его скрипка в общем шуме, гаме и суматохе. Да, еще: несколько тактов мотива из «Онегина», которым обмениваются Маша и Вершинин.
В четвертом акте появляются странные, как будто бы со страниц Вильгельма Мейстера сошедшие бродячие музыканты. Старик едва ли не Лотарио, и девушка – уж не Миньона ли? Играют они на арфе и на скрипке. Опять скрипка. Кто играет на арфе, старик или девушка? Скорее всего, это небольшая арфа, она крепилась через плечо, но все равно инструмент сколь благозвучный, столь физически изнуряющий. Что они играют, неизвестно. «Размышление» Массне? Известную пьесу Сен-Санса для арфы и скрипки? А может, как раз романс Миньоны? Или какое-нибудь попурри? И вообще зачем они понадобились на сцене? В наше время неожиданно, быть может, но дуэты арфы и скрипки пользуются большим вниманием. Звуки арфы считаются полезными для здоровья – в некоторых лечебных заведениях сидит бедная арфистка в углу перед регистратурой и что‐то душеспасительное тихонько исполняет. И всем хорошо, хотя немножко и страшно, больше всего, кажется, самой арфистке, уж больно музыка какая‐то запредельная, но, как‐никак, терапия.
И вот только один раз Чехов точно называет музыкальную пьесу, которая исполняется на рояле, – это «Молитва девы» Бондаржевской-Барановской, популярной польской пианистки. Сверхпопулярная в то время пьеса, до такой степени очаровательная мелодия, что под нее можно выпить стакан скипидару с горьким перцем, не поморщившись, до того она сладка. Кто же исполняет это произведение? Наташа? Эта музыка в ее вкусе. Протопопов? Очень может быть – ему должно нравиться все, что нравится Наташе.
А может быть, Бобик – он еще маленький, но растяжка у него большая! А может, как раз граммофон играет? Может быть. Что ж у них граммофона не было? Был, конечно. Кстати говоря, и рэгтайм, и вообще джаз были уже в то время очень популярны.
Четвертый акт – самый музыкальный. Просто перенасыщен музыкой: что‐то играют Лотарио и Миньона, чуть позже «Молитвы девы», забавный музыкальный киоск. А вдруг и бродячие музыканты – «Молитву девы»? Да, две «Молитвы девы» подряд – это накаляет атмосферу, безусловно. Может быть, поэтому музыканты так быстро уходят (Уходите с богом, сердечные). А что же? – очень может быть. Да, ко всему этому надо прибавить и ритмически музыкальные повторы «Ау! Гоп-гоп!» да еще и глухой далекий выстрел. И паузы, паузы, паузы… Ну вот эти паузы и гопгопы – самый настоящий джаз и есть. И все это подготавливает самую главную и знаменитую музыку – военный марш в самом финале пьесы.
Музыка звучит так бодро, так весело… Эффектно было бы, конечно, сыграть в финале знаменитейший марш «Дни нашей жизни», не путайте ни с романсом, ни с пьесой Л. Андреева, и название-то какое подходящее, и он даже как‐то перекликается с «Та-ра-ра-бумбией», но он был создан полковым капельмейстером Л. Чернецким несколькими годами позднее, впрочем, с расстояния в сто лет можно было бы чуть пренебречь хронологией. Из этого ставшего широко известным в народе марша в годы революции сделалась песенка, она дошла до наших дней, мотив ее знаем мы все с детства – По улицам ходила большая крокодила, она, она зеленая была…
Все эти музыкальные моменты свою и немалую роль в особой атмосфере пьесы (подчеркиваем, что говорим об атмосфере пьесы, не спектакля) играют, но атмосфера ее в огромной степени создается самим языком пьесы. Интонации автора создают ее; пьеса представляет собой систему своеобразных интонационных арок, они держат всю ее конструкцию; главным образом они, эти интонационные арки, составляют природу драматургии этой пьесы, как, впрочем, почти всех великих пьес Чехова. Они создают особый ритм чеховского текста; организуют время-пространство пьесы. Пьеса читается как стихотворение, а слышится как… песня без слов.
Вообще пьеса предъявляет к постановщикам требования, которые характерны для стихотворной драматургии. Существовать на сцене абсолютно естественно, непринужденно, но при этом сохранять мелодию и музыку стиха. Но в данном случае еще сложнее, форма, если так можно сказать, диалогов абсолютно свободная, но – чуть передержал паузу, чуть нажал, чуть заторопил или замедлил – и все пропало, пробормотал или вскрикнул – бытовая псевдопсихологическая драма, а то и мелодрама вовсе. Как раз то, чего не хотел и так, наверное, боялся Чехов. На самом деле чего он хотел – мы не узнаем никогда. Важнейшая задача тут не только что говорить, но и как говорить. Как понять, как почувствовать и сделать своей речь автора. Повторяем – не отдельную реплику, даже монолог, этого при хорошей школе и точном разборе события добиться можно и нужно, конечно. Нет, вот именно строй авторской речи сделать как бы своим, ощутить как бы свою идентичность чеховской речи. Тут надо ухо иметь, как у Андрея – скрипача. И внутренне наследовать великой русской речи, быть приращенным к ней. Сегодня это почти невозможно. И скоро придется играть все пьесы Чехова, как сделал это однажды один остроумный режиссер с теми же «Тремя сестрами», на языке глухонемых. Либретто оперы «Евгений Онегин» – насмешка над романом в стихах. Свести все к банальной, почти пошлой истории! Но музыка Чайковского и его гениальная музыкальная драматургия адекватны гению Пушкина и объемны так же, как его роман. Скажут – музыке это легче дано. Наверное, но и в драматическом спектакле должна быть своя внутренняя музыка, его атмосфера.