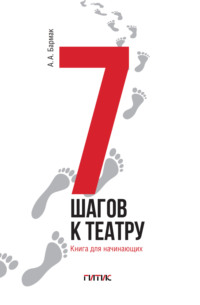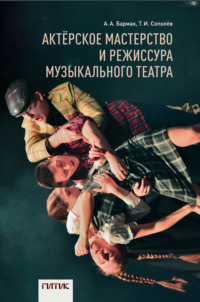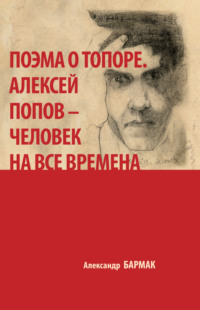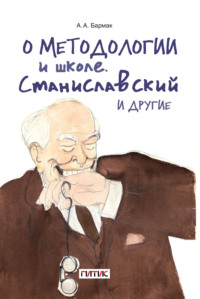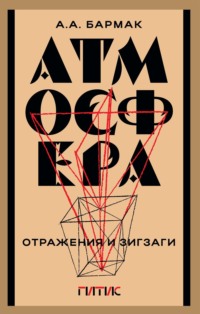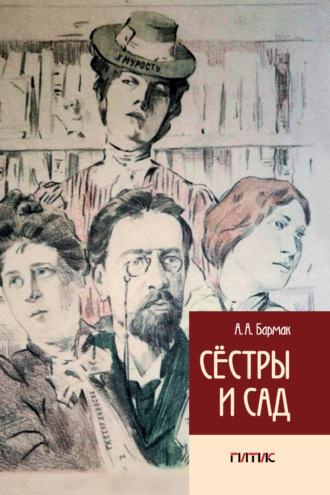
Полная версия
Сёстры и сад
Найти сценическое воплощение атмосферы литературного произведения – интереснейшая и увлекательнейшая задача. Всегда есть искушение передать ее неуловимые особенности музыкальными понятиями – первый акт, скажем, например, сначала grave, потом allegro di molto e con brio, как в восьмой сонате Бетховена, одной, кстати, из самых театральных его пьес. Второй акт – andante cantabile, третий – страшное presto, почти danse macabre. Четвертый акт – largo sostenuto, можно сказать, tremendo и subito vigoroso.
Все это очень красиво звучит, но незачем все это пытаться перенести на сцену, заниматься этими вещами впрямую крайне опасно в чеховских пьесах. Наверное, что‐то в этом духе нужно держать в голове, во всяком случае эту растворенную в пьесе музыкальность, этот музыкальный яд невозможно не почувствовать, но им легко отравить спектакль, если, еще раз повторим, брать эту особенность пьесы впрямую. Чехова часто сравнивают с Чайковским – да, у Чайковского часто система интонационных арок держит всю драматургию оперы, например в «Евгении Онегине». Как не утонуть в этой музыкальности, как сохранить эту уникальную авторскую интонацию, передать ее в спектакле, который просто по природе своей неизмеримо грубее написанной Чеховым вещи, и создать при этом строго индивидуальные живые человеческие характеры – задача очень непростая, но исключительно интересная. И невозможная без глубокого погружения в литературный текст, который сам по себе в данном случае является важнейшим предлагаемым обстоятельством.
Вот все, что касается первой части.
Скажем только, что в ней случаются некоторые повторы, но это намеренные повторы, автору кажется, что их мало и что это не просто повторы, а некие лейтмотивы, повторяющиеся и чуть по‐другому звучащие время от времени по ходу разговора.
Теперь о второй части. Зачем она понадобилась и что автор хочет сказать? Зачем и кому нужны эти мотивы и реминисценции? По правде говоря, он и сам не знает. А что, собственно, кроме мотивов и реминисценций можно добыть нового из разговора о вещах, давно и хорошо известных, хрестоматийных? У нас ведь давно и хорошо известно, как нужно ставить и играть Чехова. Это театральная проказа – не успеет режиссер рта открыть, а актеры и, простите, критики уже знают, как и что нужно играть. Об этом горько говорил когда‐то А. Эфрос: ставим, говорит, «Отелло», разговор о главном герое, и актеры сразу: Отелло не ревнив, он – доверчив! Ну, это, конечно, самое главное, что Пушкин сказал о театре. Так случается вообще с любой классической пьесой. И так будет всегда. Сила трафарета – велика есть.
Ну вот интересно – пьеса закончилась. А что будет с ее персонажами дальше? Хорошо, если «Гамлет» – все друг друга поубивали, вообще никого не осталось в живых, никакого продолжения истории жизни для главных героев нет. Но все‐таки в чеховских пьесах все иначе, и разве неинтересно узнать, предположить, а может, и заглянуть вперед – что же было дальше? Тузенбах убит, а как жили потом остальные действующие лица, что было им суждено испытать, в том числе и его убийце, а может быть, и убийцам? Товстоногов говорил, что четвертый акт – это коллективное убийство Тузенбаха. Треплев застрелился, а что стало с Ниной, с тем же Тригориным? А что стало с Раневской? В «Сестрах Прозоровых» мы проследили возможные судьбы всех персонажей. Нам кажется, что это будет интересным и небесполезным для актеров – заглянуть вперед, а потом снова вернуться непосредственно к предлагаемым обстоятельствам пьесы. Дело еще в том, что почти все персонажи чеховских пьес достаточно молоды, чтобы успеть встретить и пережить (или погибнуть в нем) тот катаклизм, который низвергнет все их идеалы, который наступит спустя всего лишь несколько лет от конца действия пьесы. О, многие из них успели пожить в новом сверкающем мире!
Они так мечтали о лучшей жизни, так призывали ее, так в нее верили, в это прекрасное будущее, которое если не они, то потомки их увидят. Ну вот оно пришло, это будущее. Настал момент, когда оно стало настоящим. И потомки – вот они, кругом, куда ни посмотришь – одни потомки. Интересно, как потомки смотрят на своих пращуров. Смеются насмешкой горькою обманутого сына или плачут над промотавшимся отцом? Или знать не знают, ведать не ведают прошлое новые наши невегласы. Это скорее всего. Может быть, интересно и полезно посмотреть, а что стало с героями в этом самом будущем, которое уж очень скоро пришло и всех осчастливило своим приходом. И если оно, это счастливое будущее, не уничтожило их сразу одним ходом маховика, то как же все‐таки они прожили в нем, не перемолотые его шестеренками, какими прожили в нем милыми призраками. Это ведь тоже своеобразный разбор пьесы. Посмотреть на нее из того самого долго желанного будущего. А потом снова вернуться к пьесе и, может быть, тогда какие‐то, новые не ожидавшиеся никак вещи вылезут из‐под изнанки пьесы. Какие‐то новые грани откроются. Какой‐то новый ракурс зрения возникнет.
Во второй части восстают, бродят недолго и исчезают хорошо знакомые персонажи.
Не сказать, чтобы очень счастливые.
Итак: зачем же все это нужно автору? Для того, чтобы хотя бы раз повернуть голову в другом направлении.
Часть первая
сестры
Именины без поминания
Первый акт начинается странным, непонятным монологом Ольги. Вообще в пьесе много таких странных реплик-монологов, которые сразу не разберешь, к кому, собственно, обращены. Не говоря уже о том, что часто реплика направлена вовсе не тому, кому она должна быть адресована, казалось бы, по ходу и логике беседы, а совершенно другому человеку. Причем беседуют в пьесе постоянно, ничем другим, кроме разговоров, в ней никто занимается, кроме, может быть, Наташи, эта вообще говорит мало, но зато как активно действует! Речь изумительна, красива – так сейчас никто уже не говорит, интонация нашей эпохи совсем-совсем другая, она являет собой страшное снижение русской речи, а у чеховских героев речь сама по себе прекрасна, красна.
Все это очень интересно, и все это тоже создает в пьесе некоторую завораживающую читателя атмосферу. Реже это бывает с театральным зрителем. Ольга зачем‐то напоминает всем присутствующим хорошо известные вещи: Отец умер ровно год назад, как раз в этот день, пятого мая, в твои именины Ирина. Было очень холодно, тогда шел снег. Мне казалось, я не переживу, ты лежала в обмороке, как мертвая. Но вот прошел год, и мы вспоминаем об этом легко, ты уже в белом платье, лицо твое сияет. Это, конечно, стихи в чистом виде. Тут можно вспомнить пушкинское – поэзия, прости Господи, должна быть глуповата. И все же не очень понятно, где это лежала в обмороке Ирина – если дома, то, значит, не была на похоронах, если на кладбище упала в обморок, то все‐таки вряд ли уж прям лежала, как мертвая, лежать предполагает некую все же длительность процесса, после похорон упала в обморок, но, наверное, ее сначала привели в чувство, а потом уже она лежала, как мертвая… Может быть, все может быть – то, что Ирина самая настоящая истеричка, со всеми настоящей истерии присущими неприятными особенностями, это бросается в глаза. Но тем не менее всю эту часть монолога можно оправдать самыми разными действенными интонациями, все зависит от разбора этого куска пьесы. То, что это кусок экспозиционный – это оправдание литературоведческое, в театре экспозиция все равно должна быть решена действенно и конфликтно. И это в принципе нетрудно сделать, учитывая дальнейшее развитие событий, которое последует сразу же после монолога Ольги. В этом монологе слышится предложение к серьезному разговору, который, кстати, не вышел. Но вот чуть дальше, после второй паузы (первая – бой часов, полдень) она произносит очень странные слова. Он был генерал, говорит она об отце, командовал бригадой, между тем, народу шло мало.
Как такое могло быть?
Зачем она это говорит? И кому?
Такого быть не могло.
Отец был командиром артиллерийской бригады – генерал-майором. В бригаде шесть батарей, пятьдесят три офицера и тысячи две нижних чинов. Абсолютно невозможно, чтобы вся бригада не хоронила своего командира. И никакие дождь и снег тут не помеха. А ведь есть еще и такие части, которые называются парком бригады. Да еще пехотная дивизия, при которой, собственно, и существует бригада – высшие офицеры дивизии не могли не прийти на похороны своего товарища, для некоторых боевого, офицерское-то собрание в городе одно, оно для всех офицеров независимо от того, артиллеристы они или нет. Известный антагонизм, конечно, был среди них. Артиллеристы, как правило, были образованны, пехотные – далеко не всегда, но не до такой же степени они сторонятся друг друга, чтобы проигнорировать похороны командира бригады. А должностные лица губернии, пусть не губернатор, но вице-губернатор, воинский начальник, управа городская и земская, а духовенство – вряд ли отпевал рядовой батюшка, но архиерей, а с ним несколько священников, да причт и т. д. и т. п. Нет, причем здесь дождь и снег. Кого этим в Перми – действие пьесы происходит в губернском городе вроде Перми – кого снегом в Перми можно напугать? Но, видите ли – народу шло мало. Как же мало?
Тогда что же имеет в виду Ольга? Как объяснить это воспоминание, которое звучит как напоминание? Мало было в большой толпе порядочных людей, близких друзей? Ну, так их всегда – мало. Зачем об этом специально говорить, разве что – вот уедем в Москву, ни с кем особенно жалко расставаться не будет, жалеть не о чем.
А ведь это верно. Да, ведь у них действительно близких друзей нет. Если не считать Протопопова с его именинным пирогом. Протопопов очень заботится о Прозоровых, он как добрый дух витает над домом Прозоровых, устраивает Андрея – и еще как устраивает! – на должность с высоким жалованьем и высоким чином в табели о рангах, и они, кажется, эту заботу принимают, хоть морщатся немного для приличия. Как будто бы близкий, спивающийся и раздражающий сестер Чебутыкин и влюбленный Тузенбах – не в счет. Чебутыкина они терпят с трудом, хотя к нему в силу особых, видимо, причин – снисходительны, хотя слегка даже презирают его, что касается Тузенбаха – он осточертел Ирине, кажется, уже в первом акте, а к четвертому… Как будто все вздохнули с облегчением, когда Соленый подстрелил‐таки Тузенбаха, как вальдшнепа, Ирина едва ли не рада и ни в какую истерику уже не впадает. Так от радости-то что ж в истерику пускаться. Кстати о вальдшнепе, с которым сравнивает барона Соленый. Вот что пишет о нем В. Даль: Вальдшнеп – самая благородная птица на целом земном шаре. Она, будучи убита, не бьется и не трепещется в неприличных акробатических телодвижениях, а умирает, как Брут, как Сократ. Неплохая эпитафия Тузенбаху, будем надеяться, что Соленый не ошибся и Тузенбах умер именно, как вальдшнеп – без неприличных акробатических движений. Трудно сказать, насколько серьезен был Даль в этих поразительных по хладнокровию словах о замечательной птице, которую сравнивает сразу и с Брутом, и с Сократом, но по тону и тонкости наблюдений эта остроумная цитата из «Правил жизни», даже на сегодняшний, неизбалованный состраданием к братьям нашим меньшим слух, уж очень противная, вполне созвучна некоторым разговорам в пьесе. Если все же принять слова Ольги на веру и не посчитать, что она была несколько не в себе, когда произносила их, не слышала себя, не понимала, что она говорит – а это очень могло быть, учитывая всю нервность, всю ответственность сегодняшнего дня, который одновременно и праздник, и поминовение и в котором надо принять непростое решение.
Если же то, что она говорит, – правда, то возникает нехорошее подозрение, что с генералом-майором Прозоровым было что‐то не так, что‐то случилось с ним такое с точки зрения службы предосудительное, что даже на похороны к нему пришли всего несколько человек. Это действительно нехорошее подозрение, но только это может объяснить хоть как‐то, что похороны его прошли так… неудачно. Не вышли похороны.
Старый есть такой рассказ о том, как император Николай Павлович, прогуливаясь, встретил дроги с гробом, на котором лежала шпага, то есть хоронили офицера. Никто за гробом не шел. Как же так, за гробом моего офицера никто не идет! Как такое может быть! И тогда Николай Павлович сам пошел за дрогами. Натурально, каждый офицер какого бы звания он ни был, видя такой поступок Государя, тотчас же вставал за императором, и к воротам кладбища подходило уже огромное погребальное шествие. Дело, кстати, было зимой. Правда это или нет, но скорее правда, все же понятие чести стояло очень высоко, и в данном случае Николай Павлович показал всем пример, достойный подражания. Ну то было время сказочное, но было, однако, было. Да прошло.
Как бы то ни было, а что хочет сказать Ольга этими своими словами о том, что народу шло мало, – непонятно. Тут какое‐то тональное понижение строя всей атмосферы этого встающего во весь рост и очень важного для молодых Прозоровых дня. Это снижение тона – дело в пьесе повсеместное.
В доме Прозоровых. Гостиная с колоннами, за которыми виден большой зал. Полдень; на дворе солнечно, весело. В зале накрывают стол для завтрака. Ольга в синем форменном платье учительницы женской гимназии, все время поправляет ученические тетрадки, стоя и на ходу. Маша в черном платье, со шляпкой на коленях, сидит и читает книжку. Ирина в белом платье стоит задумавшись. Поэтическая ремарка. Драматическая ремарка. Конфликт чувствуется уже в ремарке: Ирина в белом, Маша в черном, Ольга – в синем форменном платье. Больше нечего было надеть в воскресный праздничный день? То, что на дворе солнечно и весело, нам не видно, может быть, окна открыты настежь и из окон льется солнечный свет. Но в самой ремарке уже выражен сильный конфликт – ситуаций и отношений. Ирина как бы отмахивается от слов Ольги – зачем вспоминать. Но ведь это воспоминание все‐таки об отце, на похоронах которого она лежала в обмороке. И вот теперь, ровно через год – зачем вспоминать. Ирина здесь старше, то есть в этом своем – зачем вспоминать старше своих сестер. Ольга продолжает напоминания, несмотря на просьбу Ирины. И как будто тон ее повышается, она говорит о радости, которая заволновалась в ее душе. И буквально через несколько секунд тональность ее слов изменяется. Это после Машиного насвистывания. Резко: Не свисти Маша, как ты можешь! И через паузу – действительно роль пауз в оркестровке атмосферы пьесы огромная – Ольга разражается монологом: Оттого, что я каждый день в гимназии и потом даю уроки до вечера, у меня постоянно болит голова и такие мысли, точно я уже состарилась. И в самом деле, за эти четыре года, пока служу в гимназии, я чувствую, как из меня выходят каждый день по каплям и силы, и молодость. И только растет и крепнет одна мечта… Ирина подхватывает: Уехать в Москву.
Еще через несколько секунд:…А я постарела, похудела сильно, оттого, должно быть, что сержусь в гимназии на девочек. Вот сегодня я свободна, я дома, и у меня не болит голова, я чувствую себя моложе, чем вчера. Мне двадцать восемь лет только… Все хорошо, все от Бога, но мне кажется, если бы я вышла замуж и целый день сидела бы дома, то это было бы лучше. И через паузу: Я бы любила мужа.
Ну это уже просто вопль. Это – боль. Эту боль кажется не очень хотят замечать и признавать. За этими двумя монологами Ольги, как и за поведением Ирины и Маши, стоит что‐то тяжелое в прошлом, какой‐то неизжитой тяжелый груз жизни всех предыдущих одиннадцати лет.
В самом деле – мать умерла одиннадцать лет назад, Ирине было тогда девять, Маше лет тринадцать, Ольге семнадцать. Сколько лет было Андрею – он моложе Ольги, и если он год назад был еще студентом университета, то на год или на два старше Ирины, в зависимости от того, когда он поступил в гимназию – в восемь или девять лет. Стало быть, если ему года двадцать два, он учился сначала в Москве, допустим, три года, а потом оканчивал гимназию в этом городе вроде Перми, это еще пять – обучение в гимназии было восьмилетним. Значит, он уехал в Москву в университет пять лет назад.
Примерно в это время Маша «выскочила», другого слова не найдешь, замуж за Кулыгина. Кулыгин – в первом акте надворный советник, значит, он прослужил в гимназии не менее восьми лет. Андрей – ученик Кулыгина. Маша – ученица Кулыгина. Кулыгин такой, каким он предстает в пьесе, не очень тянет на покорителя женских сердец – как Маша вышла за него замуж? Сразу после гимназии или чуть позже, но все равно девушка восемнадцати лет, правда, есть известная пошлая, как большинство, пословица – любовь зла… Как вообще средняя вышла замуж вперед старшей? Конечно, всякое бывало, но странно все же. Тем более, если учесть позже сказанные слова Кулыгина о том, что ему следовало бы жениться на Ольге. Или атмосфера в доме заставила Машу пойти на этот поступок, который стал катастрофой ее жизни. А эту атмосферу создал отец? В первом акте они женаты уже пять лет – детей нет. Это ужасная ситуация, особенно, когда – любви нет. А то, что ее нет со стороны Маши – очевидно. И как она спит с нелюбимым мужчиной? Она с ее темпераментом – вообще Маша будто бы и не родная сестра, так она не похожа на Ольгу и Ирину. Ольга говорит – я бы любила мужа. Но кажется, что она просто не понимает, что она говорит. У нее любовь не подразумевает страсть, что это такое она не знает и не узнает, так же, как и Ирина. Суждено это узнать было только Маше. Каково ей, которой муж физически неприятен, слышать то, что говорит Ольга. Тут вспоминается особая улыбка Каренина, когда он входил в спальню Анны.
А как отнесся к этому браку отец? При том что старшая Ольга остается на его глазах старой девой – по тем временам, конечно. Ольга окончила гимназию в Москве и в гимназии этого города вроде Перми служит четыре года. То есть поступила в учительницы в двадцать четыре, а что она делала до этого? Воспитывала сестер – одну воспитала, та вышла замуж, вторую тоже – та решительно ничего не делает после гимназии, и вот Ольга поступила на службу.
А какая была необходимость при отце еще идти работать в гимназию, ну ладно – после его смерти, то есть ради заработка? О призвании говорить не приходится – судя по стенаниям Ольги. Кстати, о стенаниях. Оттого, что я каждый день в гимназии и потом даю уроки до вечера…О чем она говорит? Нагрузка учителя в гимназиях была двенадцать часов в неделю – два часа в день! Надо сказать, что за это он получал очень приличное вознаграждение, плюс – квартирные, плюс надбавки и всякие поощрения. Учителя гимназий получали зарплату бóльшую, чем чиновники. Но к этим двенадцати можно было взять еще шесть, не более – сверх нагрузки, то есть получалось целых три часа в день. Да, в самом деле голова заболит и похудеешь. Ольга говорит об уроках, которые она будто бы потом дает до вечера – как это понять? Давать уроки учащимся гимназии сверх положенного она права не имела, и за этим смотрели строго. Так что же, она ходила, что называется, по урокам, как курсистка, которой не на что жить? Ольга на хорошем счету и делает потрясающую карьеру – она становится начальницей гимназии, то есть в табели о рангах это четвертый класс, это очень высокие ордена, это очень серьезное положение в обществе, особенно губернском. Куда Кулыгину! Кстати, начальница гимназии утверждалась министром просвещения лично. Наташа говорит в третьем акте: Тебя выберут, Олечка. Это решено. Но решено, что ее кандидатуру представят министру просвещения и только. Протопопов, кстати, тут мало что мог – он земство, а гимназии к земству никакого отношения не имели, они в ведомстве министерства просвещения. Связи, конечно, и тогда имели значение, но до некоторого предела – даже у Протопопова. Не похоже, что Ольга пошла служить ради хлеба насущного, при жизни отца по крайней мере.
Но и после его смерти мы понимаем, что ей и Ирине более чем хватает ее жалованья, так к чему изнурять себя уроками до вечера каждый день, откуда вообще столько учениц? Почему не работает Ирина и сидит на шее у сестры другое дело. В зале накрывают на стол для завтрака – как мы потом видим накрывают очень неплохо, да, если разобраться, что это за завтрак – по нашему времени обед, да еще праздничный, а собственно, кто накрывает? Прислуга. Не Анфиса же.
В доме проживают бездельник Андрей, ничего не зарабатывающий, Ирина – тоже бездельница, во всяком случае именно на этих именинах ей вдруг страстно захотелось работать, при жизни отца она после окончания гимназии могла бы быть учительницей, могла бы поехать на высшие педагогические курсы – да, конечно, поле деятельности для женщины в то время, казалось бы, было небольшим – педагогика, медицина в первую очередь. Но нет, она ждала именно этого дня – ну и устроилась чуть позже телеграфисткой и сразу заныла. Это просто странно, что в таком городе не было интересных возможностей для тех барышень, которые действительно нуждались в работе, а не просто болтали о труде. Ну тогда – не было бы такого прекрасного надрывного монолога Ирины. Быть учителем в школе, гимназии особенно, было делом почетным и вызывающим всеобщее уважение. При всей критике системы образования, школьных и гимназических порядков. Да и сегодня труд учителя по старинке мы привыкли более-менее уважать. Ну что касается его денежного содержания, то тут нам до царской России очень далеко. Гимназий в Казанском учебном округе, а именно в этот округ входит губернский город вроде Перми, было всего девять – на огромную территорию округа, включавшую несколько губерний и крупных по тем временам губернских городов.
Как бы то ни было, оба монолога Ольги приводят к грустным размышлениям о жизни трех сестер. Чудовищно неудачный брак одной, одиночество старшей, да и младшей тоже. Это при сорока офицерах, посещавших этот дом, о которых вспоминает чуть позже Маша. Надо же сорок офицеров, а вот оказалась замужем за Кулыгиным. Правда, офицерам нельзя было жениться без разрешения начальства – то есть того же генерал-майора Прозорова. И глухие упоминания отца. И глухие упоминания о матери. Что там было? Как умерла мать? Какое имеет к этому отношение Чебутыкин, который как будто очень близок к этому семейству? Может быть, он и ее нафталином пользовал? Образ отца кажется довольно мрачным – как‐то он воспитал трех девиц, которых оставил несчастными. Нет, конечно, это не папа Агафьи Тихоновны, который усахарил ее матушку, но что‐то, как‐то заставляет вспомнить этого внесценического персонажа.
Прошло сто с лишком лет, но жизнь не изменилась.
Странно, что она не оборвалась.
Но что уж точно можно утверждать, не боясь впасть в преувеличение, так это то, что лучше она не стала. Собственно говоря, а почему она вообще должна изменяться непременно к лучшему? Или даже к худшему?
Нам всегда кажется, что дальше будет хуже – предрассудок, конечно, все та же боязнь сегодняшнего дня. И, собственно, что такое – лучшее и что такое – худшее, все как‐то относительно. Всегда кому-то – лучше, кому‐то – хуже. А в общем‐то пропорции добра и зла в жизни остаются более-менее неизменными. Не изменился, естественно, и человек. За все человечество, среди которого, по правде говоря, слишком много за двадцатый век развелось всякого зверья, разумеется, мы ручаться не можем, но что касается, например, русского человека, а он интересует и пьесу, и нас больше всего, то он и вправду мало изменился. Мало, мало, тут как раз и не знаешь, что сказать – хорошо это или плохо. Он по‐прежнему в высшей степени одарен вкусом к страданию, он все так же сентиментален и жесток и, как и во времена чеховских героев, лелеет надежды на лучшую жизнь, и верит в прекрасное будущее, которое, неизвестно почему, вдруг в один прекрасный момент опустится на него, тяжелое, как грозовое облако, и сладкое, как сахарная вата, и которое если не увидим мы, то увидят наши дети или дети наших детей, или внуки наших правнуков, тут главное, что не мы. Не я, то хоть потомки потомков моих – так говорит Вершинин. То, что девочки его, потомки его, живут, по всей видимости, чудовищно и действительно страдают, его, кажется, не трогает вовсе. Он об их потомках заботится. Это удивительная и чем‐то даже неприятная вещь – такая трогательная забота о потомках, которым вообще дела до нас не будет, особенно сейчас, когда человека забывают, еще день не прошел. Это нежное, а главное, совершенно безответственное чувство к потомкам на самом деле подразумевает совершенное наплевательство на собственную жизнь. Эта пламенная и чистая любовь к потомкам и их прекрасному будущему ничего не оставляет дню сегодняшнему, он всего лишь переход, мостик, лавы, как говорят в Тверской губернии, один из тысяч мостиков, которые надо поскорее, по возможности, не задерживаясь и максимально безопасно проскочить на пути к этому никем и никогда, естественно, не виданному прекрасному будущему, которое и прекрасно‐то только потому, что – будущее, которое никогда не наступит и которое никто никогда не увидит, а все время будущим и останется, ибо что ж это за будущее такое, если мы его увидели, то есть в нем оказались. Это уже не будущее, это настоящее, а оно-то нас как раз интересует только опосредованно, исключительно как мостик, и мы им всегда недовольны. Этот своего рода оптический обман дорогого нам стоил и стоит; весь жар наших сердец мы отдавали и отдаем до сей поры будущему, а сегодняшний день, что ж о нем говорить, утро вечера мудренее. В сегодняшнем дне мы не убираемся. Так и живем.