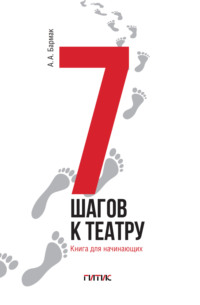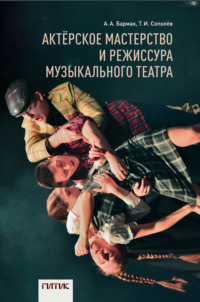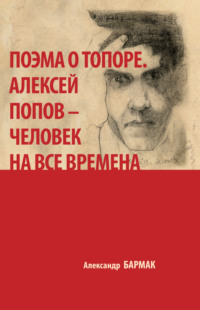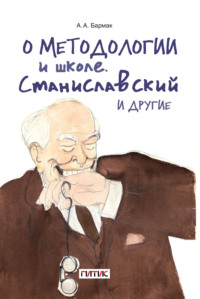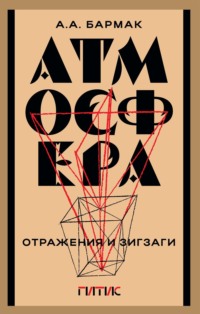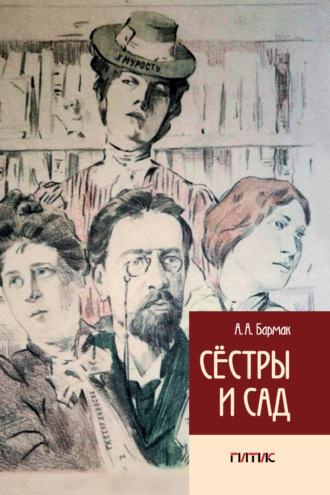
Полная версия
Сёстры и сад
Да, май, солнце, радость заволновалась в моей душе, но сестры – изгои. Почему изгои? Очень образованные. В самом деле, образование сестер вопрос, о котором говорят с уважением и гордостью. Сестры знают французский, немецкий, английский языки. Непонятно, что в этом удивительного. Для того времени и для того общественного круга, которому принадлежат сестры и брат, знание языков вполне обычное дело. На что уж несимпатична Наташа, а болтает, по ее мнению, на французском языке, немало забавляя этим барона. Ведь и в этом городе, где знание языков кажется чем‐то лишним, как шестой палец, они необходимы, прежде всего для чтения. И если можно в этот город выписать модную одежду, что делает Тузенбах, то, наверное, можно и книги выписывать. Интересно, какую книгу читает Маша в первом акте – томик Чехова или Альфонса Доде? Или Гоголя – скучно жить на этом свете, господа! Правда, Ирина знает еще и итальянский язык. Зачем в этом городе итальянский язык? Этого и сама Ирина не знает, он, прямо скажем, и в другом городе, если только это не будут Рим или Флоренция, ей мало бы пригодился. Может быть, она начинающая певица? Не похоже. Зачем же итальянский? Если не для того, чтобы читать на итальянском хотя бы нашумевшее тогда и для того времени очень откровенное «Наслаждение» Д’Аннунцио, то только для… изгойства. Но кто и зачем, интересно, учил Ирину итальянскому, какой отставной тенор или бывшее сопрано, ведь в программу гимназии он не входил.
Мы знаем много лишнего, заявляет Маша. Но, между прочим, всему этому лишнему и Ирина, и Маша научились в этом городе, который они так презирают за его отсталость. Это вообще отвратительная манера – ругать наши провинциальные города. Именно в этих городах вроде Перми, даже еще меньших, городах, разбросанных по российским просторам и спрятанных в многочисленных российских закоулках, родились многие, если не большинство из великих русских людей. Кстати, и сам автор «Трех сестер». Что ж так не любить этот город?
Ведь учились они всему в местной гимназии, только Ольга оканчивала гимназию в Москве. С уверенностью можно сказать, какую: Вторую женскую гимназию на Старой Басманной улице, рядом с домом, где жила семья Прозоровых и где бывал «влюбленный майор». Вообще здесь много надуманного. А вы читаете по‐английски, мы уже обращали на это внимание, словно бы удивленно спрашивает Вершинин Андрея. Может, польстить хочет? Ведь его реакция на рамочку, которую выпилил Андрей, была, скажем так, несколько сдержанной. Но что удивительного в знании английского языка? Вообще в то время английский давно уже вошел в моду – вспомним «Плоды просвещения», все английское, и хорошее и плохое – англичанка гадит, давно уже стало модой. Странно, и даже очень, что артиллерийский подполковник этому удивляется. Тем более что Андрей учился в университете. Кстати, в каком? В Московском, судя по тому, что он привык к Тестовскому трактиру, о котором вспоминает с такой сладостной ностальгией. Соленый утверждает, что в Москве два университета – старый и новый, ему возражают, что один. Надо полагать тот, в котором учился Андрей. Но не правы все – в Москве в то время действительно было два университета. Один императорский, другой, очень популярный в передовых кругах, университет Шанявского.
Что касается языков, то Вершинин, как мы поняли, знает как минимум французский и немецкий. То, что он не знает английского – странно, уж читать-то по‐английски он должен был научиться, при его-то академической до сих пор карьере. Да любой офицер знал не менее двух иностранных языков, оканчивал ли он кадетский корпус, военную ли гимназию, которая одно время заменила кадетский корпус, потом снова восстановленный, но языки и там, и там преподавали, и преподавали отлично. Зачем нужен вообще весь этот разговор? Только для того, чтобы дать характеристику отцу, который непременно хотел дать детям приличное образование, так что Андрей даже потолстел за год после его смерти. В мировой литературе это, пожалуй, единственный персонаж, который, будучи влюбленным, толстеет. Ведь весь этот год он был влюбленным – надо полагать, что это чувство, если правда оно было, а не была это своего рода реакция на свободу, внезапно возникшую с уходом отца, требует много душевных сил. Говорят, что от любви – сгорают, но чтобы толстели… Может быть, что‐то у Андрея вообще с эндокринной системой не в порядке? Или для того чтобы опять создать впечатление ненужности, одиночества пребывания в этом городе? В этом городе знать три языка ненужная роскошь. Даже и не роскошь, а какой‐то ненужный придаток, вроде шестого пальца, – говорит Маша. Или, скорее всего, для того, чтобы Вершинин смог разразиться великолепным монологом? После чего Маша все‐таки остается завтракать. Все, все так называемые мелочи нужны для атмосферы, которая в этой пьесе прихотлива и изменчива, как ветер мая. Все используется для создания ощущения зыбкости, незавершенности, легкой недоделанности.
Отец генерал, но бригадный генерал, не совсем полноценный генерал. Были два неудачных, неловких звания в царской армии – бригадный генерал и подполковник. Генерал, командующий дивизией, совсем другое дело, не говоря уже о корпусном генерале, или генерале – от артиллерии. Вершинина все, начиная с Анфисы, величают полковником, но ведь он – подполковник. Хотя в табели о рангах его артиллерийский подполковничий чин приравнен к полковнику в пехоте. Командир батареи – под его началом восемь орудий. В бригаде два дивизиона, по три батареи – считай шесть подполковников. Многовато, кажется, было в русской артиллерии начала двадцатого века подполковников. Правда, техника становилась все сложнее и требовала квалифицированных офицеров. Вообще‐то, подполковник это большей частью звание штабное. Пятеро подполковников в дом к сестрам Прозоровым не ходят, по причинам неизвестным. Шестой – пришел. В 43 года, после академической карьеры, которая прервалась по причинам тоже нам неизвестным, да, кажется, неизвестным и самому автору, командовать восемью пушками – не очень большая удача.
Когда‐то, вспоминает Маша, которой тогда было десять лет, Вершинина называли «влюбленный майор», а он был поручиком. Мы уже знаем, что в то время чин майора в русской армии был отменен. Может, поэтому и называли Вершинина майором, что никаких майоров уже и не было в армии? И вот, наконец, поручик постарел и стал подполковником, то есть чином чуть выше упраздненного майора, но гораздо ниже полковника. Так что, когда его называют полковником, это не очень прилично. Вообще, и здесь какая‐то зыбкость, неопределенность – поручик, которого звали майором, подполковник, которого называют полковником. Зачем все это надо? Почему не мог быть Вершинин в самом деле полковником и командовать хотя бы дивизионом? Нет, вот подполковник. Вот – батареей. Не было бы этой самой неопределенности, зыбкости, вязкости, назовите, как хотите.
Город губернский, а вокзал железной дороги в двадцати верстах. Конечно, в России, как известно, возможно быть всему. Тянули, тянули железную дорогу, да перестали и построили вокзал в двадцати верстах от города. Случился примерно в то же время такой казус в подмосковной Коломне, там действительно построили вокзал в трех верстах от города. Дело было в том, что городские власти поначалу не отвели землю под вокзал и его пришлось построить вне черты города. Потом, правда, городские власти опомнились и выделили землю уже в самом городе. С тех пор в Коломне два вокзала. Как все похоже, как до боли знакомо! Но все‐таки три версты не двадцать. Конечно, двадцать верст это та самая реникса, не могло так быть, тем более в эпоху железнодорожного бума. А этот бум именно в Перми в те времена был просто колоссальный – такие строились великолепные железные дороги. А если по недомыслию и произошло, то зачем же артиллерийскую бригаду держать в двадцати верстах от железной дороги? Этого быть не могло, этого не разрешал мобилизационный план. Ведь бригада, кроме людей, еще и огромный парк техники, и склады снарядов. Двадцать верст – это не шутка. Не стоит задавать вопрос, зачем в этом северном городе вообще необходимо было держать артиллерийскую бригаду. На него ответа нет. Понятна другая вещь: почему бригада артиллерийская, а, например, не кавалерийская. Артиллерия – это баллистика, математика, физика, оптика, стало быть, контингент образованнее.
Интеллигентнее. Артиллерийская наука в России была в то время лучшей в мире. В самом деле, пехотный подполковник Вершинин – как‐то скучно, тяжеловато. Драгунский, уланский или, чего доброго, гусарский штаб-ротмистр, звучит отчасти даже легкомысленно. Артиллерийский подполковник, хоть и не высоко берет, а все‐таки звучит солидно. Что‐то, если угодно, по‐чичиковски спокойное есть в этом звании. Правда, сам герой Гоголя состоял в чине полковничьем – был коллежским советником, пятый разряд в табели о рангах. Как Андрей Прозоров. Ну, так на то он и Чичиков. Артиллерия – самый подходящий род войск для нашей пьесы. Флот не подходит, хотя по уровню образования офицеры флота были едва ли не выше всех, – не на Дальний же Восток к адмиралу Макарову, в самом деле, отправлять сестер. Оттуда действительно, хоть три года скачи, до Москвы не добраться. А на Черном море, где‐нибудь в красавце Севастополе, тоска сестер по Москве, может быть, и не будет выглядеть такой пронзительной. В Санкт-Петербурге будет просто смешной. Удобнее артиллерии для целей автора пьесы ничего нет. В нужный момент бригаду переведут в Царство Польское и почему‐то на баржах. Военные ни разу не обмолвятся даже словечком о своей службе, что, конечно, невозможно в реальной, а не выдуманной жизни. Всякая группа людей, связанная общими профессиональными интересами, говорит только о них или же большей частью о них.
В то время в России происходили огромные перемены именно в артиллерии – поздновато, как всегда, но происходили. Если бы не опоздали, то исход войны с Японией был бы совсем иной. Менялись пушки – поршневой затвор приходил на смену клиновому, велись ожесточенные споры, какой удобнее и практичнее, и наконец появилась российская скорострельная пушка, которую все ждали с нетерпением и которая начала поступать в войска, и ее технические и боевые качества, конечно, горячо обсуждали все артиллеристы. Эту новую пушку, так называемую трехдюймовку, надо было изучать, испытывать и правильному обращению с ней надо было учить нижние чины. Короче, забот на самом деле у господ офицеров было очень много. А в пьесе – полное пренебрежение к своей профессии у всех офицеров. Это совершенно невозможно. Так же, как невозможно вообще такое, совсем уж непринужденное, поведение офицеров со своим начальником.
Каким бы душкой этот начальник не был. Но в том‐то и дело, что военные они условные, они военные только для того, чтобы их можно было в нужный момент убрать с глаз долой. Во всем остальном они обычные, средней руки, интеллигентные люди. Недалекие провинциальные мечтатели, прозябающие, как этого хочет пьеса, в глухом и холодном углу России.
Ольга говорит о Москве так, как Лаура о Париже. А далеко, на севере – в Париже – быть может, небо тучами покрыто. – Вот в эту пору в Москве уже все в цвету, тепло, все залито солнцем… Для Лауры Париж – чуть ли не Крайний Север. Но на какой же широте расположен город, в котором живут сестры Прозоровы, если Ольга о Москве говорит, как о южном городе! Подумать только, в эту пору в Москве – все в цвету.
Понятно, что нет такой широты и нет такого города.
5 мая – день святой великомученицы Ирины Македонской, по новому стилю это 18 мая. Отец умер год назад в именины Ирины, тогда шел снег, ну это и для Москвы не диковинка, похороны были не ранее 8-го по‐старому, 21 мая по новому стилю. Тогда шел дождь и снег. Но кого в Москве удивишь дождем и снегом в мае. Иногда и в июне снег выпадает. Дело в том, что в Москве – все хорошо, в том числе и климат. И надо скорее туда, в Москву, которая представляется каким‐то чудным городом, из этого пошлого города, в котором все плохо, в том числе и климат. Между тем, и Москва, о которой мечтают, и нечто вроде Перми города-фантомы. О климате Маша говорит и в четвертом акте – в самые трагические минуты. Климат – это и проблема больного Чехова. Ольга оправдывает то, что на похоронах отца было мало народу, плохой погодой. Но мы уже сказали, что такого не могло быть. На похоронах генерала, командующего бригадой, должна была быть и, несомненно, была вся бригада. А это совсем немало – две тысячи человек. Наверняка были представители губернских властей и земства – тот же самый Михаил Иванович Протопопов, который присылает в первом акте пирог на именины, а во втором – ждет у ворот на тройке Наташу.
Артиллерийская бригада сама по себе, отдельно от того крупного воинского соединения, в состав которого она входит, не может стоять в губернском городе. Наверняка на похоронах генерала Прозорова были его сослуживцы из воинской части – дивизии ли, корпуса ли, расквартированных в городе – во главе с командующим. Так полагалось и не могло быть иначе. Но, тем не менее, Ольга говорит, что народу было мало. Остается только принять это к сведению и не обсуждать. Так нужно пьесе. Никаких причин, мешающих уехать в Москву, ни у Ирины, ни у Ольги нет. Почему Ирина и Ольга не уезжают? Потому, что вокзал далеко. А почему он далеко? Потому, что не близко. Можно ответить как угодно, и ни один ответ не будет правильным. Тут вообще правильных ответов быть не может. Вообще не может быть ответов. Не может быть, конечно, и вопросов. Эти вопросы, как мы уже говорили, мы задаем специально, нарочно и зря. Так нужно пьесе, чтобы не уезжали. Москва – это мечта. Уехать в мечту невозможно. Не Москва нужна, нужна мечта о ней. Ведь без мечты мы ничто. И пьесы не будет.
Пьесе нужна неопределенность.
Еще раз спросим, какая причина, что сегодня с утра в доме Ольги, Ирины и Андрея, собираются гости? Годовщина смерти отца? Именины Ирины? Только именины или еще и день рождения? Все говорят про именины, но вот приходит Кулыгин и поздравляет Ирину с днем ангела. Но день ангела это и есть день рождения. Правда, он мог и перепутать. Забыл же он, что на Пасху уже дарил Ирине свою книжку о гимназии. Память у него действительно короткая – любая, даже самая ранняя, Пасха по времени очень недалека от 5 мая. Кажется, что все это неважно. Да, это действительно неважно, но только все эти и многие другие, скажем, шероховатости и создают необходимую и странную, а порою, если быть внимательным, и страшную атмосферу пьесы. Об отце говорится всего два раза – вспоминают похороны и в связи с угнетением воспитанием. Так двумя словами и помянули отца. Вот и вся годовщина. И никаких примет того, что есть его портрет, – нет. Впрочем, и портрета матери как будто нет. Но ведь должны были бы сходить на кладбище, отслужить панихиду. Зачем вспоминать, говорит Ирина. За столом даже не соблюдают такой традиции, как выпить рюмку в память. Отца и командира. Так что, скорее всего, основной повод – именины Ирины. Или день рождения? Ну в те времена главным праздником, конечно, были именины. Но садятся за стол и начинают выпивать и закусывать, даже не подождав именинницу. Допустим, что повод для праздника – это именины. Во всяком случае, все говорят об именинах и за стол садятся праздновать именины. Стало быть, годовщина смерти отца важна здесь только как рубеж, этап. Как телеграмма в зрительный зал. Все – год прошел, начинается новая жизнь. Все это по житейской логике очень ненатурально. Не может быть, чтобы об отце всего лишь год спустя после его смерти было сказано всего два слова. Но в этой пьесе – может. Сестры много плачут, но на самом деле они не сентиментальны. О Тузенбахе забывают после двух-трех реплик. Как будто бы от него все ждали исчезновения. А может, и в самом деле ждали? Он это как будто чувствовал и напросился на дуэль. Ушел, исчез – плачут, но не без облегчения. Как у Платонова: Мастер Пухов был человек не сентиментальный, на гробе жены колбасу резал.
Но годовщина ли, именины ли – почему Ольга в форменном платье? Так на кладбище и ходила в форменном платье? Зачем вообще ей сегодня – именины ли, не именины, но воскресенье все же – надевать форменное платье? Из экономии? А Маша в платье черном? Она подчеркивает свое особое отношение к отцу – она в трауре еще. Может быть, к вечеру она и переоденется, когда пойдет на вечер к директору гимназии, где преподает Кулыгин. Или у Маши тоже траур по жизни, как у ее тезки, которая нюхает табак, пьет водку и ходит в «черном» в «Чайке»? Или она склонна к полноте, которую, говорят, черный цвет скрывает? Или черный цвет шел к Книппер, которая в девяносто лет наконец поняла, как нужно играть Машу? У Ирины именины, а сестра в черном платье. А у Ольги – что? Нет другого платья? Или, одев ее в синее платье в праздничный день, нужно сразу как бы превратить ее в нечто вроде синего чулка? Все как бы сразу и навсегда задано: юные надежды – в белом платье; неудачный брак, любовь, превратившаяся в нечто гадкое, обидное, – в черном платье; и несостоявшаяся женская судьба – в платье синем, форменном. Опять телеграмма. У какого‐нибудь другого автора все это оказалось бы дурной, дешевой символикой, а здесь – почему‐то не кажется.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.