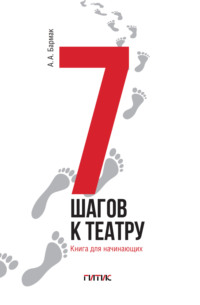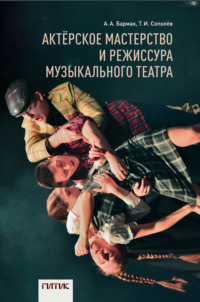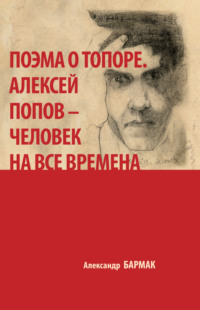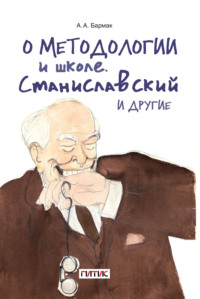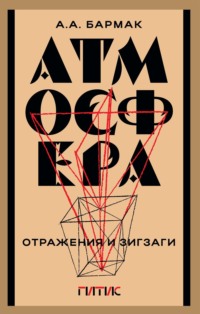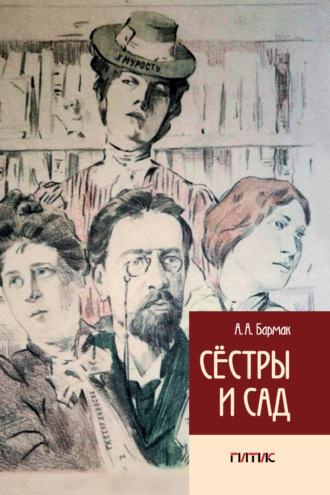
Полная версия
Сёстры и сад
Со всем тем, надо заметить, в процентном отношении, наверное, количество добра и зла все же осталось на прежнем уровне. Ну, может быть, человек стал нравственно чуть тупее; все‐таки таких катаклизмов и катастроф, каковыми отличился двадцатый век, люди, во времена Чехова только еще вступающие в него, предполагать не могли. Им это в голову не приходило. Они в такой прогресс – не верили. Не приходило им в голову, конечно, и то, что страна, которую они искренне любили, очень скоро прекратится, а народ, которому они сочувствовали, которым восхищались и который, собственно, и обеспечивал их страдания, наполовину, а то и больше будет истреблен. Не предполагая этого даже в самом страшном сне, они с удовольствием страдали, как бы искупая этими страданиями раздражающий их комфорт собственной жизни и ужасающий их дискомфорт жизни большинства их современников. Их страдания были отточены и приобретали подчас несколько литературную, конечно, на нынешний, не избалованный красотой родной речи слух, почти поэтическую форму. Страдания, которые наблюдаются теперь, – их так много! – говорят все‐таки об известном нравственном подъеме, которого уже достигло общество… Прекрасно ритмически организованная, но крайне неприятная общая фраза Тузенбаха, которая за версту отдает риторикой. Во-первых, в ней выдается желаемое за действительное. Был бы подъем, не нужно было бы употреблять словечки известные, и все‐таки. Во-вторых, что это за страдания, которые наблюдаются. Чьи страдания? Кем наблюдаются? Как это вообще возможно – наблюдать страдания? И как из этого наблюдения возможен нравственный подъем общества? И что, Тузенбах – страдает? Или – наблюдает? Или наблюдая страдает? Или страдая наблюдает? Риторическую пылкость этой фразы можно, наверное, объяснить тем, что Тузенбах – немец, очень желающий красиво говорить по‐русски, а потому его язык так олитературен. Но это – литература газетного фельетона. Барон говорит не своим языком, а языком подвала какого-нибудь «Нового времени». Это туманная и трудная фраза, как вообще туманна и трудна для воплощения на сцене, и специально сделана таковой атмосфера «Трех сестер». Неслучайно Вершинин на эту реплику Тузенбаха отвечает коротким, почти невежливым: Да, да, конечно. Вообще откуда здесь взялся Тузенбах – в этом городе, в этой бригаде. Он – персонаж комический, он по Фирсу – недотепа. В самом деле, родился я в Петербурге, холодном и праздном, в семье, которая никогда не знала труда и никаких забот. Помню, когда я приезжал домой из корпуса, то лакей стаскивал с меня сапоги, я капризничал в это время, а моя мать смотрела на меня с благоговением… До этого он говорит, что не работал ни разу в жизни. И заключает этот странный свой монолог обещанием: Я буду работать. Ну то, что он военное дело работой не считает, оставим. Никто из военных вообще о своей службе ничего не говорит и не сообщает. Вся эта их военная служба, да еще – артиллерийская, сплошные декорации, все это – фикция, для отвода глаз.
Но все же, коль скоро мы принимаем эту игру, – каким образом Тузенбах попал сюда? Судя по его монологу, он представитель аристократической семьи, он обладает привилегией учиться в корпусе, но жить дома – такую возможность имели далеко не все кадеты. Он обеспеченный человек, во всяком случае в третьем акте он появляется в новом и модном, подчеркивает автор, костюме, стало быть, деньги есть. Никаких особых денежных средств при выходе в отставку ему не полагалось, этот модный костюм стоит денег, стало быть, он их откуда‐то достает. Не слышно, чтобы он их зарабатывал – в отставку вышел, но, видимо, тоска по труду не получила еще удовлетворения. Вот, наверное, она утолится на кирпичном заводе. Да, он все‐таки – комический персонаж, не всегда понимающий, кажется, что говорит. Что это за лакей, который стаскивал с него сапоги – полусапожки черные с желтым верхом, такие носили в корпусе, где учился Тузенбах, это не дело лакея, для этого полагался дядька – Савельич. Ну уж в таких‐то – аристократических – семьях.
Сколько же служит Тузенбах? В первом акте он говорит, что ему нет еще тридцати, допустим, что он ровесник Ольги и ему двадцать восемь лет. Он – поручик. Если предположить, что он учился отлично, то выпущен был из Второго кадетского корпуса в Петербурге, а именно он готовил офицеров в артиллерию, в чине – подпоручика. Ну допустим, что он окончил корпус в восемнадцать лет – значит, он служит уже десять лет. Соленый старше его – штабс-капитан, и нигде не видно, что Соленый оканчивал такое привилегированное военное учебное заведение, как Тузенбах. Но все равно – если допустить, что Тузенбах все десять лет прослужил в этом городе, то он познакомился с Ириной, когда ей было десять лет. Когда ж влюбился? Ну, когда ей было, положим, шестнадцать – стало быть, четыре года. И три из них – при отце. Вот он в каком же статусе находился в этом доме при живом еще отце? И как к нему относился отец?
И вообще, как это может быть, что поручик становится своим человеком в доме генерал-майора, командующего бригадой? Ведь ведет он себя в доме, что называется, как свой человек. И сколько лет он говорит Ирине о своей любви – он для Ирины, как крепкий нюхательный табак, у нее от него слезы текут. В начале акта она счастливая, говорит какие‐то прекрасные и глупые слова и радуется жизни, а вот в этой сцене, всего лишь через несколько минут, ну может быть, полчаса всего прошло, она плачет и говорит через слезы: Вы говорите: прекрасна жизнь <…> У нас, трех сестер, жизнь не была еще прекрасной, она заглушала нас, как сорная трава… И дальше – любимая тема Тузенбаха, она просто вторит Тузенбаху: Мы родились от людей, презиравших труд… Хороший дуэт, и ничего не скажешь – какая аттестация родителей! В двадцать лет Ирине ужасно захотелось работать, но после гимназии она, кажется, палец о палец не ударила, говорим это, конечно, без упрека. Как же можно упрекать барышню, которую жизнь заглушает, как сорная трава. Нет, все‐таки Тузенбах на нее действует хуже, чем Ленский на Ольгу, а тот тоже ведь измором барышню берет. Вот она и заговаривается. Слова – щемящие, но ведь кто-кто, а отец-то трудился. Это тяжелый труд – быть армейским, артиллерийским командиром. Опять слова сами по себе, а жизнь, какова она есть, сама по себе. И все‐таки каким образом барон, после привилегированного военного учебного заведения, барского дома в Петербурге, попал сюда – в этот здоровый славянский климат. Где же умиляющаяся немецкая мама, где связи, родственники и прочее, что могло бы наверняка помочь ему получить более комфортабельное, удобное и близкое к маме место службы?
Или вот такой – непреклонный характер, сам выбрал дальний гарнизон, все, дескать, своим трудом. Но он не считает свою службу трудом, он ею вовсе не занимается. Он умудрился в страшную ночь пожара уже быть в отставке. И все болтать, столько болтать, болтать – и заснуть, как говорится, на самом интересном месте. Устал я, однако, – говорит он, проснувшись. Да отчего устал? Отчего? От нечего делать. А слова – красивые, звучат замечательно, ну просто – стихи. Вы такая бледная, прекрасная, обаятельная… Мне кажется, ваша бледность проясняет темный воздух, как свет…Вы печальны, вы недовольны жизнью… О, поедемте со мной, поедемте работать вместе! Темный воздух – это что, дым от пожара? Нет, никто не пожалеет барона в четвертом акте. И – справедливо. Маша его наконец выгоняет: Николай Львович, уходите отсюда. Странно было бы, если бы барон ушел сразу, без трогательно-назойливого монолога:…Я гляжу на вас теперь, и вспоминается мне, как когда‐то давно, в день ваших именин, вы, бодрая, веселая, говорили о радостях труда… И какая мне тогда мерещилась счастливая жизнь! Где она? У вас слезы на глазах. Ложитесь спать, уж светает… начинается утро…
О том, как Ирина плакала и говорила о заглушающей их жизни, он, разумеется, не помнит, не помнит, что это он ее довел до слез тогда, впрочем, как и сейчас. Положительно, у него какой‐то дар доводить девушку до слез. Маша еще раз настойчиво просит его уйти, он уходит – фонтан иссяк. Вообще Маша это самый разумный человек в этой всей компании, не считая Соленого. За Соленым чувствуется школа жизни, он человек положительный, плотный, Тузенбах – из воздуха сотканный паяц. Интересно, так каждый год из четырех, которые прошли с первого акта, он доводит Ирину до слез? Надо полагать, что именины-то справляли и дальше. И так вот – каждые именины, да что именины – каждый день, ведь он еще и поселился в этом доме. Бедная Ирина, и какое же облегчение она должна испытывать в четвертом акте.
Вершинин сам любитель поговорить, и поговорить со вкусом, бесконечно повторяя одно и то же. Но в этой странной пьесе все любят поговорить, и говорят с видимым удовольствием об одном и том же, не особенно внимательно, кстати, друг друга слушая. Вершинин – краснобай, что, кажется, не очень идет военному, но в данный момент ему просто неохота понимать суть мысли Тузенбаха и рассуждать о страданиях, ему нравится квартира, в которую он попал, нравится, что в ней находятся красивые женщины и что в ней много цветов.
Он отзывается о доме Прозоровых, как о квартире, может быть, потому, что это военное, профессиональное выражение. Быть расквартированными, находиться на зимних или летних квартирах. Но все равно непонятно, почему дом, особняк со старым садом, длинной еловой аллеей, уходящей к реке, он называет квартирой. Ведь он находится на втором этаже большого, по сути дела, барского дома. Откуда взялся такой барский дом, да не просто дом – усадьба, у генерал-майора, командующего дивизией, одиннадцать лет назад переведенного в этот город – другой вопрос. Да и переводили его, скорее всего, с присвоением чина, стало быть, он был полковником, не надо думать, что содержание полковника, да еще с большой семьей было таково, что можно было позволить себе купить такой дом и сад. Квартира, и довольно приличная, ему полагалась, но откуда деньги, чтобы приобрести такую усадьбу? Максимально, что мог получать генерал-майор, – примерно четыре тысячи в год, и то при усиленном жалованье. Это где‐то триста тридцать в месяц, причем выдавалось жалованье раз в три месяца. Четверо детей – это, конечно, не нищета, далеко не нищета, но на такие деньги построить или купить такой дом и сад? На что его содержать?
Это обстоятельство – роскошный огромный дом – должно было бы поразить Вершинина больше, чем просто чудесная квартира, в которой много цветов. Как бы то ни было, но квартира снижает поэтическую ремарку первого акта. Это, казалось бы, едва заметное понижение ранга что‐то неуловимо изменяет в общей тональности действия: А я всю жизнь мою болтался по квартиркам с двумя стульями, с одним диваном, и с печами, которые всегда дымят. У меня в жизни не хватало именно вот таких цветов… Эх! Ну, да что! Когда это он болтался по квартиркам, ведь он до сего дня пребывал в Москве, и нет никаких данных, что он служил в других местностях. А в Москве он мог бы найти квартиру и с недымящими печами, тем более что печное дело в Москве стояло исключительно высоко. Секрет называемых по имени гениального мастера гнусинских печей не разгадан до сих пор. Или он имеет в виду свою молодую холостую жизнь, когда об устройстве быта как‐то мало думалось, потом неудачный первый брак, на который нужно было испрашивать разрешение начальства, которое редко давалось, а теперь вот второй, на который тоже надо было просить разрешение, такой же неудачный, да еще и с двумя девочками, да еще и с тещей? Первый брак покрыт тяжелым слоем пепла, но все‐таки – что это такое было? Ведь развестись в те годы дальние, глухие было невозможно – только если кто‐то объявит публично доказательства супружеской измены, и как правило, измены женской. Бракоразводный процесс – это всегда было испытанием мерзким. Это одна из страшных коллизий «Живого трупа», да можно вспомнить и тяжелый разговор Каренина с адвокатом в романе Л. Толстого. Других причин для развода быть не могло, ну, может быть, одно крайне интимное – и к Вершинину уж точно не подходящее. Или он жену… уморил?
В доме Прозоровых в Москве его называли влюбленным майором. Очевидно, он тогда был влюблен в свою первую жену – иначе после такого бракоразводного процесса ему в обществе места не было, и вряд ли после первого брака, разведенный или уморивший жену, он мог рассчитывать на такое игривое, насмешливое прозвище. Или он к этому времени был, что называли, интересный вдовец? Похоже, что прошлая личная жизнь Вершинина несколько загадочна, а нынешняя уж точно, как сказали бы мы сейчас, не сложилась. Быт его не устроен. Но все равно причем тут два стула и диван.
Вряд ли все его семейство помещается на двух стульях и диване. Конечно, эти стулья с диваном своего рода метафора, опять еще одна нота в общую тональность пьесы. В реальность этих двух стульев как‐то не очень верится. И не потому не верится, что так не могло быть.
Недостаточность средств низшего офицерского звена было обычным явлением в царской армии, так же, кстати, как и в современной. Быт младшего армейского офицерства был унизительный. Хотя квартира им полагалась все же – казенная или деньги на квартиру, конечно, в целях экономии этих квартирных могли снимать что‐то подешевле, но все же немножко побольше двух стульев. В этом смысле тоже мало что изменилось. Не верится, прежде всего, потому, что мы чувствуем противоречие между фактами, о которых говорит Вершинин, и тоном его речи и поведения. У него тон речи и поведения генеральский, этот тон очень далек от двух стульев. И не важно, каков его быт на самом деле, хотя он все‐таки намного комфортнее, чем в те годы, о которых вспоминают он и не сразу признавшие его сестры. Если уж продолжить финансово-экономическую тему, то сейчас его жалованье штатное – полторы тысячи, усиленное – до трех. Немного, учитывая семью, но и далеко не бедность. Хотя, конечно, о таком доме, в который он попал сейчас, он и мечтать не мог. Важно несоответствие одного другому, из этих, казалось бы, пустячных, отчасти, может быть, кажущихся надуманными несоответствий фактов и поведения, поведения и тона, и соткана вся атмосфера пьесы. Вообще, весь монолог о стульях, диване и цветах, которых не хватало в жизни седого командира батареи, похож на пересказ в прозе какого‐то жестокого романса.
Интонации жестокого романса будут встречаться в этой пьесе и дальше, неуловимо, но отчетливо влияя на атмосферу некоторых сцен. Ну, мог бы он в придачу к двум стульям купить хотя бы горшочек с геранью? Или у сестер какие‐нибудь необыкновенные редкие орхидеи, о которых всю жизнь мечтал, но по недостатку средств никогда не мог себе позволить простой обер-офицер? Или нынешняя жена его, полоумная, если доверять аттестации Тузенбаха, не любит цветов, или, может быть, теща их не любит?
Заметим в скобках: то, что делает Тузенбах, рассказывая не очень приятные подробности из семейной жизни своего командира, называется не чем иным, как сплетней. Тузенбах говорит о своем новом командире: По‐видимому, славный малый. Неглуп, это – несомненно. Назвать своего командира славным малым, даже в кругу своих людей – несколько странно. Это генерал мог бы так отозваться о подполковнике, но поручик? Но в целом его характеристика Вершинина иронична и дает представление о нем как раз обратное. Только говорит много – особенно интересно слышать это замечание из уст Тузенбаха. И стулья, и диван, и печки, и отсутствие цветов – за всеми этими словами Вершинина встает атмосфера жизни бедного офицера из какого‐нибудь захолустного гарнизона и звучит давно забытая и ушедшая из нашей жизни русская семиструнная гитара. Но быт московского офицера Вершинина как-никак отличается от быта офицера, служащего в глухом местечке на границе Царства Польского, как поручик Ромашов, а они все‐таки не в равном положении. Странно, но в пункте о цветах Вершинин сходится с Наташей, ей тоже не хватает цветов, она даже мечтает срубить еловую аллею и разбить на ее месте цветочные клумбы. Вершинин, когда жил на Немецкой улице, хаживал, как он говорит, в Красные казармы. Хорошо это словечко «хаживал»! Оно выдает его с головой, его генеральский тон: поручики и капитаны не «хаживают». Их манеру перемещаться по тротуарам следовало бы называть как‐нибудь иначе. Что‐то об этом, кажется, есть у Гоголя в «Невском проспекте». Я хаживал, это вроде как «я прибыл» вместо того, чтобы просто сказать: «я приехал». Некоторая разница в оттенках.
Кстати, это хаживанье в Красные казармы, которые отлично, правда, с некоторыми поздними надстройками, сохранились до сих пор, означает, что Вершинин был ко времени знакомства с Прозоровыми в Москве не строевой офицер, а был он преподавателем в Московском пехотном юнкерском училище, известным позже еще как Алексеевское военное училище в честь наследника Алексея Николаевича, и которое как раз располагалось в Красных казармах за Яузой. Других причин хаживать в Красные казармы у него быть не могло. Наверное, юнкерам, хоть и готовились из них – подпрапорщики пехоты, что‐то надо было знать и об артиллерии, и о баллистике. Надо сказать, что по престижу в военном мире это училище считалось третьим в Российской империи, и преподавать в нем, надо думать, могли далеко не все офицеры, а только имеющие хорошее военное образование. Какое образование мог иметь «влюбленный майор» – скорее всего Михайловскую артиллерийскую академию, после трех лет обучения в которой он должен был отслужить в артиллерийском ведомстве за каждый год полтора.
Будем считать, что слушатель академии Вершинин был не последним в успехах и, получив нагрудный академический знак, окончил еще так называемый дополнительный класс, что давало некоторые приятные преимущества при получении штабс-офицерского звания, да и еще целый годовой оклад при выпуске. Так что, похоже, «влюбленный майор» был на самом деле капитаном и имел честь и право преподавать в Московском пехотном юнкерском училище. Как мы видим – карьера, не заставившая его тянуть армейскую лямку, он вот только сейчас именно и начал ее тянуть, карьера до сих пор была – академическая, но очень неплохая. Что же он мог преподавать юнкерам – все части артиллерии, технологию, теоретическую механику, практическую механику, химию, мог бы еще – высшую математику, физику, стратегию, фортификацию, тактику, историю военного искусства и много еще чего, но не все, конечно, из его знаний могло пригодиться и входило в курс юнкерского училища. Но все равно – образование у Вершинина блестящее, включало знание французского и немецкого языков. Вы читаете по‐английски? – спрашивает он Андрея, непонятно чему удивляясь: какая невидаль в то время – читать по‐английски. Он сам должен читать по‐английски – артиллерийский офицер, преподающий в одном из лучших российских военных училищ, должен был бы читать специальную литературу, в том числе и на английском языке. Вообще дело с высшим, академическим военным образованием было поставлено высоко – и знание языков предполагалось необходимым. Другое дело, что военные академии, это, конечно, элита, выпускники военных академий – белая, что называется, кость. Бойцы вспоминают минувшие дни и битвы, где вместе рубились они… – вот о чем в пьесе военные никогда не вспоминают, ни разу об этом не говорят, это их нисколько не интересует. Ну такие военные: неинтересно им обсуждать службу и все, что с ней связано. Они ею едва ли не тяготятся. Карьера Вершинина – карьера академическая. Что же случилось, что эта карьера прервалась и он должен был покинуть Москву?
Это остается покрытым мраком неизвестности.
Вершинин только что прибыл из Москвы, а говорит о ней, как о чем‐то очень, очень далеком, как бы вспоминая давно прошедшее время. Эта интонация воспоминания, вглядывания во что‐то, скрывшееся во времени, во что‐то постоянно ускользающее, эта интонация песка, просеивающегося сквозь растопыренные пальцы, свойственна вообще всей пьесе. Если что‐то и реально в этой абсолютно нереальной пьесе, то это время, проваливающееся в вечность. Этот вал катящегося времени, в котором беспомощно барахтаются действующие лица, почти физически ощутим. Он приносит страдания. Это как бег во сне. Реальная же жизнь сестер, брата и окружающих маячит в отдалении. И Вершинин, и сестры вспоминают что‐то дорогое и почти потерянное, но никто не задаст Вершинину такой естественный в реальных обстоятельствах вопрос – а как там, в Москве, сейчас, что в Москве нового? Что это, например, за театр такой открылся с необычным названием – Художественный? И почему он еще и общедоступный? И правда ли, что в Москве собираются строить подземку? И что будто бы прямо на Красной площади собираются возвести центральный вокзал, а такой проект действительно существовал и обсуждался, эскизы до сих пор поражают воображение.
Приезжего из Москвы нового человека должны были бы засыпать вопросами о московских новостях, это было бы логично, тем более что осенью собираются уже быть в Москве, но в данном случае не логика важна, а важна тональность: О, как вы постарели! (Сквозь слезы.) Как постарели! Если Маша действительно вспомнила Вершинина, то последний раз, когда она его видела, ей было лет десять. Подглядывала, наверное, в щелочку за взрослыми вместе с семилетней Ириной. Потом обсуждали, какой такой «влюбленный майор», хорош он собою или не хорош. Как вы постарели! Но надо сказать, что и в те детские машины годы «влюбленный майор» был не то чтобы очень молод. Да и почему его называли влюбленным майором – чин майора к этому времени уже не существовал в русской армии, может быть, это была какая‐то аллюзия, связанная с майором Ковалевым, который, как известно, был кавказский майор? Десятилетней девочке казался, наверное, совсем немолодым.
Удивительно, что не Ольга вспомнила Вершинина, ведь она в то время была уже взрослой барышней и, конечно, могла быть просто знакома с «влюбленным майором». Они даже жили на одной улице, но вот не помнит. Но ведь роман с Вершининым будет у Маши. Вот она и плачет, вспоминая про усы. Стало быть, и помнит его только она одна. Сестры плачут, и в тон им продолжает вспоминать Москву Вершинин: Там по пути угрюмый мост, под мостом вода шумит. Одинокому становится грустно на душе. И это о Яузе! Сначала жестокий бытовой романс про два стула и дымные печи, а потом что‐то на манер баллады Жуковского, как будто он с Иматры вернулся, там действительно средь хладных скал вода шумит. Инструментовка атмосферы удивительная… и заглушает всю неправду пьесы.
Фраза Тузенбаха о наблюдаемых страданиях – неудачная, если не сказать – нехорошая фраза. Но мысль его, наверное, не о страданиях, а о сострадании. То есть о крайне редком состоянии души в наше время. Он наивный человек, чтобы не сказать резче. А может быть, он всего только – влюбленный человек? Всякий влюбленный человек глуповат. Тузенбаху кажется, что если он отметил страдания других людей, то он тем самым уже сделал некоторое усилие к нравственному подъему, а если и кто‐то еще испытывает тоже чувство сострадания, как и он, то вот уже и намечается долгожданный нравственный подъем всего общества.
Тузенбах как бы заговаривает проблему, как знахарь больной зуб. Все это, конечно, очень наивно и в определенном смысле опасно. О таком, кажется, отношении к страданиям предупреждал некоторое время спустя Горький. Правда, Горький нынче не в моде. Но все‐таки то, что в пьесе Чехова монолог о страданиях произносит артиллерийский поручик, и звучит он, почти как стихотворение Надсона, только пересказанное прозой, казалось бы, указывает действительно на известный прогресс российского общества того времени, другое дело, что военные вряд ли играли в этом прогрессе нравственном большую роль.
Военные были своего рода изгоями, жизнь их была мало известна российскому обывателю, интеллигентному в том числе. Только начался в обществе серьезный разговор о военных – и обсуждали-то главным образом недопустимый уровень образования среди подавляющего количества офицеров. Далеко не все заканчивали академии – из восьмисот поступающих, например в Михайловскую, принимали что‐то около восьмидесяти. А в корпусах как их не переименовывали и не преобразовывали – сначала в военные гимназии, потом опять в корпуса – образование велось из рук вон плохо. Российское общество того времени очень хотело видеть прогресс – и он был особенно в технических областях, мы только что вспоминали грандиозный проект подземки. Образованные русские люди, собственно – интеллигенция, с большими и, в сущности, ничем не оправданными надеждами вступали в век двадцатый и вообще были склонны к самообольщению. За изображение интеллигентных военных автора похвалила одна из самых консервативных, если не сказать – злобно реакционных, газет того времени «Русский инвалид». От похвалы такой газеты можно было бы и покраснеть. Года через два та же самая газета обвинила Куприна в клевете на российских военных за его «Поединок». Все это до боли знакомо. Действительно, у Куприна военные совсем другие. В среде купринских военных монолог Тузенбаха невозможен, его бы засмеяли, и справедливо бы засмеяли, хотя вполне возможно, что в их среде увлекались Надсоном. Кстати, недалеко от места дислокации военных из «Поединка» и отправляется в финале «Трех сестер» артиллерийская бригада. Кто ближе к истине в изображении военных того времени? Во всяком случае Куприн знал военную среду лучше Чехова, для него она была своей. Но дело в том, что Чехов хоть и делает (устами влюбленной Маши) комплименты военным, не о них написал пьесу, и с точки зрения изображения военной среды сами военные его интересовали мало.