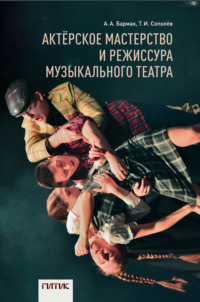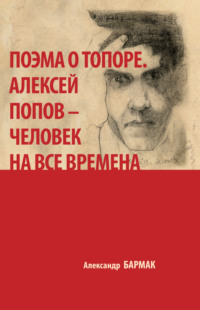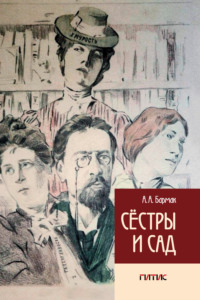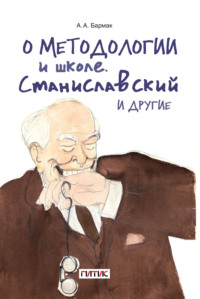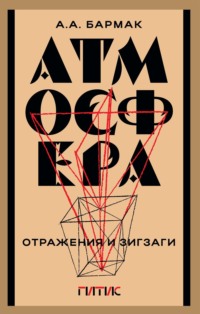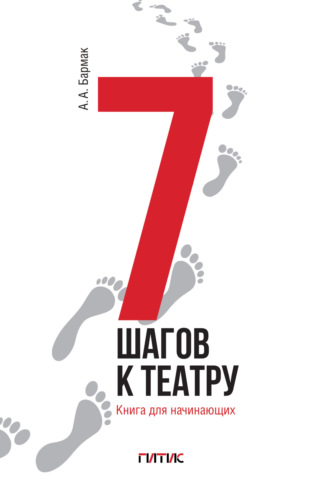
Полная версия
7 шагов к театру. Книга для начинающих
В художественном пространстве, которое незаметно втягивает нас в происходящее внутри него действо, снуют, беседуют, вопят, галдят, поют, преследуют друг друга, танцуют, дурачатся и создают особый музыкальный ритм многочисленные персонажи, и вдруг ты незаметно оказываешься одним из них. Вместе с ними попадаешь в атмосферу этой удивительной всеобщей игры, всеобщего театрального действа.
В этой картине живопись становится театром, театр музыкой, а музыка театром.
Тоже карнавал своего рода.
Но это вообще сила настоящего искусства – увлекать и вовлекать зрителя, слушателя в происходящее действие, делать из него и послушного, и активного участника художественного процесса. У основательных и невероятно подробных фламандцев эта сила велика. Эти картины – настоящий театр жизни – кажется, еще немного, и ты не только увидишь, но и услышишь его. Кстати, в левом нижнем углу картины Брейгеля мы видим персонажей, весьма отдаленно, но все же напоминающих наших хороших уже знакомцев – масок, как будто бы двух персонажей из commedia dell’arte – Арлекина и Коломбину, женщину с набеленным мукой лицом в ожерелье из скорлупы яиц и ее спутника с детской гитарой в руках. Впереди них бредет карлик в маске, схожей с маской Панталоне. В разных местах картины бродячие комедианты дают свои представления, и вся она написана художником так, что представляет собой огромную сцену с кулисами и задним планом. А на сцене идет захватывающее представление.
Брейгель писал свою картину, как будто с галерки смотрел на сцену.
Этот ракурс – гениальная художественная находка.
Конечно, картина великого Брейгеля – произведение философское, но это не мешает ей быть предельно, концентрированно реалистической. Это реализм особого рода. Это как раз реализм театра. В театре его иногда называют фантастическим реализмом – это определение Вахтангова; реализмом, отточенным до символа, как говорил об искусстве Художественного театра Немирович-Данченко. Мы об этом еще будем говорить подробнее, но вам надо всегда иметь в виду, что реализм сам по себе неизмеримо шире любых его определений. Пока же внимательней рассмотрите картину, она многое вам расскажет о мире и о человеке в нем. Кстати, как и одноименная картина Босха, она скажет, надеемся, что‐то новое о той страстной, духовно напряженной эпохе в истории человечества, какими были так называемые Средние века.
Одним из требований венецианского карнавала – а он начинает проводиться регулярно с одиннадцатого века – было требование, предписывающее обязательно надевать маски всем его участникам. Были времена, когда Синьория – верховный совет Венецианской республики – запрещала маски, но все равно их продолжали носить – они давали большую свободу поведения. Под маской все равны – так говорит Арбенин, главный герой драмы Лермонтова «Маскарад», и «если маскою черты утаены, то маску с чувств срывают смело», добавлял он. Да, это верно подмечено, карнавал был искренним, эмоции и чувства не скрывались, как это приходилось делать по тем или иным причинам в будничной жизни.
И вот по великолепным каналам, по ослепляющим от отраженных солнечных лучей днем, а ночью превращающихся в чернила, в которых колышутся огни фонарей, факелов, масляных плошек и смоляных бочек, водам лагуны, по проливу с красивым названием Джудекка, что говорит всего лишь о том, что на берегу канала когда‐то давным-давно проживали венецианские евреи, джуди, Giudei, на венецианском диалекте, сновали в два слоя лака иссиня-черные, как спина акулы, блестящие гондолы с местами для пассажиров, обитыми темным сукном. Гондолы скользили по каналам, рассекая воду своими высоко поднятыми (по ним определяли высоту мостов) носами с железными набалдашниками – ферро, как называли их в Венеции. Они были наполнены оживленными, смеющимися людьми в масках, впрочем, полагалось не более шести особ на одну гондолу. Только гондола Дожа, правителя Венеции, имела вдвое больше мест. На такой гондоле приплывает на совет Дож судить генерала Отелло в пьесе Шекспира «Отелло».
Когда Станиславский ставил спектакль по этой пьесе в Московском Художественном театре, он хотел, чтобы у зрителей создавалось впечатление скользящей по воде гондолы и тихого плеска воды от удара веслом. Он попросил постановочную часть сделать полые весла, в которые налили воду, от взмаха весла вода внутри переливалась, и появлялось ощущение плеска воды в канале. Такой вот театральный прием, довольно простой – как большинство театральных приемов. Вообще театр не любит большой сложности – кроме, разумеется, сложности человеческой жизни. Театр стремится показать жизнь во всей ее правде, глубине и объеме, во всех ее измерениях – прежде всего в измерении человеческого духа; любой театр, во все времена и во всех странах, у всех народов. А вот выразительные средства, к которым прибегает для этого театр, могут быть на удивление простыми.
Многие из плывущих в гондолах персонажей представляли собой героев уже немножко знакомой нам комедии дель арте и были похожи на грациозные фарфоровые фигурки, которые так внимательно изучал Пуаро и которые помогли нам начать наш разговор о театре.
Но случались в восемнадцатом веке в Венеции и такие времена, когда маски должны были надевать все – независимо от того, был ли карнавал или его не было. Такая вот возникла мода, разумеется, неспроста, ведь всякая мода всегда есть ответ на некие иногда не очень видимые процессы в общественной жизни. Она даже, и это очень интересно, угадывает их, предрекает и отражает по‐своему – именно это, кстати говоря, и роднит высокую моду с искусством. Все граждане Венеции, исключая, конечно, так называемый простой люд, носили маски, это был своего рода театр. Маска как бы обязывала к определенному стилю поведения, манере общения. Такого рода постоянный маскарад очень много значил в сложной и тонкой системе взаимоотношений граждан купеческой республики, которой, как вы знаете, была владычица морей Венеция. Обо всем этом можно прочитать в романе Фенимора Купера «Браво, или В Венеции» и фантастической повести Уилки Коллинза «Жёлтая маска».
О Венеции много написано и сказано. Скольких поэтов, драматургов, писателей, композиторов, художников, режиссеров кино и театра она вдохновила на замечательные произведения. Но, пожалуй, для нас всего интересней поэма замечательного русского поэта Аполлона Григорьева «Venezia la bella» – на фоне сказочно прекрасного города раскрывается в поэме драма русского человека.
…И здесь, один, оторванный судьбойОт тягостных вопросов, толков праздных,От дней, обычной текших чередой,От дружб святых и сходок безобразных,Я думы сердца, думы роковойНе заглушил в блистательных соблазнахБылых веков, встававших предо мнойГромадами чудес разнообразных…Хоть накануне на хребте своем,На тихом, бирюзово-голубом,Меня адриатические волныЛелеяли… хоть изумленья полныйБродил я день – душою погруженВ великолепно-мрачный пестрый сон…Комедия дель арте и сегодня нередкий гость на сцене. В родной Италии она не только предмет старины, там существует целый институт, изучающий ее, есть и труппы, которые ее играют. Хотя это все‐таки только тень, только подобие той великой народной комедии, которая просуществовала три сотни лет, от пятнадцатого до конца восемнадцатого веков, и навсегда уступила свое место театру литературы, театру драматурга. Не потому, конечно, что современные актеры комедии дель арте менее талантливые, чем их далекие предшественники – нет, были в двадцатом веке и есть сейчас замечательные актеры комедии дель арте. Например, невозможно забыть спектакль великого итальянского режиссера Дж. Стрелера «Арлекин – слуга двух господ» по пьесе Гольдони, составивший эпоху в мировом театре. Этот спектакль, поставленный в 1947 году, имел несколько редакций, стал всемирно известным и идет до сих пор! Это кажется невероятным, но это так. И все благодаря не только режиссуре Стреллера, но и виртуозной игре двух актеров – сначала роль Арлекина играл Марчелло Моретти, а с 1963 года эту роль исполняет Ферруччо Солери. Несколько раз спектакль Стреллера приезжал в Россию с Ферруччо Солери, и все, кто его видел, не могут забыть тех чувств изумления и восхищения, которые вызывал у них этот замечательный актер.
Но все‐таки это исключение, подтверждающее правило.
Не следует забывать о зрителе – он вместе с режиссером, актерами соавтор спектакля! Наивные сценарии комедии масок были рассчитаны на зрителя своего времени; современного зрителя они вряд ли удовлетворят. Сдача позиций комедии дель арте началась где‐то чуть позже середины восемнадцатого века, и произошло это не сразу, постепенно и не безболезненно. Хорошо известна борьба двух великих деятелей итальянского и мирового театра – Карло Гоцци и Карло Гольдони.
Гоцци, яростный сторонник комедии дель арте, был непримиримым противником Гольдони, а Гольдони ратовал за новый театр, театр большой драматургии, в котором вместо маски, пусть и с самыми изощренными приемами актерской игры, был бы на сцене подлинный живой человек. Гольдони понимал, что импровизация в заранее обговоренных предлагаемых обстоятельствах сценария стала для театра уже недостаточной, даже тормозящей его развитие и сужающей его роль в общественной жизни Италии. Театру стала необходима точная, крепкая литературная основа – пьеса, драматургия, дающая образ живого человека. Именно так к этому времени давно обстояли дела в других странах, там появились великие драматурги. И Гольдони сделал это для Италии. Не надо забывать, что во времена Гольдони собственно Италии как государства еще не было, она была раздроблена на части, представляла собой россыпь небольших и не всегда находящихся в приязненных отношениях государств. Кроме того, в этих государствах говорили часто на разных диалектах итальянского языка, иногда непонятных – венецианский диалект далеко не всегда был понятен, скажем, на юге, а неаполитанский – на севере страны. Гольдони дал Италии национальный театр, он объединил Италию театром, намного раньше политического объединения страны, которое произошло только в последней трети следующего, девятнадцатого века. Он писал замечательные, порою гениальные пьесы, и хотя он в них использовал иногда традиционные персонажи комедии дель арте, это уже были не просто маски, а живые люди, иногда носящие имена прежних масок (да и только), но говорящие на языке, ставшем понятным всем. То есть он брал человека во всех, так сказать, его измерениях, в полноте его чувств и мыслей, во всей многогранности его жизни. Как малый мир, микрокосм, «человек есть мера всех вещей» – так утверждал древнегреческий философ Протагор, и эта старая, и нельзя сказать, что неправильная, на какое‐то время забытая мысль стала девизом времени.
Конечно, такой театр требовал другой техники актерского искусства и ставил совершенно новые задачи, прежде всего – задачу перевоплощения, основного в искусстве актера, а тут одной только маской не обойтись. И хотя в пьесах Гольдони, как мы говорили, еще действовали старинные маски, его театр уже в принципе иной – психология человека, его внутренний мир вставали на первое место. Таково было требование времени. В Италии это произошло в восемнадцатом веке по известным нам причинам, в Англии намного раньше – в конце шестнадцатого века уже творил великий Шекспир, во Франции семнадцатый век отмечен гениями Корнеля, Расина и Мольера, в Испании в шестнадцатом веке писал свои пьесы великий Лопе де Вега.
Россия – молодая страна, и в ней профессиональный театр возник в восемнадцатом веке, он вобрал в себя все лучшее, что было в европейском театре, и возник уже в общем как театр драматурга.
Хотя и Россия, как мы помним, знала народное актерство, скоморохов, а балаган, этот своеобразный вид народного русского театрального действия, жил еще очень долго, его простонародное, но благородное искусство оказало огромное влияние на театральных художников, режиссеров, драматургов, как это ни странно, в начале двадцатого века.
И среди спектаклей труппы первого профессионального русского театра, возглавляемой Фёдором Волковым, которые шли в переделанном под театральное помещение старом каменном амбаре на берегу Волги, были произведения св. Димитрия Ростовского, его литургические драмы, такие, как «Успенское действо», «Рождественское действо» (его еще называют «Ростовским действом»). Эти пьесы ростовского митрополита, очевидно, связаны еще крепкими нитями с народным театром. «Ростовское действо» св. Димитрия Ростовского – по существу его можно считать первой русской оперой – можно увидеть и сегодня – много лет этот спектакль идет в Московском камерном музыкальном театре им. Б. А. Покровского.
Разумеется, в разных странах сложный процесс слияния собственно театрального действа и литературной драмы, когда в театр пришел автор, писатель-драматург, и навсегда утвердился в нем, происходил по‐разному. Но во всех случаях было нечто общее. Стало очевидным, что для раскрытия на сцене психологии человека и всех его сложных отношений с жизнью, одной только маски, каким бы искусным ни был актер, эту маску представлявший, было явно недостаточно.
Народный театр commedia dell’arte блестяще развил актерскую технику, поставил собственно актерское искусство на очень большую высоту. Но это привело к тому, что сама по себе маска стала уже мешать актеру, ее стало недостаточно, чтобы выразить на сцене во всей полноте ту, по словам немецкого поэта Генриха Гейне, вселенную, что представляет собой человек. Гольдони утверждал народный театр, как он его понимал, в правдивом изображении человеческой жизни и сделал театр выразителем народных чаяний и надежд.
Но ведь и комедия дель арте тоже в свое время была народным театром? Да, но это время прошло, и она постепенно превратилась в прелестную забаву и не удовлетворяла потребностям нового времени, нового человека, нового мира, стремительно меняющегося и сбрасывающего с себя путы феодального общества. Этот мир пугал и был неприятен аристократу Гоцци, именно поэтому он в своих пьесах уходил в сказочную фантастику, а Гольдони сам был представителем этого нового мира. Борьба была ожесточенной; в какой‐то момент в ней победил Гоцци, и ему удалось вытеснить Гольдони с театральной сцены Венеции. Но все равно в этой борьбе не только двух незаурядных личностей, но двух эпох, старого и нового времени, в конечном итоге победил Гольдони, хотя эта победа далась ему очень нелегко, коль скоро он покинул родину – много лет он провел в изгнании. Он умер в Париже, тоскуя по Италии. Помните, как у Пушкина в пьесе «Каменный гость» одна из героинь, актриса Лаура, говорит: «Там, далеко на севере – в Париже…» Русскому уху это странно слышать, а героиня Пушкина испанка, да и для южан-итальянцев Париж – на севере, а стало быть, там непременно холодно. Что же говорить о России – для итальянцев это была страна снега, льда и мороза, в те времена они говорили о южном городе Одессе, прибавляя эпитет – «затертая во льдах».
Но и к нам в «полнощные», то есть северные, края заезжала итальянская комедия, правда, на закате своей жизни – труппы комедии дель арте впервые приехали в Россию в царствование Анны Иоанновны, играли при дворе Елизаветы Петровны и Екатерины Великой. Представления итальянцев оказали влияние на русское образованное общество того времени; видел их и наш русский поэт и драматург Александр Петрович Сумароков – один из создателей русского театра, называемый современниками отцом русского театра.
А великий Гольдони похоронен далеко-далеко от родной Венеции, где теперь на площади Кампо Сан Бартоломео стоит его памятник, на плечах и треуголке которого находят пристанище голуби, которых в Венеции великое множество. Не забыт и Гоцци – время все стирает, и хотя памятника в Венеции ему нет, пьесы или, как он их называл, фьябы для театра идут на сценах театров мира. На этих фьябах режиссеры оттачивают свое мастерство. Фьябы Гоцци – это фантастические пьесы-сказки, одинаково захватывающие и взрослых, и детей.
Комедия дель арте не исчезла совсем, это было бы просто невозможно. И дело не только в том, что до сих пор ее играют и часто, как мы убедились в этом выше, с большим успехом. Не только потому, что она послужила созданию таких великих, оказавших огромное влияние на мировой театр спектаклей, как «Принцесса Турандот» гениального Е. Вахтангова по сказке Гоцци. Или таких, ставших вехами в двадцатом столетии опер, как трагическая последняя опера великого итальянского композитора Дж. Пуччини «Турандот», замечательная опера С. Прокофьева «Любовь к трем апельсинам» по сказке того же Гоцци.
Сохранился дух комедии дель арте – это прежде всего. С ней тесно связано художественное понятие театральности, то есть яркости, оригинальности, увлекательности сценической формы, отточенного актерского мастерства. Кроме того, а может быть, это и есть самое главное, что дала нам старинная комедия, искусство ее актеров оказало колоссальное влияние вообще на актерское искусство.
Комедия дель арте – абсолютное торжество актерского искусства.
Актер комедии дель арте – подвижный, ловкий, гибкий, сообразительный, остроумный импровизатор текста и действия, ведь ему самому, как мы убедились, приходилось сочинять текст, подавать реплики по ходу спектакля, он должен был уметь все. Танцевать, петь, жонглировать, делать акробатические трюки, фехтовать. Иными словами, обладать всем тем комплексом актерского мастерства, которое, собственно, и позволяет быть актером и без которого нельзя достигнуть тех высот, когда актер становится артистом, художником.
Все навыки актерского искусства, которые были выработаны и накоплены комедией дель арте, входили в фундамент любой театральной школы. Импровизация или импровизационное самочувствие актера стало одной из основ знаменитой системы Станиславского, об этом нам нужно будет обязательно поговорить. К этому надо добавить, что все персонажи комедии дель арте, в сущности, до сих пор живы – только существуют они под другими именами, иными обличьями, говорят на разных языках, в пьесах самых разных авторов, в театрах разных стран.
Три хрупкие грациозные трогательные фигурки – Арлекина, Пьеро и Коломбины, в тех или иных вариантах, маячат в воздухе театрального представления. Они являются главными героями практически всех пьес, конечно, появляясь в них в разных обличьях, иногда на первый взгляд совершенно неузнаваемых. Счастливый влюбленный Арлекин, несчастный Пьеро и Коломбина, вскружившая голову им обоим, но, кажется, по‐настоящему никого не способная полюбить. Она постоянно решает и взвешивает; пожалуй, она все же благосклонна удачливому и находчивому Арлекину, а над робким Пьеро смеется, иногда злобно, но, говоря откровенно, при этом никогда не лишает его надежды. Она, бессердечная, не хочет видеть, что за блеском Арлекина скрывается холодность, а за робостью Пьеро – горячее сердце. В этом вся она: очаровательная и расчетливая; что ж, таково ее амплуа. Чуть ниже мы поговорим о театральном значении этого слова, которое в переводе с французского означает «должность», «род занятий».
Рядом с ними на полке за стеклянной дверцей шкафа, которую с удовлетворением закрывает великий сыщик всех времен Эркюль Пуаро, стоят нежная Пьеретта, хитрый Пульчинелла и его, увы, неверная подружка. На самом деле персонажей в комедии дель арте было множество, более сотни, так сказать, на все случаи театральной жизни. Такое количество масок, конечно, давало комедии возможность разнообразить типы человеческих характеров и человеческих взаимоотношений. В чем‐то маски были родственны друг другу, а в чем‐то они разнились. Со временем их амплуа менялось, какие‐то черты характера утрачивались, что‐то приобреталось новое. Это понятно – существенно менялись условия жизни и взаимоотношения людей, соответственно более изощренной становилась актерская техника, и тем больше требовалось нюансов и оттенков, чтобы передать на импровизированной сцене все цвета жизни, пока, наконец, старинная комедия не переросла самое себя и не превратилась в тот театр, который мы знаем сегодня. Он остался все же больше, как памятник, а не как живое искусство.
В разных регионах Италии и в разных странах Европы персонажи назывались по‐разному. Пульчинелла – это, конечно, наш русский Петрушка, в Германии он Кашперль, Гансвурст, в Англии – Панч, во Франции – Полишинель, в Дании – господин Йоккель, в Голландии – Ян Клаассен и Ганс Пикельгеринг (в переводе – Ганс Копченая Селедка), в Турции – Карагёз (в переводе – черноглазый), в Польше – Кашпарек…
Пьеро – персонаж французского народного театра. Не сразу он приобрел тот образ печального влюбленного, к которому мы привыкли. Вообще эта троица – Пьеро, Арлекин и Коломбина – стала наиболее популярна из всех персонажей комедии; они как самостоятельные образы зажили своей жизнью в произведениях литературы, живописи, музыки, кино, эстрады.
Пронизана воздухом итальянской комедии масок гениальная фантасмагория немецкого романтика Эрнста Теодора Амадея Гофмана «Принцесса Брамбилла». В образе Пьеро выступал знаменитый русский артист эстрады Александр Вертинский; в поэтической комедии француза Эдмона Ростана «Два Пьеро, или Белый ужин» действуют Коломбина и, как видно из названия, два Пьеро, один из которых, на самом деле, конечно, Арлекин. Известны картина французского художника Антуана Ватто «Жиль в костюме Пьеро», так называемый двойной автопортрет Александра Яковлева и Василия Шухаева «Пьеро и Арлекин», картина Поля Сезанна «Арлекин и Пьеро», «Арлекин и дама» К. Сомова; гениальный музыкальный цикл австрийского композитора Арнольда Шенберга «Лунный Пьеро». Необыкновенно тонкая и, пожалуй, самая романтическая и вместе с тем глубоко человечная трактовка образа Пьеро дана в великом фильме французского режиссера Марселя Карне «Дети райка». История Пьеро, Арлекина и Коломбины нашла свое знаменитое воплощение в музыкальном театре в одной из самых знаменитых во всем мире опер – «Паяцы» Р. Леонкавалло. В музыкальной драме итальянского композитора старинная история взаимоотношений трех знаменитых масок предстала подлинной трагедией, в которой маски, как бы растворяясь на человеческом лице, открывают истинную сущность человеческих характеров, обнажают боль и трагедию человеческого сердца. В замечательном прологе оперы, вокальном монологе, в котором Паяц рассказывает о ремесле бродячих артистов, говорится о том, что театр и жизнь в их искусстве неразрывны. Ну и наконец песня, с которой начиналась слава нашей знаменитой певицы Аллы Пугачевой, называлась «Арлекино».
Трудно даже перечислить, какое количество художественных произведений, причем в самых разных искусствах, посвящено нашим героям, и в скольких из них просвечивают их образы. Чуть выше мы приводили в пример героев Гоголя – Ноздрёва и Чичикова. Но вот еще один пример из русской классической литературы. Вы, конечно, хорошо знаете великую комедию А. Грибоедова «Горе от ума». Вглядитесь пристальней, и вы увидите, что и в ней угадываются три знаменитых персонажа – в образах Софьи, Молчалина и Чацкого. Пьеро, Арлекин и Коломбина – их далекие предки. Если вы захотите, то сможете и в других героях комедии Грибоедова угадать иногда еле уловимые, а порой отчетливые черты старинных театральных масок-персонажей. Да вот взять хотя бы полковника Скалозуба – он дальний родственник все того же Капитана, а стало быть, состоит и в родстве с Ноздрёвым. Оба они как бы две интерпретации старинной маски. Грибоедов Капитана, так сказать, повысил в чине, сделав его полковником. А Гоголь просто-напросто выгнал его из полка. Лизонька, служанка в доме Фамусова и дальняя родственница Смеральдины из итальянской комедии, влюблена в буфетчика, как она называет его, Петрушу. Петруша – это так называемый внесценический персонаж, но какое же совпадение, вы подумайте – Петруша, Петрушка. Не был ли возлюбленный Лизоньки похож на Петрушку, если б появился нечаянно на сцене? Веселый, наверное, малый этот Лизонькин Петруша.
На русскую сцену Арлекина, Пьеро и Коломбину вывел впервые поэт Александр Блок. Они появились главными героями его знаменитой пьесы «Балаганчик». «Балаганчик» был гениально поставлен режиссером Вс. Мейерхольдом в декорациях Н. Сапунова в театре на Офицерской – так назывался театр великой русской актрисы В. Ф. Комиссаржевской – в 1906 году. Сам режиссер сыграл роль Пьеро. Есть знаменитый рисунок художника Н. П. Ульянова «Портрет Вс. Мейерхольда в костюме Пьеро». По этому портрету видно, что, конечно, образ Мейерхольда был мало похож на традиционную маску итальянской комедии, да и не следует понимать этот спектакль как попытку возродить на русской сцене старинную итальянскую комедию. Пьеса Блока была предельно современна и предельно иронична, эксцентрична, балаганчик был вполне русским изобретением, классическая тройчатка масок давала возможность чисто театральными приемами вскрыть, ужаснуться и осмеять болезненные явления эпохи. Современный театр, реалистический, психологический, дающий часто в то время как бы беспристрастную картину мира, и театр символистский, уводящий от реальной современной жизни, как казалось Блоку и Мейерхольду, этого сделать не могли. Отсюда и поворот к старинному театру, театру масок, к народному театральному действу – балагану. Через их художественные исторически выверенные приемы хотелось пробиться к сердцевине современных бед и несчастий. «Балаганчик» был поставлен в непростое время – спустя год после первой русской революции, в атмосфере общественных шатаний и духовного надлома эпохи. Следующий выход на русскую сцену Коломбины, Пьеро и Арлекина состоялся в спектакле-пантомиме «Шарф Коломбины», поставленном Вс. Мейерхольдом в Доме интермедий – был очень недолгое время такой театр в Санкт-Петербурге в начале двадцатого века – по пьесе австрийского писателя и драматурга А. Шницлера «Подвенечная фата Пьеретты».