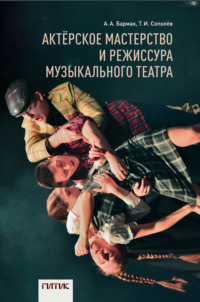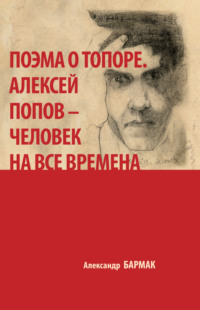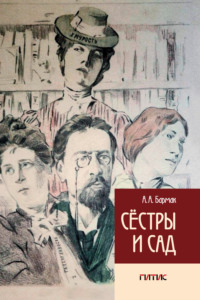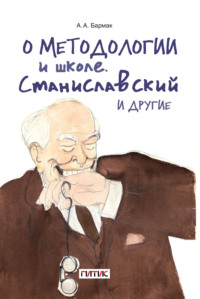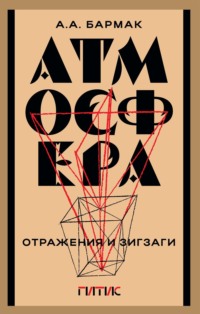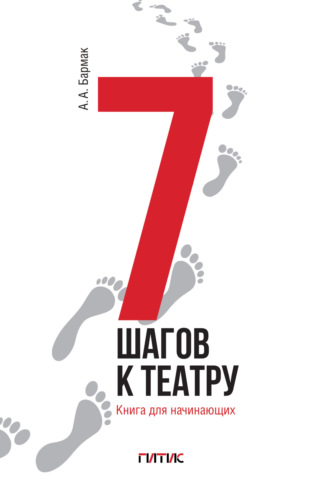
Полная версия
7 шагов к театру. Книга для начинающих
Да, кстати, не забавно ли? Рассказ о знаменитом сыщике Эркюле Пуаро и фарфоровых фигурках носит название «Убийство на балу Победы» – какое совпадение, почти что таинственное, в духе Одоевского, не правда ли?
Звучное, словно громыхающее медными инструментами оркестра слово «матрадура» вам знакомо, конечно, по «Мёртвым душам» Гоголя. Помните, как там Ноздрёв врет Чичикову, что намедни он будто бы пил какое‐то совершенно необыкновенное шампанское, не просто, восклицает он, Клико, а Клико-матрадура! В пьяной голове Ноздрёва все смешалось, спуталось: карточная игра, борзые щенки, шампанское, шашки, шарманка, подпоручик Кувшинников, старинный бальный танец, который доживал своей век в провинции.
Но все это, кажется, не имеет прямого отношения к нашему рассказу. Впрочем, не совсем так, вернее, совсем не так.
Коль скоро мы заговорили о гениальной гоголевской фигуре Ноздрёва, наверное, надо сказать и о том, что он – врун, бахвал, забияка, балагур, трус и любитель выпить – очень напоминает по своей природе Капитана, старинную маску итальянской комедии. Да и собеседник Ноздрёва, Чичиков, какими‐то едва уловимыми, но все же существующими нитями связан со знаменитой маской Бригеллы, так называемого умного слуги. Это сходство на первый взгляд весьма отдаленное, но чем внимательнее всматриваешься, тем отчетливее оно становится. В народном театре, в его пьесах и персонажах, еще задолго до возникновения, собственно, комедии дель арте, схвачены были такие предельно точные «зерна» человеческих характеров, типов, что, будучи брошенными на почву литературы, они прорастали многими великими образами мировой литературы, на первый поверхностный взгляд неузнаваемыми.
Но вот взять хотя бы знаменитый средневековый фарс о мэтре Патлене, величайшем жулике и вдохновеннейшем плуте, – именно из этого фарса пятнадцатого века дошло до нашего времени крылатое выражение «Вернемся к нашим баранам». «Мэтр Патлен» – очень смешная пьеса. Неизвестно, кто ее написал, иногда называют ее автором одного из самых замечательных поэтов Средневековья Франсуа Вийона. Но кто бы ни был автором старинной смешной пьески, фарса, на самом деле он все равно, скорее всего, был обработчиком уже существующего ранее сюжета. Сюжета какое‐то время, еще до его литературной версии, игравшегося многими бродячими труппами актеров, которые, как мы это уже знаем, импровизировали текст по ходу представления. Тип ловкого пройдохи-адвоката являлся в представлениях народного или, как его еще иногда называют, площадного театра. Наверное, в каждой труппе имелась своя версия текста фарса о мэтре Патлене. В дошедшей до нашего времени литературной версии фарса этот текст, пожалуй, нашел свое наиболее совершенное воплощение благодаря прикосновению к нему пера талантливого литератора.
Текст пьесы издавался в России несколько раз в очень хороших переводах; познакомившись с ним, а также с репродукциями средневековых гравюр, изображающих некоторые сцены из пьесы, можно почувствовать атмосферу средневекового комического представления.
На суде адвокат Патлен говорит о чем угодно, только не о сути дела – краже пастухом у суконщика трех баранов. Безуспешно судья пытается остановить красноречивого жулика-адвоката словами: вернемся к нашим баранам! Фарс о мэтре Патлене – шедевр средневекового театра. Приведем здесь два кусочка из пьесы, чтобы понять, как выразительны язык и характеры действующих лиц, как остроумна интрига, как легко летит действие пьесы. Вот мэтр Патлен наставляет пастуха, который должен отвечать в суде по обвинению в краже овец.
Патлен. Клянусь святой Марией,Затем, что если пред судьейТы, друг, язык развяжешь свой,То будешь к стенке вмиг приперт.А это нам на кой же черт?Последуй моему советуИ докажи судье, что нетуРассудка в голове твоей:В ответ на все вопросы блей.…Скажу: «Позвольте, господа,Он глуп и, видимо, сейчас,Он за баранов принял нас».Начнут беситься судьи снова,А ты – по‐прежнему ни слова,Иначе – крышка.Пастух. Что ж, идет.На сей не беспокойтесь счет:Хоть целый день под стать барануПеред судом я блеять стану.Уж в этом, верьте, я мастак.Хитроумный ход мэтра Патлена приносит свои плоды – пастух оправдан, и теперь мэтр собирается получить от него обещанный гонорар. И вот что происходит: пастух «забывает» человеческую речь, и в ответ на обращение к нему мэтра Патлена начинает блеять, как баран.
Патлен…Плати!Пастух. Бе-е!Патлен. Что за наважденье!Иль ты смеешься надо мной?Немедленно суму раскрой!Ты слышишь, олух, иль оглох?Пастух. Бе-е!Патлен. Ах, негодный пустобрех!Тебя согну я в рог бараний!Пастух. Бе-е!Патлен. Хорошо, давай без брани.Что ты заладил «бе-е» да «бе-е»…Пастух. Бе-е!Патлен (в сторону). Вот не думал в лужу сесть!Смех! Деревенский пастушонок,Едва лишь выполз из пеленок,И обхитрил меня!Так простой пастух перехитрил такого ловкого пройдоху, как мэтр Патлен, при этом пользуясь его же советом.
Фарс о мэтре Патлене, как мы бы сегодня сказали, мини-сериал – он состоит из трех частей, серий, каждая из которых обладает своим сюжетом. Мэтр Патлен представляет собой бессмертный тип судейского крючкотвора; в этом произведении он уже не только персонаж народного театра, но и литературный герой. Ниточка от него тянется в глубину веков, к эпиграммам римского поэта первого века нашей эры Марциала. В одной из своих эпиграмм Марциал выводит адвоката Постмуса, призывающего стороны на судебном процессе вернуться к… трем украденным козам – как видите, в данном случае почти точное совпадение сюжетов.
Но мэтр Патлен еще и прообраз многих подобных ему героев европейских литературы и театра. В старом французском фарсе он только смешон. Но, например, в русском театре далекие потомки этого типа предстают перед читателем и зрителем совсем не только смешными, но страшными и крайне опасными для общества фигурами в гениальной комедии В. Капниста «Ябеда»; зловещими – в сатирических фантасмагорических пьесах «Дело» и «Смерть Тарелкина» А. Сухово-Кобылина. Представьте себе, жанр своей пьесы «Смерть Тарелкина» автор определил не более и не менее как «светопреставление»! Ни до, ни после Сухово-Кобылина никому из драматургов не приходило в голову так обозначить жанр своего произведения. Вот так неожиданно и необычно раскрылось и проросло «зерно» своеобразного и вечного человеческого типа, когда‐то угаданное и воплощенное в одном из персонажей народной комедии. А скольких дальних родственников Патлена мы можем найти и у Гоголя, и у Островского, и у Писемского, и, конечно, у Салтыкова-Щедрина.
Древние греки были веселым народом, не любили скучать и среди многих прочих интереснейших вещей придумали театр. С тех пор театр неотделим от человека. Античный театр, родившийся в Древней Греции из народных религиозных празднеств и воспринятый, как и многое другое, в наследство от нее Римом, погиб вместе с Римской империей под ударами нашествий варваров. Казалось, навсегда были забыты великие имена греческих драматургов – Эсхила, Софокла, Еврипида, Аристофана, Менандра, римских Плавта, Теренция, Сенеки; потеряны бесценные рукописи их произведений. Огромные античные амфитеатры разрушались, заносились песком, камни растаскивались на другие цели. Театр как важнейшее государственное дело перестал существовать; вообще, все научные знания, вся культура, вся великая философия античности оказались ненужными, были забыты или почти забыты. Понадобилось арабское вторжение в Европу, становление в Испании арабского государства (в Европе его называли мавританским), кропотливый научный труд великих арабских и еврейских ученых, работавших в Кордове, Севилье и Толедо, чтобы античная культура снова стала просачиваться в европейскую жизнь и, наконец, обрела в Европе свое второе рождение.
Церковь, ставшая главной силой в те времена, получившие потом в истории название Средневековья, запрещала театральные зрелища. Такое положение дел длилось много веков – только в тринадцатом веке появилось произведение, которое считают первой средневековой светской пьесой – «Игра о Робене и Марион» Адама де ла Аля, французского поэта из Арраса, прозванного «аррасским горбуном». Горбун звучит несколько таинственно и немножко отдает романами Поля Феваля, знаменитого и по‐настоящему талантливого соперника самого Дюма, автора приключенческих романов, один из которых так и называется «Горбун». Роман полон невероятных приключений, а его главный герой, выдавая себя за горбуна, устраивает настоящее театральное представление с переодеваниями, изменением внешности, неожиданными явлениями для того, чтобы вырвать невинную девушку из рук злодея. Кстати, этот мнимый горбун – из судейского сословия, тоже, наверное, дальний родственник нашего Патлена.
Автор «Игры о Робене и Марион», как говорят некоторые исторические данные, на самом деле вовсе и не был горбатым – почему же его так прозвали? Может быть, в его жизни тоже было много приключений, и за этим прозвищем «аррасского горбуна» скрывалась какая‐то тайна, которую мы никогда не узнаем? Все может быть, и достоверно известно, что он любил путешествовать и вообще не очень любил сидеть на одном месте. Правда, говорят, существовала еще одна версия его прозвища – будто бы его рифмы были горбатыми. Профессиональная ревность, что поделаешь! Но вообще Адам де ла Аль в переводе означает – Адам с рынка. Что он делал на рынке, этот первый европейский светский средневековый драматург? Вряд ли торговал, может быть, был писцом, и в ту эпоху всеобщей неграмотности где‐нибудь в углу на рынке на импровизированном бюро переписывал что‐то для кого‐то, как подьячий в «Хованщине» Мусоргского, писал записки, письма, делал копии счетов. Говорили – надо пойти к Адаму с рынка, он грамотный и умеет писать – так получил он свое странное имя, которое тоже вроде бы еще одно прозвище получается.
«Игра о Робене и Марион» Адама де ла Аля была поставлена в России в Санкт-Петербурге в начале ХХ века в так называемом Старинном театре, который открыл в 1907 году известный режиссер Н. Евреинов, в чудесных декорациях художника М. Добужинского. Этот театр был предназначен режиссером специально для постановки старинных пьес. предприятие Евреинова ставило задачу реконструировать старинный театр, но по сути это была как бы игра в старинный театр, его стилизация, то есть своего рода игра в игру. Реконструировать театр невозможно в принципе, если только не иметь в виду восстановление театрального здания, как это сделано было относительно недавно в Лондоне, где заново построили здание шекспировского «Глобуса». Старинный театр Н. Евреинова просуществовал недолго, из этого дела толком так ничего и не вышло, прежде всего потому, что реконструировать можно все, кроме игры актера, она не поддается реконструкции, но свой след в истории театра он оставил; прежде всего из‐за участия в его постановках замечательных художников, пришедших в то время в Старинный театр и очень много сделавших вообще для русского театра, – М. Добужинского, А. Бенуа, И. Билибина, Н. Рериха, В. Щуко, Е. Лансере. Все они принадлежали или были очень близки к известной в начале ХХ века и имевшей огромное значение для всей русской культуры группе «Мир искусства». Особенно много сделали художники этой группы и художники, примыкавшие к ней, для становления и расцвета русского оперного и балетного театра – к названным нами именам следует прибавить имена В. Поленова, В. Васнецова, М. Врубеля, Л. Бакста, А. Головина, Б. Кустодиева, все это имена, которым русский музыкальный театр обязан многим, если не всем. Собственно, они в значительной степени и создали русский оперный театр, именно как театр, как сценическое музыкальное действо, они же часто по существу были постановщиками оперного спектакля – до прихода в оперу Мейерхольда, Станиславского, Немировича-Данченко и следующей за ними плеяды замечательных музыкальных режиссеров ХХ века.
Итак, «возвращаясь к нашим баранам», после падения некогда великой римской империи, в течение нескольких веков Европа вообще не помнила театра. Пьесы никто не писал, во‐первых, потому, что ни писать, ни читать большинство населения Европы тогда не умело, во‐вторых, литература как письменность, а не устное предание, на какое‐то время просто перестала существовать, если не считать литературы церковной, писаной на латыни, языке уже большинству непонятном. Но церковная литература, даже в таких изумительных, глубоко реалистичных произведениях, как «Исповедь» блаженного Августина, справедливо занималась больше спасением души, чем театральными сюжетами, и должны были пройти столетия, прежде чем умная церковь приспособила драму к своим церковным нуждам, возникли церковные, литургические драмы, основывающиеся на тексте священных книг. Но это случилось не раньше девятого века.
А театр все‐таки был жив даже в те времена средневековья, которые не совсем, впрочем, справедливо называют темными. Он был жив в чудесном искусстве бродячих актеров – их называли гистрионами, а также шпильманами в Германии, жонглерами – во Франции, менестрелями – в Англии, мимами – в Италии, гальярдами – в Испании, франтами – в Польше. На Руси их называли скоморохами. Акробаты, жонглеры, дрессировщики, танцоры, рассказчики, песенники бродили по разным странам, городам, весям, устраивали свои представления то под открытым небом, то, если повезет, в замке какого‐нибудь знатного сеньора, который любил позабавиться сам и рад был позабавить своих гостей представлениями бродячих комедиантов. Это можно во всех подробностях увидеть в старом замечательном французском фильме «Чудо с волками». В нем играли Жан Маре, Жан-Луи Барро и Роже Анен – блистательные актеры. Там есть эпизод, когда труппа странствующих комедиантов дает представление в замке герцога Бургундского; к бродячим артистам присоединился главный герой, разумеется, чтобы вместе с ними пробраться в замок феодала и спасти любимую девушку из рук герцога Бургундского.
Средневековый бродячий актер, как спустя столетия его потомок актер commedia del’arte, умел делать все. В его памяти жило искусство древнегреческих мимов, римских гистрионов, бродячих актеров античного мира. Бродячий актер одновременно был и автором, и исполнителем. К тому моменту, когда наконец настала эпоха, получившая название Высокого Средневековья, и стали появляться первые пьесы, и в репертуаре странствующих артистов было много сюжетов и множество их интерпретаций – все они жаждали своего совершенного литературного воплощения.
И песня, и рассказ, и притча, и танец, и даже жонглирование всегда имеют свой сюжет – цепочку событий. Они находят свое выражение, разумеется, каждый в природе своего жанра: у жонглеров в постепенном нарастании сложности трюков, то же у акробатов; иногда – в имитации неудачного, сорвавшегося трюка, когда зритель ахает – вот-вот акробат сорвется, упадет, а жонглер потеряет свои кольца, мячи и булавы, но на глазах потрясенного зрителя артист блестяще преодолевает трудности, ниоткуда не срывается и ничего не теряет. Показать такую обманную, нарочитую неудачу в сто раз труднее, чем просто исполнить весь сложный номер – тут надо было быть настоящим мастером своего дела. Мнимая неудача и ее преодоление – это, конечно, самый настоящий сюжет.
Некоторые истории разыгрывались как сценки – это уже подлинный театр, а не просто представление. Бродячие актеры разыгрывали сценки иногда безмолвные, иногда сопровождая их пояснительными словами, вслух обозначая каждое свое действие на сцене, площадке. Я, например, говорил актер, беру нож, а я, говорил другой, наливаю в кружку воду, и производили эти физические действия одновременно с текстом. Наверное, вам будет интересно узнать, что в современных театральных школах есть похожее упражнение, оно входит в актерский тренинг, его делают студенты первых курсов для того, чтобы научиться ничего не пропускать в своих действиях на сцене. Постепенно пояснительный текст оторвался от физического действия актера, стал самостоятельным, стал импровизацией, внутри определенных обстоятельств и всегда в том или ином событии.
Нам здесь важно одно и главное – любой сюжет, как бы он ни был прост, всегда представлял собою историю человеческой судьбы, если не всю, то какой‐нибудь ее кусочек. Главное, историю, не рассказанную песней ли, стихотворением ли, сказкой ли, а сыгранную, созданную сию минуту, сейчас, на глазах у зрителя.
Вот это и есть – театр.
Развертывающаяся на глазах зрителя, здесь и сейчас посредством сценических событий жизнь человека, его судьба. Театр – это всегда человек; если на сцене нет человека – действующего, совершающего поступки, то нет и театра. В этом смысле бродячие актеры сохранили искусство театра, обходясь очень долгое время без письменной драматургии. Их искусство достигло своего расцвета в театре commedia del’arte, с кое‐какими персонажами из нее мы с вами познакомились благодаря криминальной загадке Пуаро. Проигрывая перед внутренним взором Пуаро замысловатые сценические комбинации, предлагая ему те или иные варианты сюжета, фарфоровые фигурки постепенно подсказывают сыщику правильное решение загадки преступления; дело наконец раскрыто, тайна обнаружена, преступник наказан, а невинные освобождены.
Как это у Пуаро получилось? Дело в том, что он довольно хорошо представлял себе исторически сложившийся принцип поведения каждой фигурки. Сталкивая их в различных ситуациях, он создавал неожиданные комбинации их взаимоотношений. Сцена, на которой выступали фарфоровые артисты, была для него подобием шахматной доски, где он блестяще сыграл свою партию. Надо сказать, что театральную сцену действительно часто сравнивают с шахматной доской, на которой играется сложная, запутанная партия – спектакль. Шахматные фигуры ходят всегда одинаково, вы знаете: слон по диагонали, конь буквой «г», а ладья по вертикали и по горизонтали, и так далее, но вариантов ходов бесчисленное множество. Как тут найти верный ход – выиграть партию!
Пьеса, сценарий дают ряд возможных вариантов игры, а правильнее сказать, сценического действия актеров; выбрать из всех возможных единственно верный – довольно трудная задача, но в этом как раз и заключается искусство режиссера, между прочим, тоже своего рода следователя. О том, что некоторые функции режиссера делают его работу схожей с работой следователя, говорил великий русский режиссер Сергей Эйзенштейн. Что такое режиссерский разбор пьесы? Это раньше всего выяснение всех обстоятельств, в которых развертывается сюжет, событий, причинно-следственных связей, приводящих к ним, подлинных взаимоотношений действующих лиц, выяснение, так сказать, алиби каждого. Но об этом мы поговорим чуть позже.
Итак, вся прелесть комедии дель арте как раз заключалась в том, что, несмотря на то, что все ее персонажи, маски были хорошо знакомы публике и можно было без труда предположить их поведение в том или ином сценическом событии, все равно каждый раз публика наблюдала за перипетиями сюжета народной комедии с охотой и без скуки. Зритель всегда с великим вниманием следил за ходом представления, и, в отличие от зрителя современного театра, его занимала прежде всего великолепная игра актеров. Он получал огромное удовольствие от того, что в знакомой сценической ситуации актеры действовали так ловко и умело, что вносили каждый раз что‐то новое в, казалось бы, заранее известный ход представления. И это заставляло зрителей быть еще внимательнее к спектаклю, ко всем возможным и, казалось бы, невозможным поворотам часто довольно простого, незатейливого сюжета.
Сюжетов на самом деле в мире не так уж много, а вот интерпретаций этих сюжетов может быть бесконечное множество. Влюбленные все равно соединятся, но вот как это произойдет, что они предпримут, чтобы соединиться, какие совершат поступки, каким образом преодолеют преграды, что потеряют и что обретут в этой борьбе – это может произойти по‐разному, это не всегда предугадаешь. По-одному в «Капитанской дочке», по‐другому в «Ромео и Джульетте», по‐своему в «Любовью не шутят» Мюссе и совершенно иначе в «Слуге двух господ» Гольдони. Актеры-импровизаторы являлись великими интерпретаторами ходовых, распространенных популярных сюжетов. Речь идет, конечно, прежде всего о талантливых актерах и умных руководителях актерских семей – так назывались труппы; такого рода актерские семьи сохранились до сих пор в цирке – не все актеры были между собой родственниками, но все они были настоящей семьей.
Хороший актер, даже если он действует на сцене в строго определенном характере, как это и было в комедии дель арте, все равно никогда не будет одинаковым, в его игре всегда возникают новые краски, новые нюансы, новые оттенки. Маска – это внешнее, хоть и данное как бы раз и навсегда. Известно, что актеры народной комедии исполняли свои характеры-маски всю жизнь и никогда не меняли свое сценическое амплуа. Что и говорить, это чрезвычайно утомительно, удручающе скучно – всю жизнь как представлять, так и видеть на сцене одно и то же, если бы не скрытый под маской огонь, живой человек, его душа, его живое бьющееся сердце. Маска маской, но внутренняя жизнь под этой маской всегда изменчивая, подвижная, неожиданная, увлекательная и всегда доходит да зрителя, если, конечно, она, эта внутренняя жизнь, есть. И зритель именно этой жизнью увлечен, а не только внешними трюками, какими бы забавными и изощренными они ни были, а на них куда как горазды были актеры итальянской комедии. Если сквозь маску не просвечивает подлинная человеческая жизнь, то это гибель любого театра.
Заметим, что когда мы говорим о масках, то имеем в виду совсем не обязательно маски, сработанные из кожи, шелка или папье-маше, скрывающие лицо или часть лица актера. Не все из актеров народной комедии появлялись на сцене в масках, например, так называемые влюбленные никогда не носили масок, закрывающих лицо, но со всем тем они все равно были масками – персонажами комедии; в данном случае слова «маска» и «персонаж» синонимы. Что же касается масок, которые надевали, чтобы быть неузнанными или якобы быть неузнанными (ведь порою прекрасно было известно, чьи черты скрывает маска, но их нарочно не показывали), то это тоже была своего рода игра, это был театр. Маски в Венеции восемнадцатого века были не только атрибутом актеров commedia del’arte.
Венеция славилась на весь мир своими карнавалами. В полюбившемся нам восемнадцатом веке они начинались в октябре, прерывались на Рождество, продолжались после праздника Епифании, то есть Богоявления, достигали кульминации на масленицу и заканчивались в так называемую Пепельную среду, когда головы верующих посыпались освященным пеплом, а на лбу пеплом же наносили знак креста. Карнавалы продолжались долгое время, длились иногда до шести месяцев в году, а то и больше и привлекали огромное количество народа. Сотни тысяч путешественников из самых разных стран мира приезжали на венецианский карнавал, да и сегодня приезжают, чтобы развлечься и отдохнуть на этом, теперь, к сожалению, несколько искусственном – слишком он рассчитан на туристов, – но по‐прежнему веселом десятидневном празднике.
На карнавале все люди равны, это его важнейший принцип.
На нем нет, например, богатых и бедных, аристократов и простых людей. Все различия, все грани стираются, все привычные социальные отношения переворачиваются, ставятся с ног на голову. В иные времена вельможа, чтобы участвовать в карнавале, надевал маску, переодевался, скажем, в сапожника, и к нему относились как к сапожнику, могли заказать пару сапог или туфель – это была бы, конечно, шутка, но в условиях карнавала к ней нужно отнестись всерьез. А к сапожнику, переодевшемуся в знатное лицо, не менее серьезно относились как к вельможе, оказывая ему всевозможные почести. Бывало, что королем карнавала избирали шута, как в знаменитой картине фламандского художника Якоба Йорданса «Бобовый король», и обращались к нему, как к суверену и судье, за милостью или требовали наказания, и он казнил и миловал – разумеется, все это было игрой, но в пределах карнавала это была игра всерьез.
Карнавал устанавливал свои законы и строго требовал их выполнения. Карнавал – это грандиозное театральное представление, в котором нет зрителей – они все его участники, они все действующие лица, они все персонажи – в соответствии с выбранными костюмом и маской.
О карнавале гениально написал великий русский ученый и философ М. Бахтин в книге «Франсуа Рабле и народная культура Средневековья и Ренессанса». Интересны полотна великих фламандских художников Иеронима Босха и Питера Брейгеля Старшего, посвященные одному и тому же сюжету – карнавалу, огромной силы документы о подлинной народной жизни и духе Средневековья.
Обе картины называются «Битва Масленицы и Поста» и изображают последний день карнавала. Этот день назывался «жирный вторник», mardigras, за ним наступала та самая «пепельная среда», на латыни Dies Cinerut, день начала Великого поста, сорока дней покаяния. Эти картины, особенно Брейгеля, можно и нужно рассматривать долго-долго, они очень подробны – внимательно всматриваясь в них, как будто попадаешь в мир театрального представления – такое количество живых интереснейших человеческих типов изобразили художники. И эти поразительные занимательные людские типы, данные в движении, заставляют следить за собой как в театре или в кино, от них просто невозможно оторваться. Эти картины театральны и музыкальны – в полном смысле этих слов.