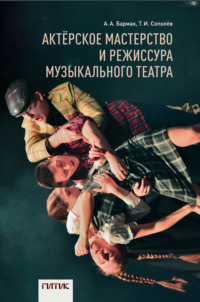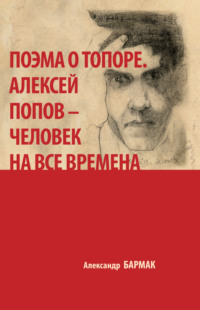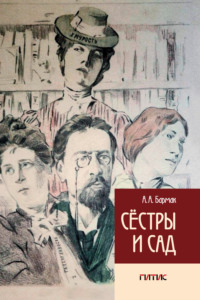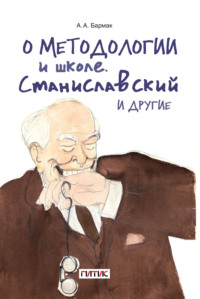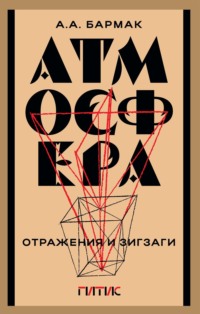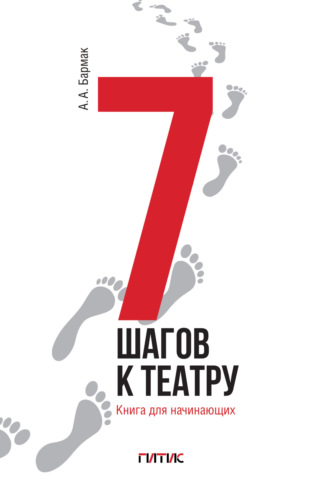
Полная версия
7 шагов к театру. Книга для начинающих

Александр Александрович Бармак
7 шагов к театру
Книга для начинающих
© Бармак А. А., 2021, 2023
© Издательство ГИТИС, 2021, 2023
Ступайте в театр!
Очень большая актриса нашего времени Татьяна Доронина в фильме «Старшая сестра» читает перед экзаменационной комиссией театрального училища знаменитый отрывок из статьи В. Г. Белинского «Литературные мечтания».
Никто с такой силой и верой, так убежденно, так заразительно, как она, не произносил эти пламенные строки Белинского.
«Любите ли вы театр так, как я люблю его, то есть всеми силами души вашей, со всем энтузиазмом, со всем исступлением, к которому только способна пылкая молодость, жадная и страстная до впечатлений изящного? Или, лучше сказать, можете ли вы не любить театра больше всего на свете, кроме блага и истины?..»
Если вы не видели фильм «Старшая сестра» – посмотрите его; если не слышали, как Доронина исполняет этот отрывок, – послушайте обязательно! Благо, что сейчас это совсем нетрудно сделать. Нажать нужную клавишу на компьютере.
Благо и истина – величайшие ценности человечества. К ним причисляет великий критик и театр.
Любить театр по‐настоящему – это значит знать и понимать его. Знать его историю, которая во многом и есть история человечества. Понимать, как он устроен, в чем суть театра как искусства, то есть видеть, что театр – это прежде всего человек.
Театр всегда есть, что самое важное, наглядная история человека, взятого этим искусством и погруженного в борьбу, в активное действие, в действенный процесс решения и выполнения жизненно важных задач.
Театр – это всегда человеческая судьба, предстающая перед нами на сцене в сценических событиях.
Эти события бывают разные – трагические и комические, печальные и смешные. Но и те и другие захватывают нас и заставляют по‐новому взглянуть на жизнь.
Театр отнюдь не безделица и не развлечение.
Да, собственно, зачем же вам, молодой читатель, – а эта книга предназначена прежде всего молодежи: школьникам средних и старших классов, учащимся колледжей, абитуриентам, а также всем начинающим, независимо от их возраста, – зачем же вам искать в театре развлечение? Неужели вы так устали от жизни, она вам так скучна, мир вокруг вас так неинтересен, люди перестали вас ежесекундно удивлять, а природа радовать бесконечным преображением, что вам нужны еще какие‐то развлечения, кроме самой жизни? Когда так, то никакой театр вам не поможет.
Театр – это один из изумительных способов познания мира. Другое дело, что в театре мы познаем мир вокруг нас, жизнь и людей наглядно, в совершающихся на наших глазах действиях и поступках, чего нет в других искусствах; от этой великой иллюзии, от этого эффекта присутствия непосредственно в событиях сценической жизни мы получаем огромное удовольствие, наслаждение – в этом сила и очарование театра.
В этой книжке вы найдете семь глав, семь эссе, семь опытов о театре – назовите, как хотите. Автор называет свою книжку «7 шагов к театру». Он надеется, что эти шаги, довольно неторопливые, позволят читателю приблизиться к пониманию того, что такое театр по своей сокровенной сути, узнать о том, какова его сущность, увидеть в театре друга и в конце концов полюбить его по‐настоящему. Как любил его Белинский, как полюбила его героиня Дорониной, как должно любить его человеку.
Великий сыщик и фарфоровые фигурки
В одном из рассказов английской писательницы Агаты Кристи бельгиец Эркюль Пуаро, знаменитый сыщик – лучший в мире, как он сам себя аттестует, будучи, как вы догадались, человеком весьма скромным, расследует таинственное, трудное, в высшей степени необычное дело – впрочем, других дел у Пуаро и не бывает – с помощью фарфоровых статуэток.
Фигурки из мейсенского фарфора стоят на полке за стеклянной дверцей шкафа. Это очень дорогая и редкая коллекция, таких коллекций драгоценного старинного фарфора в мире осталось немного.
Насмешливо улыбающиеся фигурки изображают группу актеров итальянской классической комедии. Так называемой комедии масок, по‐итальянски commedia dell’arte. Арлекин, Коломбина, Пульчинелла и его подружка, Пьеро и Пьеретта – всего шесть фигурок. Все вместе они представляют собой группу персонажей, обманчиво простых, но связанных в рассказе друг с другом довольно сложной, запутанной, даже замысловатой интригой. Фигурки обаятельны, очаровательны; но именно среди них, по мнению сыщика, скрывается преступник – каждая фигурка под подозрением. Взаимоотношения фигурок наводят на мысль о тончайшей паутине, в которой легко запутаться, из которой трудно вырваться, если только не порвать ее, что сделать, конечно, легко, но чего делать нельзя ни в коем случае – установить истину тогда будет невозможно. О, это новое дело знаменитого детектива требует от сыщика тщательного изучения, очень осторожного с ним обращения и, главное, терпения, а Пуаро, он – терпелив.
В паутине борьбы и противостояний, которую представляют взаимоотношения фигурок, ему нужно будет бережно нащупать ту единственную паутинку, потянув за которую, можно будет наконец развернуть, прочитать и понять весь ее сложный прихотливый узор. Раскрыть ее шифр, не разрывая нити, не разрушая тончайшего рисунка, сохранив старинную канву неравномерного переплетения, на которой, как известно, вышивать всего труднее. Это и собирается сделать Пуаро; он бережно держит в руках и внимательно рассматривает каждую статуэтку, потом осторожно ставит на место. Он вспоминает, какое значение имеет каждая фигурка в системе итальянской комедии масок, какую роль она в ней играет, и делает свои, как это часто бывает, парадоксальные, то есть неожиданные, непривычные заключения.
В его воображении фигурки начинают играть старинный спектакль. Они импровизируют, как это и полагается в народной итальянской комедии. Слово «импровизация» происходит от латинского improvisus, что означает «внезапно», «неожиданно», «без подготовки». Сценическая импровизация требует от актера большого мастерства, ведь у него нет сочиненного автором, драматургом или заранее заготовленного и выученного им литературного текста. Актер сочиняет текст по ходу действия спектакля, намного правильнее было бы сказать, что текст рождается у актера, а не сочиняется им. Вот это условие игры – что текст рождается у актера как мгновенная речевая реакция на происходящее вокруг него на сцене, а не просто сочиняется им по ходу действия представления, – надо запомнить на будущее. Это самый главный принцип работы современного актера на современной сцене, если только этот актер получил правильную актерскую школу, а высоким предназначением сцены, на которой он выступает, является создание правдивого образа мира и человека; как видим, эта школа уходит корнями вглубь веков.
В литературе образ мира дан только в слове, вернее в сочетании, сцеплении слов, в их ритме, причем слов не сказанных, а написанных; слово при прочтении стихов или прозы начинает звучать в нашем восприятии, в нашей душе, в нашем сознании.
Слово произнесенное, слово сказанное отличается от слова печатного – в речи оно получает некий дополнительный смысл, приобретает иногда неожиданную интонацию. По-разному читают стихи актеры и поэты; поэты следуют ритму, стараются передать музыку стиха, его мелодию, почти поют стихотворение; актеры, если они умеют читать стихи – а дело это трудное, по‐настоящему хороших чтецов очень мало, – стараются найти смысл стихотворения и передать его в слове произнесенном, сказанном, часто нарушая внешний ритм стиха, делая маленькие паузы, цезуры, находя скрытые в тексте интонации и донося их до зрителя. Тут надо сказать, что актер-чтец исполняет произведение поэта, писателя, то есть стихи и прозу, не для уха, а для глаза зрителя. Они должны добиться того, чтобы у зрителя возник образ услышанного, чтобы он увидел то, о чем рассказывает актер-чтец на эстраде. Это умение произносить текст и говорить не только для уха, но и, самое главное, для глаза зрителя, способность вызывать у него самые разные видения – очень важная составляющая мастерства актера. К этому мы еще вернемся в свое время, когда будем говорить о Станиславском и его системе. Слушатель – он же зритель, или зритель – он же слушатель; нельзя оторвать одного от другого. Артист на сцене, выступая с литературной программой, влияет на восприятие зрителя не только произнесенным словом, но и мимикой, жестами, выражением лица, взглядом и множеством других вещей, создавая вокруг себя эмоциональное поле, атмосферу, в которую попадает зритель. Точно так же и актер на сцене.
И образ мира, в слове явленный,И творчество, и чудотворство.Это строчки из стихотворения великого русского поэта Бориса Пастернака; так он определял суть литературного творчества, но они исключительно важны для искусства театра. В театре образ мира является в действиях и поступках актеров, в событиях спектакля, а слово, произносимое актером, есть результат всей жизни актера на сцене. Сцена может быть маленькой, крошечной, но пространство сцены определяется не ее размерами, а тем содержанием, которым наполняют ее живущие на сцене актеры. Если их искусство являет образ мира, мы не замечаем, что находимся в маленькой зале, что перед нами небольшая сценическая площадка. Нет, пространство крохотной сцены порою становится бесконечным, как космос. Это и есть – творчество и чудотворство.
Бывает так, и еще как часто бывает, что театр роскошный, сцена огромная, оборудована по последнему слову техники, а зритель задыхается в этом пространстве от отсутствия живого воздуха искусства.
Может быть так, что никакой сцены вовсе нет, да и не надо, просто, как говорил Вл. И. Немирович-Данченко, выйдут на площадь четверо актеров, расстелют перед собой коврик и начнется настоящий театр.
Великий испанский драматург Лопе де Вега говорил, что театр – это всего лишь две доски и одна-единственная страсть.
Для русского театрального искусства только тот театр настоящий, подлинный, который раскрывает на сцене жизнь человеческого духа. Об этом не уставал говорить своим ученикам К. С. Станиславский – великий реформатор театрального искусства, наравне с Вл. И. Немировичем-Данченко. Величайшие спектакли русского театра ХХ века очень часто создавались на крошечных сценах, а то и просто на полу в небольших, порою тесных помещениях, где и зрителя‐то, казалось, посадить было некуда, почти без всякого театрального оборудования. Речь идет о Первой, Второй, Третьей студиях Художественного театра. Спектакли этих молодых тогда коллективов вошли в сокровищницу отечественного театра; до сих пор они – предмет изучения театроведов, режиссеров, актеров.
Итак, текст, произнесенное слово, рождается как мгновенная и, что очень важно, сиюминутная реакция актера-персонажа на сценические ситуации, поведение и поступки партнеров. Сначала мы воспринимаем что‐то, а уж после произносим слова, какие считаем нужными в каждом данном случае, а иногда и не произносим, молчим, но это молчание – тоже реплика, тоже своего рода текст. Нам вообще ничто не мешает считать, что текстом в театре может быть не только собственно текст, произнесенный актером, не только звучащие со сцены слова, но и действия актера, поступки, которые он совершает на сцене, а также движения, мимика, жесты, то есть все то, что предшествует произнесенному слову, подготавливает и сопровождает его. Это тоже своеобразный текст – ведь в жизни мы, внимательно наблюдая за поведением человека, можем очень многое о нем узнать и совсем немало в нем понять, мы как бы прочитываем своего рода текст и делаем определенные выводы, получаем или, как сейчас говорят, считываем информацию. Слышимый нами текст может говорить одно, а вот поведение человека совсем другое.
Импровизация – это основа основ актерского искусства, но справедливо говорят, что любая импровизация должна быть хорошо подготовлена. Это означает прежде всего, что актер должен очень хорошо знать обстоятельства и цепь событий сценического представления, то есть собственно сюжет истории, разыгрываемой им на сцене, а также, что тоже очень важно, – знать основные цели, задачи своего сценического действия. Вот только тогда, когда он во всем этом разберется, возможна настоящая актерская импровизация.
Мысленно Пуаро ставит фарфоровых артистов в те или иные жизненные обстоятельства, сценические ситуации, изучает и проверяет их поведение в тех или иных событиях, предполагает те или иные цели, к которым они стремятся. Он отлично знает, что импровизация в классической итальянской комедии обусловлена не только сценарием, а их у Пуаро в запасе несколько, но зависит еще и от той сценической функции, которая в течение столетий закрепилась за каждой фигуркой, а эта функция напрямую зависит от основной черты характера персонажа.
Дело в том, что в каждой маске комедии дель арте со временем нашли свое предельное выражение самые разные человеческие качества: плохие и хорошие, свойственные отдельному человеку, но и не чуждые человечеству в целом, присущие вообще всем людям. Ну, такие, например, как ум, что бывает реже, глупость, что встречается чаще, а с ними вместе трусость, храбрость, коварство, преданность, ветреность, измена; любовь, самоотверженность, ненависть; ложь, скупость, чревоугодие, хвастовство – всего не перечесть. И все это намешано понемногу в каждом человеке; но в персонаже комедии масок всегда преобладает некое одно качество – оно единственное диктует ему поведение, оно заставляет его так, а не иначе строить свои взаимоотношения с другими персонажами. Оно указывает на его функцию в представлении, дает понять, каков его характер и чего можно от него ожидать. Вот, скажем, одной из известнейших масок итальянской комедии был купец Панталоне. Он получил свое имя от узких красных панталон, которые носил этот персонаж, непременно скупой старик. В представлении он может быть веселым, грустным, жалким, напыщенным, даже влюбленным, придурковатым, что часто одно и то же, попадать в самые разные ситуации, но он всегда будет скупым. Скупость – его основная идея. Эта маска нашла свое грандиозное воплощение в комедии Мольера «Скупой».
Со всем тем, даже зная, какой комплекс тех или иных качеств является основным для каждой маски, все равно никогда нельзя было быть совершенно уверенным в том, как поведет себя персонаж в тех или иных обстоятельствах – он может выкинуть какой угодно фортель, изумив и озадачив нас. Любая игра имеет свои правила, но внутри этих правил бесконечное количество комбинаций, и всегда находится кто‐то, кто играет не по правилам, а это интереснее всего, во всяком случае в театральном искусстве. Каков может быть результат деятельности персонажа, а стало быть, и финал спектакля, можно было, конечно, предполагать, но никогда нельзя было угадать точно. На самом деле это нелегко, потому что каждая маска в отпущенных ей пределах действует иногда совершенно неожиданно, во всяком случае, если она талантлива, заставляет нас не раз ахнуть по ходу представления, разувериться в своих, казалось бы, верных на ее счет предположениях, а дальше с еще большим интересом следить за интригой спектакля.
Бесценные старинные фарфоровые безделушки, изготовленные на фарфоровой мануфактуре в городе Мейсене в начале восемнадцатого века, не исключено даже, что под руководством самого изобретателя европейского фарфора Иоганна Бёттгера, исполняют перед Пуаро причудливый танец. Такой же причудливый танец напоминала и жизнь изобретателя фарфора. Об этом стоит, пожалуй, сказать несколько слов; театральной, наполненной совершенно невероятными, комическими, трагическими, почти фантастическими событиями была жизнь этого великолепного представителя великолепного авантюрного восемнадцатого века. Иоганн Бёттгер был человеком отважным, его время вообще было временем смелых людей; он был ученым, алхимиком и, само собой разумеется, авантюристом, что в те времена, когда наука становилась алхимией, а алхимия наукой, довольно часто подразумевало одно другое. В его жизни действительно трудно было одно от другого оторвать – где заканчивался ученый и где начинался авантюрист, не всегда было понятно даже ему самому. Он обещал саксонскому курфюрсту найти философский камень, с помощью этого камня якобы можно было превращать в золото другие металлы, и таким образом изготовить золота столько, сколько его высочество захочет.
Самое смешное, что он искренне, судя по тому, что происходило в его жизни, верил, что действительно возможно превращать в золото разные металлы. Курфюрст Саксонии был человеком в общем‐то симпатичным и неглупым, но не большого ума, вполне умным его никак назвать было нельзя, ведь он был жадным, безумно любил золото, а жадность притупляет и самый большой ум. Вечно нуждаясь, он очень хотел поверить Бёттгеру, что можно добыть золото из неблагородных металлов. Кстати, что это такое курфюрст – титул, звание? Это привилегия, так называли князя, обладавшего правом выбирать императора на имперском сейме, то есть съезде князей-электоров, выборщиков. Никакого золота, ни белого, ни желтого, никогда нигде из ничего никакой алхимик получить не мог; Бёттгера вскоре ожидала казнь, очень неприятная, что‐то, например, вроде колесования, да еще неторопливого, казнь ведь тоже была представлением, театром, так кому же охота, чтобы оно заканчивалось быстро; короче, авантюристу или алхимику, как вам больше нравится, было над чем задуматься. В последний раз он отправился к курфюрсту Августу, который уже успел к этому времени стать польским королем, надеясь еще раз уговорить его подождать с результатами опытов; по дороге он заехал к парикмахеру завить парик и посыпать его пудрой, ибо тщательно следил за модой и желал явиться при дворе в приличном виде; двор Августа был одним из лучших в Европе, исключая, разумеется, королевский двор в Версале, блеск и ни с чем не сравнимая роскошь русского двора были еще впереди. Парикмахер, к которому он по дороге заехал, был жуликом; он посыпал парик Бёттгера порошком белой глины вместо настоящей, очень дорого стоящей пудры. Мода того времени требовала ношения пудреных париков, пудры выходило огромное количество, парикмахер решил сэкономить. Размышляя о своей несчастной доле, воображая себя уже на колесе или на каком‐нибудь еще более интересном, чем колесо, предмете (время, в котором проживал алхимик, было весьма изобретательным на замысловатые орудия пытки и казни), надеясь на что‐нибудь попроще, вроде повешения, Бёттгер нервно разминал пальцами щепотку белого порошка; вдруг он почувствовал, что порошок превратился в плотный, мягкий, как будто немного жирный и, что самое главное, абсолютно белый комочек. «Где ты взял эту глину?!» – закричал взволнованный Бёттгер. «Да вон там, недалеко в овраге!» – закричал испуганный парикмахер. Так были открыты залежи белой глины, каолина; из нее Бёттгер сделал первый европейский фарфор. Фарфор в то время стоил дороже золота.
Бёттгер сохранил жизнь.
На мануфактуре в Мейсене стали изготовлять не только посуду, но и прелестную миниатюрную скульптуру из фарфора. Так появились на свет фарфоровые статуэтки Эркюля Пуаро.
На воротах дома, где ему впервые удалось получить фарфор, Иоганн Бёттгер написал: «благословляю этот дом, где стал алхимик гончаром». Как верно! В самом деле, лучше заниматься настоящим делом, изготавливать фарфор, который дороже золота, чем быть авантюристом и обещать добыть золото из ничего, рискуя быть повешенным. И что же вы думаете, Бёттгер удовольствовался тем, что изобрел европейский фарфор, и перестал заниматься алхимией? Ни в коем случае – он пытался добывать золото с помощью философского камня до конца жизни; она была недолгой, слишком много он вдыхал ядовитых паров на своих бесплодных опытах. Стало быть, он был еще и фанатиком, а это никогда ни к чему хорошему не приводит. Ни Бёттгер, ни другие алхимики золота никогда не находили, а вот открытий в химии и других науках по ходу дела совершили немало, внеся свою лепту в создание грандиозной театральной феерии, которая называется – восемнадцатый век.
Восемнадцатый век – век театральный, не случайно фигурки Пуаро представляют собой актеров итальянской комедии. Это век масок и маскарадов, превращений, переодеваний, приключений. Переодевания порою становились существенным признаком великих событий, изменявших историю. В 1741 году российская императрица Елизавета, родная дочь Петра Великого, тогда еще принцесса, совершила государственный переворот, свергла Брауншвейгскую династию, взошла на русский трон, переодевшись в зеленый мундир гвардейца, возглавив с саблей наголо отряд гренадеров Преображенского полка; точно так же спустя двадцать один год поступила ее племянница, урожденная немецкая принцесса София Ангальт-Цербстская, будущая российская императрица Екатерина Великая, устроившая государственный переворот и выступившая в военном мундире во главе гвардейских полков. Переодевания, превращения характерны для этого века. Века великих авантюристов… Отважных людей, часто беспринципных, циничных, невероятно артистичных, прирожденных актеров, которые сами ставили и играли спектакли своей жизни. Это были блестящие спектакли, великие – в них трагическое сменялось комическим, драма – фарсом. Все эти удивительные люди так или иначе связаны были с Россией, посещали ее, об этих посещениях остались интереснейшие воспоминания. Граф Калиостро – самый знаменитый, о нем вы можете прочесть в романе Дюма «Жозеф Бальзамо» и в книге нашего поэта Михаила Кузмина. Граф Сен-Жермен – самая таинственная личность в истории авантюристов фантастического века; он в ответ на просьбу о деньгах открывает графине тайну трех карт – тройки, семерки и туза, в повести Пушкина «Пиковая дама». Шевалье д’Эон, международный шпион, выдававший себя за женщину, а может быть, ею на самом деле и являвшийся, – один из героев романа русского писателя В. Пикуля «Пером и шпагой». Казанова, оставивший после себя интереснейшие мемуары, Морис, или, как говорят поляки, Марек Беньовский, по происхождению словак, сражавшийся в рядах польского восстания, сосланный в 1769 году на Камчатку, бежавший оттуда на корабле, завоевавший остров Мадагаскар, ставший королем Мадагаскара; ему посвятили поэму великий польский поэт-романтик Ю. Словацкий и оперу французский композитор эпохи Великой французской революции Ф. Буальдьё. А Бомарше – часовщик, дипломат, банкир, шпион, политический деятель и великий драматург! Все эти люди, без сомнения, выдающиеся. Они сочинили каждый свою роль и великолепно исполнили их на сцене столетия.
Шесть фарфоровых чашечек преподнесли Августу Саксонскому. «Подобные цветку нарцисса», – сказал он и устроил бал. Бал – это целое театральное представление, со своей интригой, ролями, событиями, героями.
Какие танцы танцевали тогда при дворе Августа? ведь фарфоровые статуэтки именно там научились танцевать. Может быть, это была знаменитая матрадура, танец, который был так любим в России в восемнадцатом и даже на заре девятнадцатого века? Во многих русских мемуарах начала девятнадцатого века можно прочитать об этом танце. Матрадура, если угодно, это занятная и увлекательная игра в танцах. Она требовала от танцоров большой изобретательности и внимания к порядку фигур, которые бесконечно менялись, заставляя танцующих все время следить за партнером, чтобы не отстать и вовремя поменяться с ним местами, то выйти вперед, то отступить назад, то выполнить соло.
Все это были не просто изящные геометрические фигуры под музыку, но и своеобразный рисунок взаимоотношений участвующих в танце людей или, в сущности, персонажей – тоже спектакль своего рода. И у него был свой язык – язык веера, каждый взмах которого говорил партнеру что‐то весьма определенное, приятное или нет; язык мушек, когда становились говорящими крошечные кусочки черной тафты или бархата, наклеенные на щеку. Причем каждое положение мушки имело свое значение, легко прочитываемое тем, кому это было нужно.
На языке веера и мушек, причудливом и немом языке иносказаний, изъяснялись в светском обществе того времени.
Бал – об этом мы с вами уже говорили – своего рода спектакль; бал-маскарад – спектакль масок. Не случайно именно на балах и маскарадах, в череде танцующих завязывались, развивались, а иногда и заканчивались, рушились человеческие взаимоотношения. Именно во время блистательного бала-маскарада происходят роковые для героев события в романтической драме Лермонтова «Маскарад». И в «Евгении Онегине» Пушкина мы помним два роковых бала, два судьбоносных события – простенький, но веселый сельский бал в усадьбе Лариных, где происходит ссора Ленского с Онегиным, которая привела к гибели молодого поэта, и скучный великосветский бал в роскошном барском особняке в Санкт-Петербурге, на котором только что прибывший в Петербург после своих многолетних скитаний Онегин неожиданно снова встречает Татьяну. На этот раз влюбляется в нее страстно, пишет ей безумное письмо, и чем заканчивается его запоздавшая страсть, мы узнаем из ироничного, немного даже злого финала истории Онегина в пушкинском романе. Вы, конечно, слышали замечательный романс П. И. Чайковского «Средь шумного бала». Романс написан композитором на стихи А. К. Толстого. Бал, о котором идет речь в стихотворении, был на самом деле – это ежегодный бал-маскарад в Большом театре. Именно там, «средь шумного бала, случайно, в тревоге мирской суеты», встретил поэт свою будущую возлюбленную. И началась многолетняя драма двух любящих сердец; сколько дивных стихотворений создал поэт, посвященных этой своей, полной страданий любви. Прочитайте биографию А. К. Толстого – прекрасного русского человека и замечательного поэта, вы узнаете из нее все перипетии этой грандиозной драмы. Любители оперного театра, конечно, вспомнят «Бал-маскарад», знаменитую оперу Верди, трагическая развязка которой происходит на бале-маскараде. Любители кино вспомнят, что относительно недавно на наших экранах шел фильм итальянского режиссера Этторе Скола «Бал», фильм без единого слова – все события фильма создают напряженный сюжет и раскрываются в пластическом поведении актеров. А мы с вами вспомним, конечно, прекрасный, овеянный фантастикой роман В. Ф. Одоевского «Русские ночи». В нем есть небольшая новелла под названием «Бал», фантасмагорическое страшноватое изображение бала в честь победы в войне. (Вспомним также стихотворение А. И. Одоевского «Бал» – фантастическую и немного жутковатую фреску.) К величайшему сожалению, сегодня произведения В. Ф. Одоевского, писателя, музыканта, философа, критика, общественного деятеля, не очень популярны, а зря, все созданное им и сегодня выглядит часто более современным, чем некоторые опусы нынешних писателей, а о языке нечего и говорить, до языка Одоевского им далеко. Впрочем, вы, наверное, читали в детстве чудесную повесть-сказку Одоевского «Городок в табакерке»? Помните городок Динь-динь, в котором обитают мальчики-колокольчики, дядьки-молоточки да еще дядька-Валик и царевна-Пружинка? В середине прошлого века был создан на радио великолепный, ставший классикой радио, спектакль для детей по сказке Одоевского – его поставила выдающийся режиссер радиотеатра Роза Иоффе. Послушайте его непременно – это нетрудно сейчас сделать – это произведение настоящего большого искусства, тот случай, когда радиоспектакль становится зримым, а это, согласитесь, сделать довольно трудно. Одоевский, писатель выдающийся, временами гениальный, оказал огромное влияние на нашу литературу; он – предтеча многих замечательных явлений русской литературы, от Достоевского до Василия Аксенова.