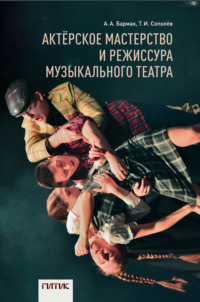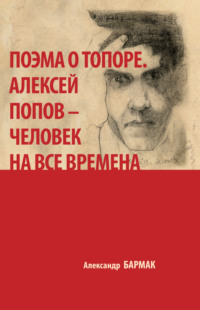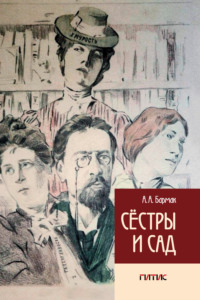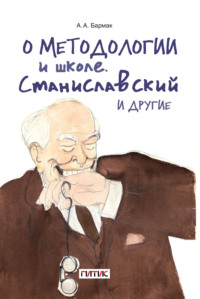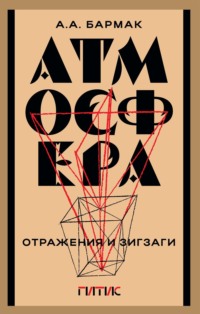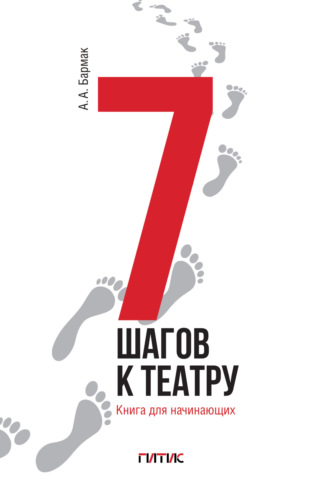
Полная версия
7 шагов к театру. Книга для начинающих
Наконец наш герой пробирается в коридор и видит в нем еще одно «чудо» – неподвижно сидящую на табурете женщину-великаншу – да, и такое показывали в театре перед спектаклем, чтобы развлечь публику. Вокруг нее столпились «зефиры» – артисты, изображающие в спектакле хор зефиров. Мимо легкой балетной походкой проходит на сцену хор стройных нимф. Среди них есть знакомая нашего молодого человека, но, погруженный в свои мысли, он не замечает ее, скромную корифейку третьего разряда, ведь его мысли заняты несравненной Шевалье.
Что такое – корифейка? Мы знаем слово «корифей» – оно означает человека, достигшего в своем деле выдающихся успехов. В театре Древней Греции корифей – руководитель хора, он выступал в качестве посредника между хором и главными действующими лицами. В балете звание корифеек или корифеев имели артистки и артисты кордебалета, занимавшие первые места в группе танцующих, танцевавшие впереди линии кордебалета, иногда исполнявшие даже небольшие соло; остальных называли просто фигурантами и фигурантками. Как видно, корифейки и, судя по всему, корифеи ценились согласно разряду – третий был самый низкий. Но само по себе назначение в корифейки для молоденькой балерины было совсем неплохим началом. Гораздо позже, в двадцатом веке, великая русская балерина Тамара Карсавина напишет в воспоминаниях о том, какую радость она испытала, когда прочла приказ о зачислении ее в труппу театра – речь идет о знаменитом на весь мир балете Мариинского театра – на должность корифейки.
Тут как будто бы возникает вопрос: если знакомая нашего молодого человека была корифейкой, то есть танцовщицей кордебалета, то почему она выступала в хоре нимф – ведь артисты хора поют? Ответ очень простой – артист все должен был уметь делать на сцене. Петь, танцевать, говорить. Театральных школ в нынешнем понимании тогда еще не было, артистов готовили из мальчиков и девочек при театре.
Набирали, бывало, из крепостных – и далеко не всегда они получали вольность от своих хозяев. Наш великий актер Михаил Семенович Щепкин был еще крепостным, когда поступил на сцену, и получил вольную только через двадцать с лишним лет, будучи уже знаменитым артистом, для которого драматурги специально писали пьесы! Вы подумайте – знаменитый актер и крепостной, которого можно было в любой момент по прихоти хозяина-помещика продать, и так двадцать с лишним лет! А скольким актерам крепостных театров так никогда и не удалось получить вольную. Сколько было талантов погублено в прямом смысле этого слова – запорото, доведено до самоубийства, сослано в дальние глухие углы. История русского крепостного театра, история русских крепостных художников – это особая история театра и искусства, пожалуй, единственная в мире.
Прежде всего набранных при театре детей учили танцевать, потом петь, а уж если с танцем и пением дело шло не очень, они поступали… в драматические артисты. Хотя, надо заметить, что самого понятия «артист драмы», как сегодня, тогда, в сущности, еще не было. Не существовало, так сказать, узкой специализации актера. Сегодня тоже актер должен уметь все. Мы знаем, например, что в мюзикле, очень популярном нынче жанре, не всегда, впрочем, правильно понимаемом (мы еще об этом скажем), артисты и поют, и танцуют, и говорят. Но в те времена артисты должны были обязательно уметь петь оперу, да еще в самые оперные времена, когда композиторы как нарочно изощрялись в вокальных трудностях, порою в ущерб и смыслу, и художественному вкусу, когда владеть вокальным голосом необходимо было в совершенстве – так сложны были партии, написанные композиторами. Вообще опера и балет стояли тогда в общественном мнении несколько выше собственно драматического театра.
Но вот репетиция начинается, на сцене наконец установлены декорации, представляющие волшебные чертоги Амуровы, «поддуги» или падуги изображают не очень, как замечает автор, удачно звездное небо, и все незваные гости театра рассаживаются кто в зале, а кто по углам сцены. Репетируют сочинение господина Богдановича «Радость Душеньки», лирическую комедию в одном акте, как значилось в афише спектакля: «Последуемую балетом», о чем сообщает Штаалю в романе старичок актер, играющий в спектакле роль бога Бахуса. Лирическая – это означало, что спектакль будет непременно с музыкой и пением. Что же касается великанши, которую с таким интересом разглядывали зефиры, то ее, вероятно, покажут зрителю перед спектаклем, в числе прочих любопытных и не очень любопытных номеров.
Автор «Душеньки» И. Ф. Богданович был оригинальной фигурой даже среди поэтов и драматургов последней четверти восемнадцатого века, персонажей, в общем‐то, беспокойных и склонных к творческой ревности к собратьям по поэтическому поприщу.
В те времена можно было быть поэтом, но называться поэтом было не совсем прилично – это означало не иметь никакого занятия и звания, а без звания в те времена человеку деваться было некуда: поэзия профессией не была и делом не считалась. Быть поэтом в России и не иметь никакого чина было просто опасно – об этом говорит трагическая судьба одного из наших самых первых литераторов, человека исключительно образованного, бесконечно много сделавшего для русской литературы, реформатора российского стихосложения, основоположника, в сущности, русского классицизма, великого труженика на литературном поприще поэта и философа Василия Тредиаковского. Он был жестоко избит кабинет-министром Анны Иоанновны Волынским за отказ писать стихи для свадьбы царских шутов в так называемом Ледяном доме.
Даже наш великий поэт Державин не очень‐то любил, когда его называли поэтом, пусть и великим. Гораздо больше ему нравилось звание сенатора или министра юстиции; он и был сенатором и министром.
Богданович тоже служил, сначала в Иностранной коллегии, секретарем посольства при дворе юного тогда саксонского курфюрста Фридриха-Августа III. Да, да, внука того самого Августа I Сильного, который получил от алхимика, ставшего гончаром, Иоганна Бёттгера фарфор вместо золота и был этому немало доволен. Внук стал с помощью Наполеона не просто курфюрстом, а саксонским королем Фридрихом-Августом I, впрочем, курфюрсты тогда уже никому не были нужны – императоры больше не избирались. Покинув двор будущего саксонского короля, Богданович служил в Российском государственном архиве. И всю жизнь писал стихи.
Между делом, как будто бы для забавы, он написал прелестную шутливую лирическую повесть в стихах «Душенька», которая принесла ему всероссийскую славу. Это было вольное переложение или, как тогда говорили, парафразис, поэмы французского поэта и баснописца Лафонтена «Любовь Психеи и Купидона», который в свою очередь позаимствовал сюжет, данный в виде вставной новеллы в знаменитом романе «Золотой осел» древнеримского писателя Апулея. Это о нем сказано в «Евгении Онегине» Пушкина в качестве одной из характеристик главного героя: «Читал охотно Апулея, а Цицерона не читал». Читать роман веселого Апулея «Метаморфозы, или Золотой осел» пушкинскому герою было куда занятней, чем изучать строгие речи умнейшего политического деятеля и оратора Древнего Рима периода падающей в пропасть республики. Но еще более занятным оказалось для современников читать повесть в стихах Богдановича, написанную простым, легким, изящным русским языком, языком, которого до сих пор еще в литературе не было, при этом весьма близким к разговорной речи. А это выгодно отличало автора «Душеньки» от многих других авторов поэтических произведений, неукоснительно следующих канонам, то есть правилам, классицизма, пришедшим к нам прежде всего из Франции и державшимся в своих одах – а это был в то время излюбленный поэтический жанр – несколько тяжеловесного стиля так называемой ученой поэзии, язык которой был еще очень привязан к церковнославянскому языку.
Психея в переводе с греческого означает «душа».
Богданович сделал, может быть, и сам того не ведая, абсолютно гениальную вещь – он перевел имя героини греческого мифа русским словом «душенька». И она предстала перед читателями больше прелестной русской девицей, чем изваянной из мрамора героиней древнегреческих сказаний. Поэма стала невероятно популярной, ею зачитывались все круги тогдашнего общества, поэта называли гениальным, что было, конечно, некоторым преувеличением, но все же, говоря откровенно, не таким уж и большим – среди его почитателей была сама императрица Екатерина Великая. Она и предложила автору написать пьесу для театра на основе его поэмы, что он с готовностью и сделал, назвав пьесу «Радость Душеньки». Вот на репетицию этой самой «Радости Душеньки» и пришли Юлий Штааль и его светские приятели.
Ну что ж, не будем уподобляться светским бездельникам, не пойдем с ними на репетицию – не будем мешать актерам, им и без нас трудно сосредоточиться на своих ролях, в присутствии посторонних и мало чего понимающих в работе театра личностей.
Самым большим событием этого занятного театрального дня, впрочем, не совсем оцененным Штаалем и его легкомысленными приятелями-повесами, была встреча с великим русским актером, а также театральным педагогом, режиссером, драматургом И. А. Дмитревским. Отметили они только, что старый актер выглядел настоящим вельможей, однако к внушительности примешивалось у него и изящество. «Ну прямо маркиз», – восхищенно говорит о нем один из приятелей Штааля. «Да помаркизестей любого маркиза будет», – справедливо возражает ему другой.
Пока идет репетиция, поговорим немного об этом во многих отношениях замечательном русском человеке и о русском театре того времени.
Иван Афанасьевич Дмитревский был, как и его старший товарищ Фёдор Григорьевич Волков основателем профессионального и, что очень важно, постоянно действующего государственного, по тем временам значит – императорского, русского театра.
И Фёдор Григорьевич Волков, и его младший товарищ Дмитревский представляли собой прекрасный тип того русского человека, который, если поставит перед собой благородную цель, то все сделает для того, чтобы ее достигнуть.
Фёдор Григорьевич Волков был необыкновенно одаренным человеком – актер, режиссер, драматург, переводчик, поэт, живописец, скульптор, музыкант, композитор и даже прекрасный резчик по дереву. Свидетельства этого его ремесла сохранились до сих пор.
Одной из достопримечательностей города Ярославля, которую и сегодня с гордостью показывают путешественникам, является церковь Николы Надеина, один из первых каменных храмов, возведенных на Руси после прекращения долгого времени Смуты. Церковь построена в 1620 году в честь св. Николая Чудотворца, епископа Миры Ликийской, города в малой Азии.
На Руси его прозвали Николаем Угодником Божиим и почитали повсеместно, считали чуть ли не самым главным святым, мужицким Богом называли. В самом деле, у нас к великому святому отношение особенно трогательное, почти детское, святителя чтут на Руси едва ли не превыше всех других святых, народом создана была легенда, что Никола мог бы Богом стать, да не захотел. Два праздника – Никола зимний, Холодный, Никола вешний, Травник; оба тесно связаны с русской крестьянской жизнью. Так получилось, что епископ из Малой Азии, чьи мощи были насильственно вывезены, а правильнее сказать, просто-напросто похищены в одиннадцатом веке итальянскими купцами из ограбленного ими монастыря города Миры и перевезены в итальянский город Бари, стал столь почитаемым на Руси, таким типично русским святым – может быть, это случилось потому, что невероятная доброта св. Николая – не случайно в западной традиции он покровитель детей – получила чистый отзвук в душе русского народа.
Строителем церкви был простой русский человек, ярославский купец Надея Светешников – отсюда и пошло название: церковь Николы Надеина. Спустя сто с лишним лет от основания храма, прихожанином его стал купеческий сын, будущий великий русский актер Фёдор Волков. Именно ему народная молва, как будто не без оснований, приписывает создание великолепного деревянного резного иконостаса. Что касается алтарной преграды, сооруженной в 1752 году, то она выполнена по рисункам и при участии Фёдора Волкова. Царские врата, то есть центральные двери, ведущие в алтарь, очень необычны – они представляют собой… театральную сцену, обрамленную драпировками.
Волкову было двадцать три года, а его товарищу Дмитревскому восемнадцать лет. Уже два года, как основал Волков театр в Ярославле в 1750 году. Неизвестно, как сложилась бы судьба молодого театра. Волков все свои средства, оставшиеся после того, как он отдал братьям в управление заводы, полученные им в наследство, потратил на театр, а это предприятие, во все времена весьма дорогостоящее и, увы, не всегда приносящее прибыль, было бы хоть рентабельным, чтобы можно было продолжать дело, – и то хорошо.
Вообще, надо сказать, что наш первый актер по натуре своей был бессребреником, даром, что купеческий сын. Для себя он ничего не хотел. Впоследствии отказался даже от ордена Андрея Первозванного, который намеревалась, было, дать ему императрица Екатерина Великая, многим ему обязанная лично. Говорят, что Волков, человек большого ума, сыграл весьма выдающуюся роль в перевороте 1762 года, в так называемом Петербургском действе, в результате которого Екатерина безо всяких на то законных прав и оснований взошла на русский трон. Просил он только денег для театра, а для себя лишь малого – жить без нужды и все время отдавать театру, то есть любимой работе. Как видим, христианская этика была для великого актера не чуждой; он не хотел для себя ничего лишнего, но и отлично понимал духовную опасность нищеты, а превыше всего ставил труд. Умер Волков рано – ему было всего тридцать четыре года, в 1763 году в Москве, смертельно захворав на представлении сочиненного и поставленного им грандиозного и первого в России массового театрализованного действа, вошедшего в историю под названием «Торжествующая Минерва», посвященного, само собой разумеется, Екатерине Великой.
Это очень печально, но где находится могила его – точно неизвестно; одно время считалось, что первого русского актера похоронили в Спасо-Андрониковом монастыре на реке Яузе, там как будто бы там была в советское время установлена памятная плита, конечно, без креста. По другой версии, похоронили первого русского актера в Златоустинском монастыре, одном из самых древних в Москве, но в советское время монастырь был уничтожен, просто стерт с лица земли. На месте собора поставлены были в тридцатых годах прошлого века конструктивистские жилые дома, в которых, словно в насмешку над прежней обителью и в благодарность разрушителям самого древнего московского монастыря, поселили граждан, лично причастных к уничтожению древней святыни.
Там или не там находится последнее пристанище великого человека, создателя русского театра, но памятник он воздвиг себе бессмертный и именно рукотворный – русский театр.
В России всегда много значил случай.
Представьте себе, вдруг – заметим, что это словечко «вдруг» много значит в литературе и особенно в театре – из Санкт-Петербурга в Ярославль, с государственными делами, совершенно с театром не связанными, проверял, наверное, что‐нибудь, инспектировал, разведывал, прибывает некий граф Игнатьев. И, пораженный, видит что‐то небывалое: в Ярославле – театр, какого не знала столица! Тотчас доносит в Петербург; оттуда приказ – немедленно доставить актеров Фёдора Волкова ко двору.
Высочайшие приказы в России выполнялись тотчас же.
И вот в январе 1752 года из Ярославля в Санкт-Петербург по снежной дороге, а стало быть, относительно быстро, двинулся обоз, в котором ехали представляться императрице Елизавете актеры волковского театра, везли с собой в новую жизнь надежды, семьи, нехитрый домашний скарб, а также театральный реквизит, костюмы и декорации. Только представьте себе эти необозримые ледяные пространства от Ярославля до Санкт-Петербурга, занесенные снегом поля, дремучие заснеженные леса, полные опасностей – дикие звери, волки в то время забегали зимой бывало в самый центр Петербурга… Что ж говорить об окрестностях – разбойники, холод и маленький обоз русского театра в этом снежном царстве.
Да, в этом обозе, пробираясь по вешкам сквозь пургу и метели, ехал в свое прекрасное будущее русский театр – во всем его скором величии!
Волковцы сыграли перед императрицей трагедию А. П. Сумарокова «Хорев». Ее Величество остались довольны. А еще более довольным был, наверное, автор трагедии Сумароков. Дело в том, что в ту эпоху создалась довольно странная ситуация – русские драматурги писали пьесы, трагедии, комедии, оперы, а они часто оставались только на бумаге – представлять их было некому. Вас не должно смущать в этом перечне слово «опера». Дело в том, что в восемнадцатом веке очень долго автором оперы принято было считать поэта, написавшего либретто, а не композитора, сочинившего музыку. тогда еще не существовало такого понятия, как музыкальная драматургия. Далеко не сразу стали писать имя композитора большими буквами, а либреттиста – мелким шрифтом внизу.
Был такой гениальный литератор, поэт, смелый человек и даже в какой‐то степени, что называли тогда во Франции chevalier d’industry, то есть авантюрист или, как говорили в те времена в России, – «волочильных дел мастер», со всем тем умнейший человек своего времени аббат Лоренцо да Понте. Он написал блистательные либретто к трем великим операм Моцарта: «Женитьба Фигаро», «Дон Жуан» и «Так поступают все женщины». Находясь в Америке, куда он сбежал из Европы, нищий, злой, он стоял у афиши, извещавшей о скором представлении оперы Моцарта, тыкал в нее тростью и кричал: «Это я! Я написал ему оперу!». Никто его гнева не понимал, но он был очень прав! Без его либретто, написанных великолепным языком, полных изумительных, в том числе фонетических красот, оперы Моцарта не были бы такими, какими мы их знаем.
Между прочим, это говорит еще и о том, что тексту, звучащему, спетому слову в опере всегда придавали большое значение, чего не скажешь о современном оперном театре.
Как бы то ни было, русские авторы редко видели свои произведения на сцене театра. Время от времени их ставили некоторые любительские коллективы, например, в театре Шляхетского корпуса – так называлось военное училище для дворян – в других местах, что вполне понятно, профессионального постоянного русского театра еще не было. Кроме того, должно было пройти время, чтобы русский театр встал на ноги и наконец потеснил немецкий, французский театры, существовавшие в Петербурге, а русские актеры, такие, как тот же Дмитревский, стали выразителями духа времени и кумирами публики всех слоев русского общества. Но ведь драматургу хочется увидеть свое творение на сцене и чтобы его увидела публика – для чего ж иного он писал. И вот теперь такая возможность представилась.
Указ императрицы Елизаветы или, как в те времена писали и произносили, Елисавет Петровны от 30 августа 1756 года гласил об учреждении русского профессионального театра.
Вот этот исторический указ, с небольшими сокращениями.
«Повелели Мы ныне учредить Русский для представления трагедий и комедий театр, для которого отдать Головкинский каменный дом, что на Васильевском острову, близ Кадетского дома.
А для оного повелено набрать актеров и актрис: актеров из обучающихся певчих и Ярославцев в Кадетском корпусе, которые к тому будут надобны, а в дополнение еще к ним актеров из других неслужащих людей, также и актрис приличное число.
На содержание онаго театра определить по силе сего Нашего указа, считая от сего времени в год денежной суммы по 5000 рублей, которую отпускать из Статс конторы всегда в начале года по подписанию Нашего Указа. Для надзирания дома определяется из копиистов Лейб-Компании Алексей Дьяконов, которого пожаловали Мы Армейским подпорутчиком с жалованием из положенной на театр суммы по 250 рублей в год. Определить в оный дом, где учрежден театр, пристойный караул.
Дирекция того Русского театра поручается от Нас бригадиру Александру Сумарокову, которому из той же суммы определяется сверх его бригадирского оклада, рационных и деньщичьих денег в год по 1000 рублей… А какое жалованье, как актерам и актрисам, так и прочим при театре производить, о том ему – бригадиру Сумарокову от Двора дан реестр».
Так был учрежден «Русский для представления трагедий и комедий театр».
Несладко ему пришлось.
Не было собственного помещения, в Головкинском доме русский театр просуществовал недолго. Надо сказать, что само по себе место было выбрано неудачно, вдали от центра столицы, и театр посещался плохо. Сама императрица в театр, конечно, не ездила, актеров привозили во дворец. Отсутствие собственного помещения для любого театрального коллектива – проблема огромная, трудно все время играть на разных сценах, или, как говорят сегодня, площадках, а именно так существовал русский театр долгое время. Жалованье русские актеры получали мизерное, театр – содержание малое; всего на русский театр правительство денег выделяло, как следует из Указа, пять тысяч рублей в год, из них еще надзиравшему над театром бывшему копиисту, лейб-компанскому подпоручику Дьяконову причиталось 250 рублей, да и «пристойному караулу» что‐то, наверное, перепадало. Караул – это дело ответственное, так что на сам театр уходило далеко не полных пять тысяч, не то что немецким и французским труппам – тем назначено было по двадцать пять тысяч в год. Сумароков, первый директор русского театра, слезно умолял правительство дать денег на театр; давали понемногу, неохотно и, как всегда, недостаточно.
Это старинная беда – экономить на отечественном искусстве.
Только в 1832 году русская драматическая труппа в Петербурге наконец обрела свое собственное помещение в здании, построенном по проекту архитектора Карла Ивановича Росси, которое стало украшением города. Новый театр получил название в честь супруги императора Николая Первого – Александринский.
В Москве же театральное здание специально для драматической труппы, отделившейся от оперной и балетной, было построено ранее, чем в Петербурге, в 1824 году, отсюда берет свое начало наш знаменитый Малый театр. Истоки этого великого театра, ставшего неотъемлемой частью русской культуры, этого доступного всем слоям общества образовательного учреждения, просветительского центра (современники называли его вторым университетом) лежат в театре Московского университета, открытом в том же памятном и достославном для истории русского театра 1756 году.
Университетский театр возглавлял Михаил Матвеевич Херасков, прекрасный русский поэт, автор знаменитой в восемнадцатом веке первой русской эпической поэмы «Россиада», драматических произведений, замечательных стихотворений.
На одно из них, возвышенное и трогательное, «Коль славен наш Господь в Сионе» написал музыку великий русский композитор Д. С. Бортнянский, и оно стало как раз в царствование императора Павла гимном Российской империи, а позже неофициальным российским гимном. Слова его знали все русские, после революции это был гимн русской эмиграции, долгих лет изгнания. Сегодня эту мелодию можно услышать в исполнении карильона – так называют музыкальную машину из колоколов, установленную на колокольне собора Петра и Павла Петропавловской крепости Санкт-Петербурга.
Коль славен наш Господь в Сионе,Не может изъяснить язык.Велик Он в небесах на троне,В былинках на земли велик.Везде, Господь, везде Ты славен,Во дни, в нощи сияньем равен.Одни только эти «былинки», в которых велик Господь, делают Хераскова гениальным поэтом, а этот образ навеян ему Библией – тогда эту книгу знали хорошо. И как же неприятно, что в некоторых изданиях этого стихотворения мы довольно часто находим не «былинки на земле», в каждой из которых, по словам поэта, велик Господь, а сталкиваемся с какими‐то совершенно немыслимыми «былинами на земле». Какое искажение, какое непонимание поэтической мысли автора! А вот с былинками мы снова встречаемся, правда, гораздо позже, в поэме «Иоанн Дамаскин» А. К. Толстого, прекрасного поэта и великолепного драматурга девятнадцатого века. Герой поэмы благословляет «и в поле каждую былинку» – нужно ли говорить, откуда здесь взялись «былинки». Вообще, надо понимать, что русские поэты – это не только великие Пушкин, Лермонтов, Некрасов, Фет, Тютчев, то есть поэты девятнадцатого века, но и замечательные, а иногда и по‐настоящему великие, как Державин, поэты века восемнадцатого. Уже в восемнадцатом веке начала становиться великой русская поэзия, мы об этом часто забываем. В произведениях поэтов восемнадцатого века мы находим россыпь жемчужин родного языка, читать их – это значит заново узнавать родной язык, переживающий сегодня не самую лучшую пору.
Нужно сегодня взглянуть на поэтический восемнадцатый век любящим взором. Не следует, конечно, уподобляться Крутицкому из пьесы А. Н. Островского «На всякого мудреца довольно простоты», «очень важному господину», как сказано о нем в списке действующих лиц комедии, который, кроме поэтов восемнадцатого века, никаких других знать не хотел, современную литературу ни во что не ставил и при каждом удобном и неудобном случае вспоминал Сумарокова и декламировал наизусть стихи Озерова из трагедии «Дмитрий Донской», осточертев всем своим, даже очень терпеливым слушателям. И вообще считал, что общество потому становится безнравственным, «что на театре больше трагедий не дают», что, кстати, отчасти верно – трагедии выводят на сцену героев, обладающих высокими чувствами и великими страстями, которых порою так не хватает современной эпохе. При внимательном рассмотрении литература русского классицизма, при всей своей иногда шероховатости и ходульности, бывает, просто ошеломляет богатством языка, его поэтической красотой; может быть, потому, что наш современный язык беден и невыразителен; мы разучились ценить слово и написанное, и произнесенное. Впрочем, каковы темы наших сегодняшних бесед, да и можно ли сейчас наши разговоры, часто урывками, назвать беседами, и какой уж тут классицизм…